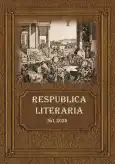J. G. Hamann in History and Historiography of Philosophy
- Authors: Streltsov A.M.1
-
Affiliations:
- Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 6, No 1 (2025)
- Pages: 27-40
- Section: PHILOSOPHY
- URL: https://bakhtiniada.ru/2713-3125/article/view/305658
- DOI: https://doi.org/10.47850/RL.2024.6.1.27-40
- ID: 305658
Cite item
Full Text
Abstract
The article unfolds reasons for discrepancy between J. G. Hamann’s influence on some key philosophic figures of the 18–19th centuries and the modest place that was allocated to him in historiography and history of philosophy in the context of changing philosophic agenda. It is demonstrated that since the 19th century Hamann was interpreted as irrationalist, representative of philosophy of faith and feeling, precursory of existentialism, post‑modernism, and also linguistic turn.
Keywords
Full Text
При изучении литературного творчества Иоганна Георга Гамана и сравнении воздействия, которое его экзерсисы оказывали на современников и мыслителей последующей эпохи, в число которых входили такие люди, как Гердер, Якоби, Гете, Жан Поль, Шлегель, Гегель, Шеллинг, Кьеркегор и Дильтей, и более чем скромным местом, которое было ему отведено в рамках немецкой философской мысли в историко-философских трудах, возникает чувство, близкое к недоумению. Как объяснить контраст между такой лакуной и почти что мистическим пиететом или по крайней мере интересом, который он вызывал у ряда именитых авторов, опосредованно влияя на еще большее число философов [Kirmmse, 1996, p. 220; Haynes, 2012, p. 45]?
Что могло быть тому причиной: малодоступность самих текстов Гамана, особенности его стиля, то, что он не вписывался в философскую традицию как таковую в представлении историков философии, какое-либо сочетание этих или иных факторов? Для ответа на этот вопрос мы обратимся как к самим учебникам по истории философии, так и к специализированным трудам по гамановедению.
Не составляет труда продемонстрировать, что в большинстве книг по истории философии Гаман едва ли упоминается. Ему не посвящено отдельной статьи в отечественном энциклопедическом словаре «Современная западная философия», причем само его имя приводится там только в заголовке книги Исайи Берлина о противниках Просвещения [Современная западная философия …, 2009, с. 223]. Неудивительно, что Гаман не упоминается в экстравагантной «Истории западной философии» Б. Рассела, в которой отдельная глава нашлась для Байрона, но и в более специализированных учебниках по истории западной философской мысли, в том числе исследованиях по континентальной философии, ему не находится [Kenny, 2006], либо почти не находится места [Реале, Антисери, 2010, с. 41-43; Уэст, 2015, с. 60-61; Гулыга, 1985, с. 28-29].
В ряде случаев после выступления на тему философии Гамана на философских конференциях, пусть даже и не специализировавшихся по кантоведению или эпохе Просвещения, автору данной статьи приходилось выслушивать вопросы о том, чем Гаман вообще «заслужил» такое внимание, каким был его вклад в историю философии. Очевидно, Гаман не входит в «джентльменский набор» имен, которые «на слуху» у философов и историков философии широкого профиля.
В то же время Гете отмечал, что в Гамане усматривали нечто «сокрытое, непостижимое» [Гете, 1969, c. 373], и сравнивал его роль для немцев с той, что Вико играл в итальянской литературе [Гете, 1980, с. 94]; Жан Поль считал, что Гаман предвосхитил последующее время [Jean Paul, 1990, p. 379]; Шлегель сокрушался, что такого мудрого и глубокого мыслителя не признали раньше и потратили вместо этого годы впустую (на Канта!) [Schlegel, 1961, p. 628]; Гегель посвятил работам Гамана единственную в своей карьере рецензию, довольно-таки подробную [Гегель, 1972, c. 577-643]; Шеллинг почитал Гамана великим и восхвалял его за умение соединять противоположности [Schelling, 1856a, p. 114; Schelling, 1856b, p. 171]. Гердер был учеником Гамана, а с Якоби Гаман поддерживал дружбу и вел активную переписку в последние годы жизни [Knoll, 1963, pp. 22-87].
В качестве одного из ключевых текстов, перебрасывающих мостик от признания гения Гамана его соотечественниками к игнорированию его мысли историками философии, уместно рассмотреть высказывание Кьеркегора в его Заключительном ненаучном послесловии к «Философским крохам»: «Не стану скрывать от вас, что я восхищаюсь Гаманом, хотя и готов признать: если уж мы предполагаем, что он пытался работать последовательно и связно, то гибкости его мыслей все же недостает уравновешенности, а его сверхъестественное постоянство и упорство нуждаются в большем самоконтроле. Однако вся оригинальность его гения уже просматривается в кратких фразах, а глубина формы полностью соответствует резким рывкам мысли. Душой и сердцем, до последней капли крови он сосредоточен на едином слове, – и это слово есть страстный протест высокоодаренного гения против возможности построить систему наличного существования. Но система настолько гостеприимна. Бедный Гаман, тебя свели к одному параграфу к книге Михелета1. Не знаю, отмечена ли как-то твоя могила; не знаю, затоптали ли ее совсем равнодушные посетители; но я твердо знаю, что силой или хитростью на тебя напялили униформу этих параграфов и построили в те же шеренги» [Кьеркегор, 2012, с. 244].
Гаман, как и Якоби, о котором Кьеркегор говорит в последующем рассуждении, боролись против системы, под которой имелись в виду, надо полагать, абстрактные схемы рационалистического проекта Просвещения. Но система оказалась «гостеприимной»: она переварила их, сделала частью себя в рамках гегелевского подхода к истории философии. Ученик и преемник Гегеля по университетской кафедре Карл Людвиг Михелет не только собрал и выпустил в свет лекции Гегеля по истории философии, но также и издал в 1837‑1838 гг. собственную двухтомную «Историю недавних систем философии в Германии от Канта до Гегеля» [Michelet, 1837-1838], в первой части которой действительно «построил в шеренгу» Гамана, что тем более иронично, так как Гаман всю жизнь был противником каких-либо систем. В типичном формате классической немецкой педантичности Гаман был встроен Михелетом в «философию чувства и веры» наряду с Гердером и Якоби, – классификация, которая была популярна на протяжении середины и конца XIX в. и встречается до сих пор. Вся же система в книге Михелета в отношении Гамана иерархически выглядела следующим образом: в первой части Михелет рассматривает философские системы от Канта до Фихте, в первой книге первой части у него идет «субъективный идеализм», далее во втором разделе – «философия непосредственного знания», затем во второй главе – философия веры (Glaubensphilosophie), и, наконец, в качестве первого подраздела этой конкретной философии идет Гаман.
Кеннет Хэйнс, один из переводчиков Гамана на английский язык, документирует рецепцию Гамана в истории философии XIX в. [Haynes, 2021, pp. 35-36] и, в частности, отмечает, что в первые два десятилетия Гамана игнорировали, так что обсуждение его началось в большей степени после публикации собрания его сочинений Фридрихом Ротом в 1821–1825 гг. История философии Михелета была написана как раз после этого издания. Как гегельянец, Михелет нашел «место» для Гамана в диалектическом развитии философской идеи. Гаман наряду с Гердером и Якоби выступил у него в качестве антитезиса формализму Канта, причем в этой триаде Гаман значится как первое и самое слабое звено. Михелет кратко обсуждает его религиозное верование, критику им философии и, наконец, собственные философские представления. Такое схематическое и механическое включение Гамана в конгломерат «философии веры» (Glaubensphilosophie) обусловило дальнейшую историко-философскую классификацию, что не позволило интерпретировать Гамана как самостоятельного мыслителя и отличать его должным образом от двух других представителей этого трио.
В то время как первоначально понятие «философии веры» или «философии чувства и веры» применялась именно к Якоби и его школе, далее самого Гамана вслед за Михелетом стали рассматривать как органичного представителя этого направления. Именно так его представляют гегельянские историки философии Куно Фишер [Fischer, 1855] и Эдуард Целлер [Zeller, 1873]. Так, Целлер, подробно разобрав философию Канта, далее отводит главу его «сторонникам и противникам» [Zeller, 1873, pp. 416-463]. Гаман группируется им в один раздел с Гердером в разделе «философии веры», после чего идет Якоби как более сильный представитель этого направления.
Глава Баденской школы неокантианства Вильгельм Виндельбанд подобным образом рассматривает Гамана, но с некоторыми нюансами. Отмечая поверхностное сходство Гамана с Юмом в вопросе веры, он далее говорит, что «лишь с большими ограничениями позволительно назвать собственную точку зрения Гамана философией веры» [Виндельбанд, 2007, с. 606], потому что Гаман в отличие от Юма понимал веру в религиозном смысле. При этом Виндельбанд характеризует философию Гамана как «философию чувства», которая, по его мнению, сознательно отрицает саму философию и науку [Там же, с. 607]. Якоби далее придает мыслям Гамана более тонкую и глубокую форму, а Гердер развил его понимание индивидуальности, будучи в сравнении с Гаманом более строгим философом [Там же, с. 607‑608].
Присвоение такого места Гаману не ограничивалось немецкими историками философии, но стало «мейнстримом» и в отечественных исследованиях, конечно, с учетом малого обращения к Гаману в целом. Так его интерпретировали не только в XIX в. [Кожевников, 1897], но даже еще и в начале XXI [Волжин, 2006].
Проявлявший большой интерес к Гаману Дильтей встроил его в свою программу развития немецкого духа и самосознания [Haynes, 2012, p. 36], что в свою очередь оказало воздействие на прочтение Гамана Рудольфом Унгером [Unger, 1911], с которого начинается современная эпоха критических исследований его наследия. Унгер интерпретировал Гамана как иррационального критика Просвещения, антирационалиста не только в своей теоретической деятельности, но и внутренне, устроившего согласно такому представлению всю свою жизнь [Unger, 1911, p. 115]. Унгер полагает, что в случае Гамана его «иррационализм отрицает и принципиально враждует с почти что фанатической решимостью со всеми положениями более мягкого, гармоничного, взвешенного, светлого, положительного взгляда на мир и жизнь» [Unger, 1911, p. 577]. Ввиду масштаба исследования Унгера данный подход был основным на протяжении как минимум первой половины XX в. Трактовка Гамана как иррационалиста превалировала и в большинстве упоминаний о нем в русскоязычных работах [Асмус, 1965, с. 33-462; Гулыга, 1977, с. 62-63; Гулыга, 1985, с. 28-29; Волжин, 2006, с. 62-63].
В то время как к середине и второй половине прошлого столетия появились другие интерпретации Гамана, о которых будет сказано чуть далее, в начале 1990-х гг. случилось несколько неожиданное событие, встряхнувшее микрокосм исследователей Гамана. Известный историк и публичный интеллектуал Исайя Берлин выпустил биографию Гамана [Berlin, 1993a], которая разошлась большим тиражом и была переведена на множество языков. Будучи наследником Просвещения, Берлин интерпретировал Гамана с позиции модернизма. Большую часть своей исследовательской работы Берлин провел в 1950–1960-х гг. и представил в виде серии лекций в Колумбийском университете в Нью-Йорке в 1965 г., не доведя ее тогда до публикации. Она состоялась только через 30 лет, причем в первоначальные заметки Берлин внеc минимальные коррективы. Таким образом, случился своеобразный «взрыв из прошлого», вызвавший немалый резонанс. Следуя интерпретации Унгера, И. Берлин посчитал Гамана «пионером антирационализма во всех областях» [Berlin, 1993b]. Особенность подхода Берлина заключалась в том, что он не ограничился интерпретацией Гамана как иррационалиста, но пошел дальше, фактически проведя преемственную линию от Гамана к идеологии германского национал-социализма: «Гаман был фанатик … Эта ненависть и этот слепой поток питали поток, приведший к социальному и политическому иррационализму, в особенности в нашем веке в Германии …» [Berlin, 1993a, p. 121].
Книга Берлина спровоцировала резко критический отзыв ведущего американского гамановеда Джеймса О’Флаэрти в литературном приложении Нью-Йорк Таймc от 21 октября 1993 г., в котором он обвинил его в явной недооценке роли разума в концепции Гамана, на что Берлин в свою очередь ответил в выпуске 18 ноября того же года, сделав эту полемику достоянием широкой общественности3. Претенциозное допущение Берлина об опосредованном влиянии Гамана на политический иррационализм германского национал-социализма спровоцировало дальнейшую дискуссию [Norton, 2007; Lestition, 2007].
Остановимся немного на трактовке Гамана как иррационалиста, с нашей точки зрения, неверной и обусловленной во многом той самой историко-философской схемой, в которой он был объединен с Якоби в рамках «философии чувства и веры». На этом примере можно увидеть, как мыслителя встраивают в историко-философскую школу на основании ей самой присущих посылок, что имеет значение и в нынешний «век поворотов». Подобно тому, как Гамана интерпретировали с точки зрения гегелевской философии, так сегодня его точно так же можно интерпретировать с точки зрения лингвистического или прагматического, или любого иного поворота. Определение места Гамана в истории философии, таким образом, в большой степени характеризует философскую позицию самого историка философии и во многом является результатом консенсуса на данный момент времени. Гаман как представитель философии чувства и веры в качестве антитезиса рационализму Канта и Гаман как предшественник лингвистического поворота – это одна и та же историческая личность, но другая историко-философская «оптика» позволяет выхватить те особенности его мысли, которые совершенно ускользают из вида в рамках иной концепции.
«Прыжок веры» (salto mortale) Якоби позволяет рассматривать его как иррационалиста, но в отличие от Якоби Гаман не был иррационалистом. Так, в дебютных «Сократических достопамятностях» 1759 г. Гаман придерживается скорее внерациального, сенсуалистского представления о вере. Рационист не может судить о вере именно потому, что вера не относится к сфере дискурсивной рациональности, но ощущается. Отношение веры к разуму Гаман уподобляет отношению зрения к вкусу [Hamann, 1950, p. 74]. Еще в античности Секст Эмпирик обосновывал в Adv. Math. VII, 302, 305, что когнитивный акт одной познавательной способности недостижим для когнитивного акта другой познавательной способности [Секст Эмпирик, 1976, с. 120-121; Берестов, 2015, с. 54-55], в частности, слух не может быть воспринят зрением, а объекты чувственных восприятий в целом не могут быть постигнуты рассудком. В этом смысле Гаман встраивается во вполне рациональный философский дискурс, с той разницей, что он использует данный аргумент не в рамках скептицизма, но для «расчищения пространства» для веры, над которым разум не властен. Гаман, тем не менее, не вводит нового мистического органа под названием «вера»: вера реализуется через существующие органы чувств [Волжин, 2006, с. 62]4.
Гегель при этом критикует концепцию веры Якоби как раз за отсутствие определенного содержания [Гегель, 1974, с. 188]. В отличие от Гамана Якоби проявлял действительно иррационалистические тенденции, противопоставляя веру разуму. Гаман, кстати, предупреждал его, что употребление им термина «вера» повлечет недоразумения и неприятности [Чернов, Шевченко, 2010, с. 178].
Гаман – не сторонник иррационализма. Под этим мы понимаем, во-первых, то, что Гаман использует аргументы, проводит аналогии, рационально использует риторические приемы. С.-А. Йоргенсен отметил, что «хотя подход Гамана можно посчитать причудливым и иносказательным, его произведения – не экстатические бормотания, но вразумительные и обоснованные аргументы» [Jorgensen, 2013, p. 35]. Во-вторых, мы считаем, что Гаману некорректно приписывать положения из учения Ф. Якоби о «непосредственном знании», а именно утверждение о противоречии веры разуму с дальнейшим требованием выбора веры несмотря на ниспровержение ее разумом. Тем не менее, в связи с тем, что Гамана стали рассматривать как представителя одного лагеря с Якоби в связи с особенностями классификации в рамках гегельянского историко-философского предприятия, трактовка его как иррационалиста стала основополагающей на долгое время.
Применительно к «Сократическим достопамятностям» Гамана проблема его интерпретации Берлином как иррационалиста в том, что он смешивает Гамана и последующую секуляризацию его мысли в движении Sturm und Drang, в рамках которого Genius (гений как внешний вдохновляющий дух) Гамана уступил место Genie как гениальному человеку, действующему вопреки разуму [Leibrecht, 1958, pp. 169-170; Schmidt, 2015, pp. 200‑206], что действительно вывело мысль Гамана в иррациональную плоскость. В случае же самого Гамана основной его аргумент состоит в том, что «вера ни рациональна, ни иррациональна, потому что разум не может ни доказать, ни опровергнуть ее» [Beiser, 1987, p. 29].
***
Наше обсуждение современных интерпретаций Гамана неизбежно фрагментарно, но для демонстрации того, как меняется с годами прочтение Гамана достаточно будет привести наиболее знаковые из них. Подробный перечень трактовок Гамана специалистами из разных предметных областей, в особенности в немецкой науке, можно найти в монографии ведущего отечественного гамановеда В. Х. Гильманова [Гильманов, 2003, с. 34‑104]. Некоторый всплеск интереса к Гаману в середине XX столетия, как и во время предыдущего, был связан с публикацией его трудов. После окончания Второй мировой войны Йозеф Надлер выпустил первое критическое издание трудов Гамана [Nadler, 1949‑1957]; до этого исследователи творчества Гамана были вынуждены обходиться изданием Фридриха Рота, увидевшим свет более чем за сто лет до этого [Roth, 1821-1825]. Не менее важным предприятием была публикация полного архива писем Гамана, многие из которых оставались ранее недоступными для исследователей [Hamann, 1955-1979]. Надлер также написал монографию о Гамане, в которой предложил интерпретировать его как христианского гностика нового времени [Nadler, 1949]. Насколько нам известно, такое прочтение Гамана не получило развития у дальнейших исследователей его творчества.
Хотя время от времени к Гаману пытались привлечь внимание отдельные энтузиасты, его наследие так и не стало достоянием широкой публики. Одно время казалось, что «кьеркегоровский ренессанс» середины XX в. приведет и к «гамановскому ренессансу» ввиду очевидного влияния Гамана на творчество Кьеркегора. Действительно, некоторые работы 1950–1960-х гг. явным образом эксплуатировали тему экзистенциализма при изучении наследия Гамана [Lowrie, 1950; Smith, 1960]5, однако широкое признание к Гаману так не пришло по причине малодоступности его текстов для массового читателя. С нашей точки зрения, такая «экзистенциальная» интерпретация Гамана была данью конъюнктуре, предлагая слишком поверхностный взгляд на его творчество. Как и в других подобных случаях, такой подход скорее сообщает нам о позиции и пристрастиях, и предпочтениях самого исследователя, чем об изучаемом авторе. При этом нельзя не признать, что рассмотрение Гамана под иным углом вполне способно пролить новый свет на его творчество и увидеть то, что было скрыто в рамках другого подхода. В самом деле, если весь XIX в. практически вся история философии писалась с позиции гегелевской философии, что в принципе мешало написать ее с позиции философии экзистенциализма, особенно если бы такой подход получил мощную институциональную поддержку? При таком взгляде на историю философии уже не только Кьеркегор, который сам, разумеется, не использовал термина «экзистенциализм», объявлялся бы прародителем этого философского направления, но эту линию можно было бы отодвинуть еще глубже в прошлое и начать обсуждение с Гамана как вдохновителя Кьеркегора.
На протяжении второй половины XX столетия Гамана интерпретировали с разных точек зрения, рассматривая как ключевые дихотомии в его мысли взаимоотношения Бога и человека [Leibrecht, 1958], философии и веры [Alexander, 1966], реляционность (relational metacriticism) саму по себе [Dickson, 1995], христологический принцип общения свойств (communicatio idiomatum) [Fritsch, 1999] и многое другое. Каждый пытался найти свой собственный ключ к Гаману, но никакой из этих подходов не получал всеобщего признания.
Профессор Тюбингенского университета Освальд Байер задал тон в современном гамановедении, предложив в работе 1988 г. концепцию Гамана как «радикального просветителя» [Bayer, 1988; также имеется перевод на английский: Bayer, 2012]. Как правило, исследования, вышедшие после этой книги, не могут обойтись без определенной рефлексии по поводу тезиса Байера, хотя не все готовы признать его ведущую роль [Pascale, 2014, p. 56]. Особенноcть подхода Байера в том, что он встраивает Гамана в последующую философскую традицию, делает постоянные отсылки к таким философам как Кант, Гегель, Фейербах, Маркс, Шлейермахер, Гадамер. Байер рассматривает Гамана как человека модерна – не как иррационалиста, но как просветителя, заполняющего имевшиеся пробелы самого Просвещения. При всех достоинствах подхода Байера, его Гамана почти так же трудно изолировать от последующей континентальной философии, как Гамана гегельянской школы – от его места в «шеренге параграфов» Михелета.
В англоязычном мире главным авторитетом в гамановедении XX в. стал филолог-германист Джеймс О’Флаэрти, посвятивший Гаману несколько монографий и множество статей. Он также не придерживался иррационалистического прочтения Гамана, предложив, что Гаман выступал именно против «дискурсивного разума», а не разума как такового. О’Флаэрти также уделил особое внимание философии языка Гамана – таким было его первое основное академическое сочинение о Гамане [O’Flaherty, 1952]. Тема философии языка продолжала привлекать внимание исследователей и далее [German, 1981; Vaughan, 1989]. Данные исследования его творчества велись обычно c позиции филологии или континентальной философии.
Так, диссертация и монография В. Х. Гильманова, выполнившего самое масштабное и серьезное на данный момент исследование на русском языке, уже на уровне названия («Герменевтика образа», «Гаман и литература Просвещения: опыт универсальной герменевтики») обращают внимание на языковой аспект мысли Гамана [Гильманов, 2003; Гильманов, 2006]. Такое обращение к философии языка Гамана или герменевтике как ключу к его творчеству позволяют сделать вывод о том, что в широком смысле Гаман интерпретируется здесь, как и других упомянутых работах, посвященных его языку, с позиции лингвистического поворота XX в.
В отдельных случаях интерпретация Гамана как родоначальника лингвистического поворота проговаривалась более откровенно. Кристина Лафонт располагает Гамана в начале обсуждения лингвистического поворота в герменевтической философии, посвятив первую главу своего исследования метакритике Гаманом чистого разума Канта с точки зрения естественного языка [Lafont, 1999, pp. 5-12].
Сопоставление Гамана с представителями аналитической философии в рамках лингвистического поворота ограничивалось Витгенштейном [Dickson, 1995, pp. 311-318; Gray, 2012; Snellman, 2018; Halpern, 2019]. По крайней мере, нам не попадались работы, где бы Гамана рассматривали в связи с какими-либо иными аналитическими философами. Поздний Витгенштейн с его «языковыми играми» привлекал преимущественное внимание исследователей, потому что здесь напрашивались особенно наглядные параллели с камуфляжными текстами Гамана. Утверждалось, что Гаман предвосхищает его высказывания о языке [Gray, 2012, p. 104]. Однако исследователи вставали перед дилеммой: что делать с тем, что у нас нет точных данных о том, что Витгенштейн действительно читал Гамана, даже если он и упоминает о нем. И в дело в таком случае идут догадки, что Витгенштейн мог бы быть знаком с работами Гамана [Gray, 2012, p. 114; Snellman, 2018, p. 62]. Cнеллман идет еще дальше, реконструирует способы того, как Витгенштейн мог узнать о Гамане, и приходит к выводу о «системном перекрытии» их взглядов [Snellman, pp. 73-79], предполагая, что именно Гаман повлиял на ряд ключевых философских идей Витгенштейна, что, на наш взгляд, является очень свободным, хотя и интригующим допущением.
Последняя трактовка по порядку, но не по значению, в нашем ограниченном списке принадлежит Джону Бетцу, который рассматривает Гамана в контексте постмодернизма [Betz, 2009]. Такая интерпретация Гамана не может не вызвать в памяти «экзистенциальные» трактовки Гамана 70-летней давности. В каком-то смысле она еще более смелая, потому что Бетц полагает Гамана визионером, предсказавшим коллапс модернизма еще до того, как тот вошел в полную силу. В то время как основная часть книги представляет собой достаточно подробное и тщательное доксологическое исследование творчества Гамана, в заключении Бетц обсуждает Гамана в связи с Ницше, Хайдеггером и Деррида [Betz, pp. 312‑340], которых он группирует широкими взмахами кисти в единый «постмодернистский триумвират». Бетц показывает как сходства, так и различия Гамана и этих философов, обращая внимание на язык и сенсуализм Гамана. Используя Гамана, Бетц проводит постмодернистскую деконструкцию модерна с квазитеологических позиций, что до какой-то степени сближает его с движением «радикальной ортодоксии» Джона Мильбанка, для которого Гаман выступает в качестве одной из ключевых фигур прошлого, позволяющих обратить вспять кантовский проект [Milbank, 1999].
В заключение можно сказать следующее. В «век поворотов» складывается двоякая ситуация при оценке исторических фигур прошлого. С одной стороны, в настоящее время отсутствует единая концепция, единый историко-философский подход. Нет ничего сравнимого по силе воздействия en masse c гегелевскими историями философии XIX столетия. Это делает ситуацию менее комфортной для читателя и требует от него больших усилий в выборе более корректной интерпретации среди множества предлагаемых.
С другой стороны, рассмотрение такой личности, как Гаман, более чем с одного ракурса в условиях отсутствия нормативного канона способно сделать его как мыслителя более «объемным» для восприятия. Большие усилия в данном случае имеют все шансы обернуться менее шаблонным и схематичным, и намного более предметным его прочтением, актуализировать его для настоящего времени, что тем более ценно тем, что в современном контексте не имеется иллюзий, что та или иная интерпретация единственно верная.
1 В цитируемом переводе фамилия передана на французский манер как «Мишле» ввиду французских корней автора. По-немецки, конечно, должно было бы быть Михелет. Изменение внесено для поддержания единообразия в статье во избежание путаницы.
2 На с. 34 Асмус говорит совершенно в духе Унгера, что «философия непосредственного знания Гамана … в основе своей, несомненно, антирационалистическая».
3 В своем ответе Берлин утверждал, что старые доводы Унгера его убеждают, независимо от того, что по этому поводу говорят более современные исследователи. Также он обрушился на представление О’Флаэрти об «интуитивном разуме» Гамана, поскольку сам Гаман не использовал такой фразы.
4 Волжин интерпретирует Гамана в иррационалистическом смысле: только вера может быть истинным познанием, при этом «проникновение в эту таинственную силу духа и открытие ее мистерии составляет задачу не рационального или опытного познания, а мистики».
5 Названия этих работ говорят сами за себя. Лоури, в частности, называет Гамана «экзистенциалистом» на протяжении его работы, делая следующую оговорку: «Я использовал это слово, чтобы рекомендовать Гамана поколению, которое забыло его, но заявляет об интересе к «экзистенциализму», не зная до конца, что значит это слово …» [Lowrie, 1950, p. 8].
About the authors
A. M. Streltsov
Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: streltsov@mail.ru
Candidate of Philosophical Sciences, Senior Research Officer Nikolaeva Str., 8, Novosibirsk, Russia
References
- Asmus, V. F. (1965). Problem of Intuition in Philosophy and Mathematics (Essay on History: XVII through early XX Century). Moscow. (In Russ.)
- Berestov, I. V. (2015). Holistic Assumptions in Parmenides, Plato, and Sextus Empiricus. In Mazaeva, O. G. (ed.). Phenomenological-onthological conception of G. G. Shpet and humanitarian projects of the XX-XXI centuries: G. G. Shpet. Comprehensio. Sixth Shpet Readings. Collections of Essays and Materials of the International Scholarly Conference (1-7 June 2015). Tomsk. Pp. 54 55. (In Russ.)
- Windelband, W. (2007). A History of New Philosophy with Reference to General Culture and Individual Sciences. Vol. 1. Moscow. (In Russ.)
- Volzhin, S. V. (2006). J. G. Hamann, F. H. Jacobi. Philosophy of Feeling and Faith. St Petersburg. (In Russ.)
- Gegel, G. W. F. (1972). On Hamann’s Works. In Gegel, G. W. F. Works of Different Years. In 2 vols. Vol. 1. Moscow. Pp. 577-643. (In Russ.)
- Gegel, G. W. F. (1974). Encyclopedia of Philosophic Sciences. Vol. 1. The Science of Logic. Moscow. (In Russ.)
- Goethe, J. W. (1969). Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit. Moscow. (In Russ.)
- Goethe, J. W. (1980). Collected works. In 10 vols. Vol. 9. Moscow. (In Russ.)
- Gilmanov, V. Kh. (2003). J. G. Hamann’s Hermeneutics of the «Type» and the Englightenment. Kaliningrad. (In Russ.)
- Gilmanov, V. Kh. (2003). J. G. Hamann’s and the Literature of the Enlightenment: Experience of Universal Hermeneutics. Doctor’s thesis. (In Russ.)
- Gulyga, A. V. (1977). Kant. Moscow. (In Russ.)
- Gulyga, A. V. (1985). German Classical Philosophy. Moscow. (In Russ.)
- Kozhevnikov, V. A. (1897). Philosophy of Feeling and Faith in its Relation to Literature and Rationalism of the 18th Century and Critical Philosophy. Pt. 1. Moscow. (In Russ.)
- Kierkegaard, S. (2012). Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments. Moscow. (In Russ.)
- Russel, B. (1994). History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day. Novosibirsk. (In Russ.)
- Reale, G., Antiseri, D. (2010) Western Philosophy from its Origins until Present Day. St. Petersburg. (In Russ.)
- Sextus Empiricus. (1976). Against the Logicians. Works. In 2 vols. Vol. 1. Moscow. (In Russ.)
- Heffe, O., Malakhov, V. S. et al. (eds.). (2009). Modern Western Phisolophy. Encyclopedic Dictionary. Moscow. (In Russ.)
- West, D. (2015). Continental Philosophy. An Introduction. Moscow. (In Russ.)
- Chernov, S. A. Shevchenko, I. V. (2010). Friedrich Jacobi: Faith, Feeling, Reason. Moscow. (In Russ.)
- Alexander, W. M. (1966). Johann Georg Hamann. Philosophy and Faith. Hague.
- Bayer, O. (1988). Zeitgenosse im Widerspruch. J. G. Hamann als radicaler Aufklärer. München. Zürich.
- Bayer, O. (2012). A Contemporary in Dissent. Johann Georg Hamann as a Radical Enlightener. Grand Rapids, MI.
- Beiser, F. C. (1987). The Fate of Reason. German Philosophy from Kant to Fichte. Cambridge.
- Berlin, I. (1993a). J. G. Hamann and the Origins of Modern Irrationalism. New York.
- Berlin, I. (1993b). The Magus of the North. New York Review of Books. Vol. 40. No. 17.
- Pp. 64-71.
- Fischer, K. (1855). Geschichte der neuern Philosophie. Bd. 2. G. W. Leibniz und seine Schule. Heidelberg.
- Fritsch, F. (1999). Communicatio idiomatum. Zur Bedeutung einer christologischen Bestimmung für das Denken Johann Georg Hamanns. Berlin. New York.
- Hamann, J. G. (1950). Sokratische Denkwürdigkeiten. Historisch-kritische Ausgabe von J. Nadler. Sämtliche Werke. Schriften über Philosophie, Philologie, Kritik: 1758-1763. Pp. 57-82. Wien.
- Gray, J. Hamann, Nietzsche, and Wittgenstein on the Language of Philosophers. In Anderson, L. M. (ed.). Hamann and the History of Philosophy. Hamann and the Tradition. Evanston, IL. Pp. 104-121.
- German, T. J. (1981). Hamann on Language and Religion. Oxford.
- Griffith-Dickson, G. (1995). Johann Georg Hamann’s Relational Metacriticism. Berlin.
- Halpern, M. (2019). Religion, Grammar and Style: Wittgenstein and Hamann. European Review. Vol. 27. Iss. 2. Pp. 195-209.
- Hamann, J. G. (1821-1825). Hamanns Schriften von F. Roth. Berlin.
- Hamann, J. G. (1949-1957). Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe von J. Nadler. In 6. Bdn. Wien.
- Hamann, J. G. (1955-1979). Briefwechsel. Bd. 1-7. Ziesemer, W., Henkel, A. (hrsg.). Wiesbaden, Frankfurt.
- Haynes, K. (2012). “There is an Idol in the Temple of Learning”. In Anderson, L. M. (ed.). Hamann and the History of Philosophy. Hamann and the Tradition. Evanston, IL. Pp. 33-51.
- Jean Paul. (1990). Vorschule der Ästhetik. Henckmann, W. (ed.). Hamburg.
- Jorgensen, S.-A. (2013). Hamann, Bacon, and Tradition. In Querdenker der Aufklärung. Studien zu Johann Georg Hamann. Göttingen. Pp. 35-64.
- Kenny, A. (2006). A New History of Western Philosophy. Volume III. The Rise of Modern Philosophy. Oxford.
- Kirmmse, B. H., Laursen, V. R. (1996). Encounters with Kierkegaard. Princeton.
- Knoll, R. (1963). Johann Georg Hamann und Friedrich Heinrich Jacobi. Heidelberg.
- Lafont, C. (1999). The Linguistic Turn in Hermeneutic Philosophy. Cambridge, London.
- Leibrecht, W. (1958). Gott und Mensch bei Johann Georg Hamann. Gütersloh.
- Lestition, S. O. (2007). Countering, Transporting, or Negating the Enlightenment? A Response to Robert Norton. Journal of the History of Ideas. Vol. 68. No. 4. Pp. 659-681.
- Lowrie, W. (1950). Johann Georg Hamann: An Existentialist. Princeton.
- Michelet, K. L. (1837-1838). Geschichte der letzten Systeme der Philosophie in Deutschland von Kant bis Hegel. Bd. 2. Berlin.
- Milbank, J. (1999). The Theological Critique of Philosophy in Hamann and Jacobi. In Milbank, J., Pickstock, C., Ward, G. (eds.). Radical Orthodoxy. London, New Work. Pp. 21-37.
- Nadler, J. (1949). Johann Georg Hamann. Der Zeuge des Corpus mysticum. Salzburg.
- Norton, R. E. (2007). The Myth of the Counter-Enlightenment. Journal of the History of Ideas. Vol. 68. No. 4. Pp. 635-658.
- O’Flaherty, J. C. (1952). Unity and Language. A Study in the Phisolophy of Johann Georg Hamann. Chapel Hill.
- Pascale, C. D. (2014) Il razionale e l’irrazionale. La filosofia critica tra Hamann e Schopenhauer. Pisa.
- Hamann, J. G. (1821-1825). Hamanns Schriften von F. Roth. Berlin.
- Schlegel, F. (1961). Deutsches Museum III. Kritische Neuausgabe. Bd. 6. München.
- Schelling, F. W. J. (1856a). Sämtliche Werke. Abt. I. Bd. 8. Stuttgart. Augsburg.
- Schelling, F. W. J. (1856b). Sämtliche Werke. Abt. I. Bd. 10. Stuttgart. Augsburg.
- Smith, R. G. (1960). Johann Georg Hamann 1730–1788: A Study in Christian Existence, With Selection from His Writings. New York.
- Snellman, L. (2018). Hamann’s Influence on Wittgenstein. Nordic Wittgenstein Review. Vol. 7. No. 1. Pp. 59–82.
- Unger, R. (1911). Hamann und die Aufklärung. Studien zur Vorgeschichte des romantischen Geistes im 18 Jahrhundert. 2 Bde. Jena.
- Vaughan, L. (1989). Johann Georg Hamann: Metaphysics of Language and Vision of History. Frankfurt.
- Zeller, E. (1875). Geschichte der deutschen Phisolophie seit Leibniz. München.
Supplementary files