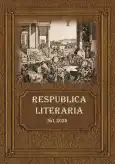The Ethical and Anthropological Crisis of Culture in the Context of Modern Technological Challenges
- Authors: Semernik S.Z.1
-
Affiliations:
- Yanka Kupala State University of Grodno
- Issue: Vol 6, No 1 (2025)
- Pages: 121-133
- Section: INTERDISCIPLINARY RESEARCH
- URL: https://bakhtiniada.ru/2713-3125/article/view/305657
- DOI: https://doi.org/10.47850/RL.2024.6.1.121-133
- ID: 305657
Cite item
Full Text
Abstract
The article examines the problem of the ethical and anthropological component of socio-cultural innovations leading to the crisis of modern culture. The purpose of the article is to reveal the content of the main conceptual approaches to understanding the essence of man, considering the possibilities of modern culture to reproduce the anthropological identity of an individual in the context of technologically feasible transformations of human nature. The introduction argues that the role of the subjective factor is rapidly increasing in the dynamics of modern social processes, realizing the ideas of constructing society and man in their direct engineering embodiment (social engineering, anthropological engineering, cultural engineering, etc.). In this situation, there is a threat of increasing dehumanizing trends in innovative development, contributing to the creation of conditions for the implementation of post (outside) human relations between subjects of social interaction. In conclusion, it is concluded that it is necessary to find grounds for the reproduction of traditional forms of human identity.
Full Text
Введение
Специфика развития современного общества определяется стремительным возрастанием динамики социальных процессов, имеющей решающее значение для функционирования важнейших сфер общественной жизни, а также для формирования и развития собственно самого человека. Ускорение социальных процессов сопровождается ростом неопределенности в их понимании, что в значительной степени затрудняет эффективный поиск оптимальной стратегии общественного развития. В этой ситуации особое значение приобретает осознание тех процессов, которые происходят с современным человеком, поскольку в условиях тотальной технизации и экономизации общественной жизни нарастают дегуманизирующие тенденции социализации личности. Человек как социоприродное существо и субъект социального действия стоит перед угрозой тотальной модификации. Эта идея становится сегодня центральной в социогуманитарной рефлексии [Бабич, 2015; Буйнякова, 2017; Войцехович и др. 2022; Плеснер, 2004; Хабермас, 2002].
Например, достаточно известные исследователи человеческого поведения и сущности человека Ю. Харари и Д. Канеман в одном из интервью, оценивая масштаб и последствия современных социальных изменений, отмечают их беспрецедентность. При этом они имеют в виду не только уровень осуществляющихся трансформаций, но и силу влияния их на человека. По мнению исследователей, происходящие сегодня изменения колоссальны: «… несоизмеримы ни с одной революцией в истории людей. Ибо поменяются не только экономика, политика или технологии, а сами люди: их тело, мозг, ментальная структура разума. Даже при самых кардинальных изменениях за всю историю человечества Homo sapiens всегда оставались собой. Теперь же начинает меняться наш вид»1.
В связи с этим чрезвычайно актуальными являются следующие вопросы: каковы перспективы развития человека в условиях тотальной эскалации перемен? Сможет ли он адаптироваться к стремительно меняющимся условиям современной жизни, не утратив самотождественности, не превратившись в иное, пост(не)человеческое существо? В целом сохранится ли человек в цивилизации будущего? [Альтернативы цифровизации, 2025]. Для ответов на эти вопросы необходимо рассмотреть те перспективы развития, которые современное общество обозначает для себя как приемлемые, возможные и желательные.
Методология и методы
Обзор перспектив социокультурного развития невозможен вне понимания специфики социального детерминизма как такового. Как известно, в отличие от природного детерминизма, основывающегося на сугубо объективных закономерностях, раскрывающихся в законах природы, социальные закономерности характеризуются отсутствием жесткой определенности общественных процессов, опорой на двойную (субъективно-объективную) причинность. Наряду с объективно развивающимися тенденциями в социуме всегда присутствует субъективный фактор, свободная воля людей. Специфика современного состояния социума заключается в том, что субъективная составляющая общественного развития стремительно нарастает. Это означает, что сегодня возникла реальная технологическая возможность реализации замыслов, интересов, целей, индивидуальных планов субъектов социального развития, способных оказывать существенное влияние на объективные тенденции социальной эволюции. Соответственно, линейные модели, описывающие динамику общественного развития, сложившиеся в качестве исследовательской традиции в эпоху модерна, активно пересматриваются. Социальное прогнозирование и управление социальными процессами возможно сегодня лишь с учетом нелинейных стратегий общественного развития, наличия выбора, альтернативы, многовариантности их путей. Тем не менее, линейность как основа восприятия социальной динамики все еще является доминирующей установкой современного общественного сознания. В итоге «визитной карточкой» современности, по меткому замечанию представителей «Римского клуба» футурологов, становится «неосознанность происходящего» [Лейбин, 1997]. Это проявляется в том, что общество в своих основных познавательных стратегиях, раскрывающих суть происходящих социальных изменений, исходит из ошибочных презумпций и не способно сформировать адекватную реальности картину мира. Общественное сознание рассматривает события, происходящие в настоящем, сквозь призму социальных установок прошлого, применяет к современным событиям объяснительные модели вчерашнего дня (например, такие, как теории прогресса, экономического роста и т. п., предполагая восходяще-прогрессивное развитие социума единственно возможным эталоном общественного развития). Подобный «разрыв», существующий между социальным восприятием / пониманием осуществляющихся трансформаций и реальной социальной практикой, вполне объясним, если рассматривать его с учетом такой характеристики общественной динамики, как социальная инерция.
Социальная инерция рассматривается в современном социогуманитарном знании в основном как онтологический феномен, качественно определенное состояние социальной системы, суть которого сводится к препятствию процессам социального развития. В частности, в научной литературе встречается следующее определение социальной инерции: «… состояние социального процесса или объекта, при котором те или иные общественные силы направлены на торможение его развития, на нейтрализацию социальных нововведений»2. Однако в научном дискурсе присутствуют и коннотативно нейтральные дефиниции, усматривающие в социальной инерции, прежде всего, охранительные механизмы социального воспроизводства. Здесь социальная инерция рассматривается как «тенденция социальных систем к сохранению своего текущего состояния даже при наличии внешних или внутренних стимулов к изменению» [Гнатюк, 2023].
В то же время исследование сущности социальной инерции в контексте гносеологического подхода позволяет увидеть в ней феномен общественного сознания, связанный с постижением действительности. В этом случае при определении социальной инерции акцент делается на таком состоянии общественного сознания, при котором происходит сохранение типичных, характерных для социальных субъектов паттернов восприятия действительности, связанных с воспроизводством ранее устоявшихся способов и принципов их понимания. Если применить гносеологический подход к пониманию социальной инерции, характерной для сегодняшнего социума, мы обнаружим следующую ситуацию. Социальные субъекты, жизненное становление которых происходило в течение ХХ в., усвоили в процессе социализации типичные для данного социального времени стратегии миропонимания, и сегодня, реально действуя в социокультурных условиях XXI в., они продолжают во многом воспроизводить смыслы, характерные для социальной действительности завершившегося ХХ столетия, выстраивая объяснительные модели социальных процессов по лекалам, сконструированным в общественном сознании в ушедшем веке. Это происходит вследствие того, что общество в своих действиях предпочитает опираться на ценности, нормы, идеи, паттерны поведения, прошедшие апробацию в культуре и закрепившиеся в культурной традиции. Отношение к названной характеристике общественной психологии у разных авторов также разнится. Одни авторы усматривают в этом препятствие к социальному благополучию, другие – условие процветания общества. Например, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман писал: «Я уверен, единственными важными структурными преградами на пути к процветанию мира являются устаревшие доктрины, которые затуманивают мышление людей» [Кругман, 2009, с. 296].
Инерционность социального восприятия самым решительным образом влияет на происходящие в обществе социальные процессы, поскольку «ускоряющиеся ритмы истории» – стремительные социокультурные изменения – не находят объективной оценки со стороны социума. Это способствует росту иллюзорности общественного и индивидуального сознания, погружению общества в состояние неопределенности, эскалации рисков.
В то же время необходимо отметить, что, наряду с инерционностью общественного сознания, существует и такая его характеристика как инициативность, в большей степени свойственная молодежному сегменту социального сообщества. Оказывая существенное влияние на социальное восприятие, инициативность общественного сознания в условиях современности апеллирует не столько к отражению / пониманию социальной действительности, сколько к ее прогнозному конструированию – созданию определенных образов настоящего, а также будущего, активно влияющих на поведение социальной системы. Наиболее рельефно конструкторская направленность сознания современного социума проявляется в осуществляемых им технологиях форсайта. Форсайты, позволяющие реализовывать человеческую субъективность, воплотить ее в повседневность социальной жизни, являются сегодня наиболее востребованной технологией взаимодействия с будущим [Малинецкий, 2022]. Известный австралийский теоретик форсайт-проектов Бассен Маркус в своей книге “Futures Thinking for Social Foresight” указывает, что представления о будущем оказывают существенное влияние на поведение субъектов в настоящем [Slaughter, Bussey, 2005]. Следовательно, для человека и социума в целом совершенно не безразлично, какие образы будущего формируются на уровне индивидуального и общественного сознания. Хорошо известный тезис К. Маркса о том, что овладевшая массами теория становится материальной силой, способной перевернуть общество, из теоретического постулата давно превратился в эмпирически осязаемый феномен.
Если обобщить форсайты, конструируемые на уровне общественного сознания, описывающие будущее современного социума, то здесь можно выделить несколько основных вариантов, условно обозначаемых следующим образом: «новое средневековье», «прорыв в виртуальную реальность», «общество космической экспансии» и т. п. Вероятность реализации названых форсайтов сегодня не определена. Мы живем в эпоху конкурирующих образов будущего. Тем не менее, содержательное наполнение конкретных форсайтов, описывающих перспективы развития социума, крайне интересно, поскольку оно намечает перспективы развития человека. Мысль о комплементарности человека и социума, соотнесенности личностных характеристик населяющих общество людей и характеристик самого общества является устоявшейся в современном социогуманитарном знании. К. Поланьи писал: «… если общество ожидает от ряда своих членов определенного поведения, а господствующие институты способны его навязывать, то представления о человеческой природе будут отражать этот идеал независимо от его отношения к реальности» [Поланьи, 2010 с. 40]. Следующая за данной мыслью идея указывает на то обстоятельство, что преобразования социума неизбежно влекут за собой изменения личности, моделей ее поведения и наоборот. Один из творцов Октябрьской революции 1917 г. выражал данную мысль следующим образом: «Выпустить новое “улучшенное издание” человека – это и есть дальнейшая задача коммунизма» [Троцкий, 1923]. Другими словами, лидеры революционного движения хорошо осознавали необходимость создания нового типа человека, восприимчивого к революционным новациям и способного закрепить данные новации в практике социальных отношений. Тем самым закономерно возникает вопрос: какие антропологические проекты, комплементарные каждому из предлагаемых социальных форсайтов, рождаются в недрах общественного сознания сегодня?
Антропологические форсайты современности: перспективы и угрозы
Идея будущего как «нового средневековья» зародилась в недрах интеллектуальной мысли несколько столетий назад, и с тех пор она периодически воспроизводится в разных вариациях, имеющих общую идейную направленность – выявление параллелей между современным и средневековым обществом [Бердяев, 1994; Губарева, 2023; Дин, 2019; Эко, 1994]. Во многом данное видение исторической динамики отражает идею реверсивных тенденций, возвращения к предшествующим способам развития социума, периодически проявляющихся в ходе общественного развития. Современные авторы, как правило, указывают на следующие основные направления возрождения средневековых тенденций общественного развития: фрагментацию суверенитета, новую квазисословную иерархию (экспоненциальный рост неравенства, замирание вертикальной мобильности), географическую поляризацию стран и регионов по принципу «центр-периферия», нарастание апокалиптических предчувствий, мистических интуиций на уровне индивидуального и общественного сознания [Валлерстайн, 2003; Дзарасов 2014]. Несмотря на то, что данные тенденции, характерные для европейского Средневековья, сегодня принимают совершенно иные общественные и технологические формы, подобная технологичность выступает лишь внешним каркасом, аутентичным современному обществу, тем не менее не затеняющим сущностное сходство некоторых черт современного социокультурного развития с эпохой Средних веков. Человеческий тип, востребованный неосредневековой моделью общества, может быть обозначен как «служебный человек»3, о чем сообщил в своем выступлении в парламенте РФ директор Курчатовского института М. Ковальчук. Российский ученый высказал тезис о том, что сегодня возникла реальная технологическая возможность моделировать сознание, поведение и даже генетику человека, с учетом запросов субъектов, осуществляющих социально-антропологическое конструирование. Как пишет об этом Г. С. Широкалова: «… выведение служебного подвида людей – единственный надежный способ сохранить сословность общества, сформировавшуюся за последние десятилетия» [Широкалова, 2020, с. 246].
Следующий форсайт-проект – «прорыв в виртуальную реальность» – реализуется в направлении тотальной цифровизации социокультурного пространства, затрагивающей все сферы общественного функционирования. Масштабное применение цифровых технологий способствует погружению человека в особую искусственно созданную среду, в которой трансформированы многие характеристики реальности, свойственные константному миру, создается принципиально новый онтологический и аксиологический образ реальности [Пуриш, Кораблева, 2015; Свидерский, 2021]. В частности, «жесткая модель» реальности, независимой от человека, объективной по отношению к нему, сменяется моделью «гибкой реальности», в которой пространство и время антропоцентричны, зависят от желаний, установок и предпочтений личности. Виртуальная реальность выступает сегодня своеобразной квинтэссенцией мира симуляций, о которых писал Ж. Бодрийяр [Бодрийяр, 2006].
Всеохватная изменчивость, неустойчивость виртуальной реальности, возможность ее конструирования практически в неограниченных комбинациях создает риск утраты связи личности с естественным миром, имеющим заданные характеристики и следующим объективным законам природы. В искусственном мире естественный человек громоздок, не столь пластичен и успешен как его виртуальная копия. В результате на смену естественному человеку приходит «цифровой человек» – цифровая копия личности, способная эффективно функционировать в мире утраченной естественности. Виртуальная среда предоставляет человеку возможность реализовывать цели и желания, недоступные ему для удовлетворения в реальном мире. Обозначенная классиком философской мысли К. Марксом проблема отчуждения достигает в виртуальном пространстве предельных значений [Маркс, 1951]. Мир цифровых симуляций практически полностью отчуждает человека от процесса труда. Делает труд непривлекательным, отталкивающим феноменом. Трудовая деятельность, связанная с усилиями, длительным напряжением физических, интеллектуальных и т. п. сил все менее востребована человеком. Погрузившись в мир цифровых технологий, человек способен в короткие сроки и в игровой форме осуществить свои заветные желания. В итоге труд воспринимается сегодня исключительно как принуждение, как неприятная повинность, закрепляется антитрудовая этика в целом. Отчуждение от продуктов труда, описанное Марксом, сегодня выражается в культивировании этики потребительства. Легко воспроизводимые и тиражируемые во множественном числе вещи наполняют мир человека, трансформируя поведенческие нормы личности и общества. Пересмотру подвергается стратегия материального потребления: от нормы, ориентирующей субъекта на «достаток» (создание / приобретение того, что необходимо и достаточно для жизни), данная стратегия модифицируется в норму стремления к изобилию (обладать чем-либо в избытке). Отсюда возникает ценностная установка на роскошь, богатство, сверхдоход, гиперприбыль. Данная установка становятся типичным ориентиром личности, абсолютизирующей потребительство в качестве эталона культурного развития.
Следующий вид отчуждения – остракизм социальных связей. Стремление избегать непосредственного контакта при взаимодействии людей друг с другом также выступает неотъемлемой характеристикой цифрового мира. Возможность приблизить далекое (взаимодействовать с субъектом общения, находящимся на большой географической дистанции) по факту оказывается лишь иллюзией близости. Технические средства, обеспечивающие фактический контакт акторов социальной коммуникации, не способны верифицировать подлинность установленной коммуникации, погружают человека в мир игры, искусственно созданных суррогатов собственной личности (например, голограмм, аватаров и т. п.). В этой ситуации неизбежно возникает отчуждение человека от самого себя, наступает кризис его идентичности, нарушение целостности личностного самосознания, в предельном варианте ведущая к распаду личности [Федулин, Багдасарян, 2012].
Наконец, форсайт, связанный с мечтою о покорении космического пространства, о продвижении человеческой цивилизации в глубины Вселенной, ориентирует общество на разработку и внедрение в повседневную жизнь космических технологий. На сегодняшний день это привело к освоению ближнего космоса, созданию технологий навигации и определения местоположения субъектов в пространстве, а также иных изобретений. Антропологическим типом, комплементарным названному форсайту, может выступить синтетическое существо человека и машины – человек-киборг, естественные характеристики которого многократно усилены за счет аддитивных свойств, возникающих в результате соединения человека с машиной. Однако, как известно, синтез как процесс предполагает взаимообмен характеристиками тех объектов, которые вступают в тесную взаимосвязь. В случае реализации стратегии синтеза человека и машины, с одной стороны, будут нарастать тенденции антропоморфизации робототехники, с другой – усиливаться тенденции киборгизации человека, превращения его в иное, пост(не)человеческое существо. В данном случае дегуманизирующие тенденции развития социума будут активно нарастать, порождая, прежде всего аксиологические трансформации культуры. Неизбежное снижение уровня свободы личности, понижение статуса человека по мере укрепления статуса интеллектуальных машин в обществе – эти и другие аксиологические проблемы нуждаются сегодня в пристальном внимании.
Заключение
Таким образом, анализ возникающих в современном социуме социальных и антропологических форсайтов показывает, что значительная часть из них разрабатывается на основе антипрогрессистских идей. Антипрогресс – возникновение социально и технически усложняющегося мира, инициирующего развитие личности и общества в негативных по отношению к ним направлениях. Палитра форсайт-проектов антипрогрессистской направленности, разрабатываемых сегодня экономически ангажированными субъектами на площадках технологий будущего, несмотря на свое многообразие, не содержит возможности воспроизводства и сохранения в условиях современной социокультурной динамики человека естественного, сохраняющего черты антропологической инвариантности. Данная ситуация может рассматриваться как этико-антропологический кризис культуры, от преодоления которого зависит перспектива развития человека и социума. Воспроизводство идентичностей человека, аутентичных его антропологической сущности, с необходимостью основывается на этической составляющей, поскольку принципиальное решение проблемы сохранения человеческого в человеке может быть решено только с учетом этических императивов. Соответственно, сегодня возникает запрос на разработку новых культур-антропологических идей, способных создать теоретические модели, раскрывающие основания для верификации самотождественности человека, воспроизводства собственно человеческого бытия в мире тотальных технико-технологических трансформаций.
Решая названную задачу, прежде всего, следует учесть, что специфика идентификационной топики личности определяется неразрывной связью ее биосоцио-духовных характеристик. Это означает, что развитие каждой из данных характеристик является неотъемлемым условием установления / поддержания, сохранения и воспроизводства человеческого в человеке. Антропологический форсайт «человечного (биосоциодуховного) человека» созвучен презумпциям антропологического консерватизма [Кутырев, 2021; Лотарев, Шогенов, 2018], с необходимостью включает в себя условия, способствующие обеспечению целостности человеческой личности, неразрывного единства составляющих данную личность элементов. Это, например, следующие условия:
а) создание человеко-насыщенной среды существования особенно на ранних этапах социализации личности, препятствующей (способствующей преодолению) ее технолабильности, пост(вне)человечной направленности развития;
б) разработка методов определения уровня технорезистентности / технолабильности личности с установлением допустимых пределов данных показателей для развития и психосоциального здоровья личности и социума;
в) сбалансированное осуществление информатизации социального пространства, включающее в себя охранительные по отношению к человеку механизмы: «… формирование, сохранение и развитие автономности человеческих субъектов, социальных институтов для сохранения человеческого компонента современных общественных отношений и человекоразмерных систем» [Оконская и др., 2021].
1 Лет через 100 главными на Земле будут уже не люди. Харари и Канеман о глобальных трендах, перекраивающих человечество. (2021). [Электронный ресурс]. Дзен. 15 апр. URL: https://dzen.ru/a/YHhOgL0aECLFyjOa?utm_campaign=dbr (дата обращения: 22.01.2025).
2 Социальная инерция. [Электронный ресурс]. Академик. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://sociology_encyclopedy.academic.ru/983/%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%A6%D0%98%D0%AF (дата обращения: 08.12.2024).
3 Глава «Курчатовского института» М. Ковальчук выступил на заседании СФ в рамках «Времени эксперта». (2015). [Электронный ресурс]. URL: https://rutube.ru/video/9c455b136137f7
c4389d3c63fa4b0b64/?ysclid=m8sk8mo7xd375541280 (дата обращения: 03.02.2025).
На заседании Совета Федерации в рамках «Времени эксперта» выступил директор «Курчатовского института» М. Ковальчук. (2015). [Электронный ресурс]. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. 30 сент. URL: http://council.gov.ru/events/news/59290/ (дата обращения: 03.02.2025).
About the authors
S. Z. Semernik
Yanka Kupala State University of Grodno
Author for correspondence.
Email: semernik@grsu.by
Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of the Department of Philosophy Zakharova Str., 32, Grodno, Republic of Belarus
References
- Belkina, G. L., Frolova, M. I. (eds.). (2025). Alternatives to Digitalization. Will People Survive in the Civilization of the Future? Moscow. 576 p. (In Russ.)
- Babich, V. V. (2015). Human Identity in the Context of Modern Problems of Anthropological Modeling. Values and Meanings. No. 5 (39). Pp. 47-56. (In Russ.)
- Berdyaev, N. A. (1994). The New Middle Ages. In Philosophy of Creativity, Culture and Аrt. Vol. 1. Moscow. Pp. 406-464. (In Russ.)
- Baudrillard, J. (2006). Consumer Society. His Myths and Structures. Samarskaya, E. A. (transl.). Moscow. 269 p. (In Russ.)
- Buinyakova, I. S. (2017). «Designer Babies»: Socio-Ethical Problems of Biotechnological Design of Future Children. Belgorod State University Scientific Bulletin. Series Philosophy. Sociology. Law. No. 10 (259). Iss. 40. Pp. 130-139. (In Russ.)
- Wallerstein, I. (2003). The End of a Familiar World: Sociology of the XXI Century. Inozemtsev, V. L. (ed., transl.). Moscow. 368 p. (In Russ.)
- Voitsekhovich, V. E., Volnov, I. N., Malinetsky, G. G. (2022). On the Way to a Strong AI. Anthroposocial Problems. In Designing the Future. Problems of Digital Reality. Proceedings of the 5th International Conference (Moscow, 3-4 February 2022). Moscow. Pp. 139-151. (In Russ.)
- Gnatyuk, M. A. (2023). The Concept of Social Inertia. Functional Mechanisms and Manifestation in Sociality and Socio-Cultural Changes. Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being. Vol. 12. No. 5A-6A. Pp. 167-174. doi: 10.34670/AR.2023.42.89.023 (In Russ.)
- Gubareva, O. V. (2023). The New Middle ages in the Culture of Twentieth-Century Russia. Proceedings of the Department of Theology of the St. Petersburg Theological Academy. No. 3 (19). Pp. 192-204. (In Russ.)
- Dzarasov, R. S. (2014). Economics of «Planting Backwardness». Herald of the Russian Academy of Sciences. Vol. 84. No. 4. Pp. 291-303. (In Russ.)
- Dean, J. (2019). Communism or neo-feudalism? Logos. Vol. 29. No. 6. Pp. 85-116. (In Russ.)
- Kutyrev, V. A. (2021) Man as Imperfect Perfection (Anthropo-Conservatism contra Transhumanism). Philosophy of Economy. No. 1(133). Pp. 73-86. (In Russ.)
- Krugman, P. R. (2009). The Return of the Great Depression? The Global Crisis through the Eyes of a Nobel Laureate. Egorov, V. N. (transl.), Delyagin, M. G., Amelekhin, L. A. (eds.). Moscow. 336 p. (In Russ.)
- Leibin, V. M. (1997). The Roman Club: a Chronicle of Reports. Philosophy and Society. No. 6. [Online]. Sociosciences. Available at: https://www.socionauki.ru/journal/articles/1501909/ (Accessed: 08 December 2024). (In Russ.)
- Lotarev, K. A., Shogenov, K. V. (2018). Anthropological Conservatism as the Ideological Basis of United Russia Conservatism. In Current Trends in the Development of Science and Education. Proceedings of the International (correspondence) Scientific and Practical Conference (Prague, 24 December 2018). Neftekamsk. Pp. 672-678. (In Russ.)
- Malinetsky, G. G. (2022). It is not Worth Returning to the XVI century. In Designing the Future. Problems of Digital Reality. Proceedings of the 5th International Conference (Moscow, 3 4 February 2022). Moscow. Pp. 139-151. (In Russ.)
- Marx, K. (1951). Wage Labor and Capital. Moscow. 45 p. (In Russ.)
- Okonskaya, N. K. Intrash, A. Yu., Brylina, I. V. (2021). Human-Sized Information Society Systems and the Risks of Regression of Public Relations. Perm University herald. Series Philosophy. Psychology. Sociology. No. 2. Pp. 191-201. doi: 10.17072/2078-7898/2021-2-191-201. (In Russ.)
- Plesner, H. (2004). The Steps of the Organic and Man: An Introduction to Philosophical Anthropology. Moscow. 368 p. (In Russ.)
- Polanyi, K. (2010). Selected works. Moscow. 200 p. (In Russ.)
- Purish, I. S., Korableva, E. V. (2015). Virtualization of modern society: destruction of values or progress? In The Crisis of the Anthropological Foundations of Modern Culture. A Collection of Scientific Papers. Saratov. Moscow. Pp. 94-99. (In Russ.)
- Svidersky, A. A. (2021). Virtualization of the Reality of a Technogenic Society. Design, Use and Reliability of Agricultural Machinery. No. 1 (20). Pp. 295-301. (In Russ.)
- Trotsky, L. (1923). Literature and Revolution. Moscow. 392 p. (In Russ.)
- Fedulin, A. A., Bagdasaryan, V. E. (2012). Service and Values. The Challenge of Consumerism. Moscow. 264 p. (In Russ.)
- Habermas, Y. (2002). The Future of Human Nature. On the Way to Liberal Eugenics? Moscow. 114 p. (In Russ.)
- Shirokalova, G. S. (2020). Coronavirus and “Service People” Philosophy of Economy. No. 3 (129). Pp. 235-253. (In Russ.)
- Eco, U. (1994). The Middle Ages Have Already Begun. Russian Studies in Literature. No. 4. C. 258-267. (In Russ.)
- Slaughter, R., Bussey, M. (2005). Futures Thinking for Social Foresight. Taipei. Tamkang University Press. 195 p.
Supplementary files