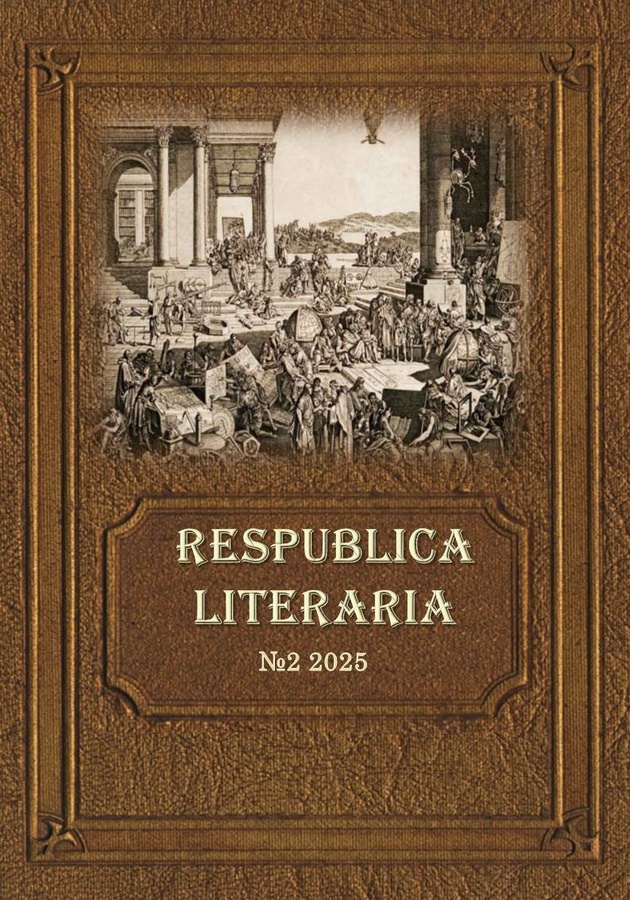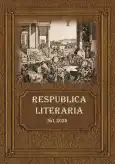Принудительное лицензирование результатов интеллектуальной деятельности как мера обеспечения национальных интересов научно-технического прогресса
- Авторы: Озманян Ю.З.1, Карунная Я.А.1
-
Учреждения:
- Новосибирский государственный университет
- Выпуск: Том 6, № 1 (2025)
- Страницы: 159-169
- Раздел: ПРАВО
- URL: https://bakhtiniada.ru/2713-3125/article/view/305653
- DOI: https://doi.org/10.47850/RL.2024.6.1.159-169
- ID: 305653
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье представлен анализ принудительного лицензирования как инструмента для обеспечения национальных интересов и доступа к критически важным технологиям. Рассматриваются судебные прецеденты о выдаче принудительных лицензий и законодательные инициативы последних лет, направленные на расширение использования этого механизма. Подчеркивается, что, хотя принудительное лицензирование способно решать точечные задачи, оно не способствует развитию отечественных инноваций и науки.
Полный текст
Принудительное лицензирование – это уникальный пример обретения правовым инструментом «новой жизни». Указанный институт появился еще в Патентном законе 1992 г.1, но до 2019 г. он не вызывал широкого научного интереса. На практике нормы о принудительном лицензировании также не применялись и считались «мертвыми». Причиной тому могли быть как трудноисполнимые основания для выдачи принудительных лицензий, так и широта используемых в правовых нормах оценочных категорий. Однако за последние несколько лет заметно возрос интерес законодателя и научного сообщества к исследуемой теме. Причин тому несколько.
Первой причиной является появление судебной практики о применении исследуемых механизмов. Вызвало резонанс в научном сообществе судебное дело по иску ООО «Натива» к дочерним компаниям Pfizer о принудительном лицензировании «Сунитиниба» –противоопухолевого средства, поворотной точкой которого стало принятие Судом по интеллектуальным правам постановления, подробно раскрывающего условия предоставления принудительной лицензии2. В 2023 г. Девятым арбитражным апелляционным судом также была выдана принудительная лицензия на препарат «Трикафта» от муковисцидоза3.
Второй причиной является потребность отечественной экономики в результатах интеллектуальной деятельности иностранных правообладателей, ушедших с отечественного рынка после начала специальной военной операции. Исследователи отмечают, что повышенный интерес к принудительному лицензированию отдельных результатов интеллектуальной деятельности, например, программного обеспечения, связан с тем, что западные разработки либо не имеют отечественных аналогов, либо значительно эффективнее таких аналогов [Поляков, 2022]. За последние годы было внесено несколько законопроектов, которые расширяли бы сферу применения принудительного лицензирования (о них в работе будет изложено позднее). В средствах массовой информации неоднократно появлялись новости о том, что тем или иным профильным ведомством рассматривается возможность точечного распространения принудительного лицензирования на ту или иную сферу объектов интеллектуальной собственности: программное обеспечение4, патенты, связанные с медицинскими препаратами5. Более того, в марте 2024 г. была создана подкомиссия по использованию патентов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции6. Подкомиссия действует по принципу «одного окна» для российских компаний, которым иностранные патентообладатели необоснованно отказали в праве использования объектов патентных прав. В открытом доступе решений такой подкомиссии нет, но с учетом того, что правительственную комиссию возглавляет министр обороны, сфера основных интересов подкомиссии кажется заранее известной.
Очевидно, что государственный интерес прикован к этому механизму, поскольку он преодолевает противодействие правообладателей, желающих сохранить правовую охрану своих объектов, но не желающих их коммерциализировать в РФ. Государство заинтересовано во внедрении в экономику различных технических решений для ее роста. Однако насколько принудительное лицензирование может способствовать достижению этой цели?
Для решения этого вопроса в первую очередь требуется единообразное понимание того, что представляет собой принудительная лицензия с точки зрения правовой природы. Однако в научной среде можно встретить несколько подходов к тому, что представляет собой принудительная лицензия.
Согласно А. С. Ворожевич, принудительное лицензирование представляет собой инструмент воздействия на правообладателей, вышедших за пределы осуществления исключительных прав, заключающийся в разрешении третьему лицу использовать патентоохраняемый объект без согласия на то правообладателя с выплатой соразмерного вознаграждения. Позиция вышеприведенного автора заключается в том, что принудительное лицензирование, с одной стороны, способствует инновационному развитию, увеличивает конкуренцию на рынке, повышает удовлетворенность рядового потребителя. В то же время этот институт не препятствует коммерциализации разработки со стороны правообладателя, оставляя за ним исключительное право, возможно и вопреки его воле, но обеспечивает имущественные интересы «вынужденного лицензиара» при предоставлении прав на изобретение третьим лицам – лицензиатам [Ворожевич, 2021].
По мнению Н. А. Шебановой, принудительная лицензия выступает в качестве ограниченной государственной меры, которая подлежит использованию в случае сбоя функционирующего рыночного механизма в сфере коммерциализации интеллектуальных прав, применение которой носит исключительный спорадический характер [Шебанова, 2023].
А. Ю. Иванов также комплиментарно отзывается о принудительном лицензировании, отмечая, что оно выступает неотъемлемым атрибутом эффективной и здоровой системы интеллектуальных прав, обеспечивающим ее нормальную работу, а также является категорией, которая включает целый спектр инструментов балансировки работы института интеллектуальных прав, направленных на снятие барьеров для дальнейшего человеческого творчества и инноваций [Иванов, 2017].
По нашему мнению, принудительная лицензия – это способ восстановления нарушенных общественных интересов, используемый в случае выхода правообладателем за пределы осуществления своего исключительного права. Он заключается в том, что заинтересованному лицу выдается разрешение использовать результат интеллектуальной деятельности – объект патентных прав или селекционное достижение – на условиях, определенных судом.
Принудительная лицензия в своей сути есть средство защиты законного интереса. Требование истца по иску о предоставлении принудительной лицензии направлено против неиспользования исключительного права. Однако важно понимать, что такое неиспользование – правомерное поведение, поскольку каждому лицу предоставлено право осуществлять свои гражданские права по своему усмотрению, и отказ от их осуществления по общему правилу не влечет прекращения таких прав (ст. 9 ГК РФ). Тем не менее осуществление любого права ограничено пределами, установленными принципом добросовестности. Принудительное лицензирование – это способ преодоления злоупотребления правообладателем патентной монополией, когда злоупотребление выражено в том, что отказ или уклонение от использования исключительного права могут повлечь негативные последствия для общества. И именно общество должно являться конечным бенефициаром при рассмотрении вопроса о выдаче принудительной лицензии, поскольку исследуемый инструмент не может и не должен применяться для защиты частного интереса. Согласимся с К. Ю. Сасыкиным, что ключевой задачей правоприменителя является поиск баланса между общественными интересами по повышению доступности лекарственных средств и частными интересами, выраженными в потребности извлекать из патента коммерческую ценность [Сасыкин, 2022].
Помимо принудительного лицензирования, как договорного инструмента ограничения патентной монополии, существуют и другие механизмы по ограничению власти патентообладателя: пп. 3 ст. 1359 ГК РФ, ст. 1360, 1361 ГК РФ, которые представляют собой правомерное бездоговорное (безлицензионное) возмездное использование некоторых объектов патентной охраны без согласия правообладателей [Латынцев, 2023].
Во времена активной фазы пандемии COVID-19 по распоряжению Правительства РФ от 31.12.2020 № 3718-р были переданы права использования на противовирусный препарат «Ремдесивир», исключительное право которого принадлежало Gilead Sciences Inc, в пользу компании «Фармсинтез»7. Оспаривание решения Правительства не увенчалось успехом для американской фарм-кампании8. В 2023 г. аналогичное решение было принято относительно препарата «Семаглутид», патент на который принадлежал датской компании Novo Nordisk9. В отличие от ст. 1362 ГК РФ, нормы обозначенных статей предусматривают передачу прав не на основании судебного акта, а на основании ненормативного акта органа исполнительной власти. Государство действует как правообладатель, самостоятельно выдавая право использования объекта патентных прав, что предполагает своего рода реквизицию исключительного права.
Хотя институт принудительного лицензирования и институт бездоговорного использования патентных прав отличаются по своей природе, в их основе лежит общая цель и общее последствие: ограничение патентной монополии правообладателя, влекущее использование уже имеющегося технического решения, а не создание нового альтернативного решения научной проблемы [Латынцев, 2024].
При подробном рассмотрении условий предоставления принудительных лицензий на объекты патентных прав можно предположить, насколько выдача принудительной лицензии будет способствовать достижению целей научно-технического прогресса.
Так, Гражданский кодекс РФ предусматривает два случая, когда судом может быть выдана принудительная лицензия:
- Неиспользование или недостаточное использование изобретения или промышленного образца в течение четырех лет, а полезной модели – в течение трех лет (п. 1 ст. 1362 ГКРФ). Есть три условия применения этого пункта: отказ от заключения лицензионного договора на рыночных условиях; готовность и возможность потенциального лицензиата использовать объект патентных прав; недостаточное предложение соответствующих товаров / услуг / работ на рынке.
Примером выдачи принудительной лицензии по этому основанию стала выдача лицензии на медицинский препарат «Трикафта»10.
- Невозможность использовать собственное изобретение («зависимого патента») без нарушения «первого» патента и прав другого патентообладателя (п. 2 ст. 1362 ГКРФ). Здесь имеются три условия применения этого основания: отказ от заключения лицензионного договора на рыночных условиях; зависимый патент представляет собой важное техническое достижение; зависимый патент имеет существенные экономические преимущества перед первым патентом.
Примером выдачи принудительной лицензии по этому основанию стала выдача лицензии на медицинский препарат «Сунитиниб»11.
Практика применения обоих видов принудительного лицензирования сводится к тому, что суды разрешают принудительное лицензирование в отношении медицинских препаратов:
- «Трикафта»: производитель (американская фармкомпания) и его официальный дистрибьютор, обеспечивая потребность рынка всего на 8 %, игнорировали гос. закупки препарата, хотя данное лекарственное средство едва ли не единственное, применяемое при лечении муковисцидоза.
- «Сунитиниб»: отечественная фармкомпания зарегистрировала препарат на основе препарата Pfizer, который был существенно дешевле своего американского аналога и проявлял «разницу в скорости появления действующего вещества в крови кроликов» (ускоренное появление) и демонстрировал полиформизм.
Предоставление принудительной лицензии в указанных ситуациях свидетельствует о том, что выдача лицензии напрямую связана с общественно-полезными целями, такими как устранение дефицита на товарном рынке, возникшего из-за недобросовестных действий правообладателя и создание возможности для использования важных технических достижений, блокируемых правообладателем первичного патента. Несмотря на очевидную общественную полезность предоставления лицензий, нужно помнить, что какими бы благими ни были намерения требующего лицензию лица, для того чтобы преодолеть патентную монополию, нужно соответствие условиям для выдачи принудительной лицензии.
Исследователи негативно оценили судебную практику по выдаче принудительных лицензий, поскольку, предоставляя такую лицензию на препарат «Сунитиниб», судом была недостаточно раскрыта «важность» технического достижения, для которого испрашивалась принудительная лицензия. Истец свою позицию о необходимости лицензии обосновывал экономическими преимуществами дженерика, что и было воспринято Судом по интеллектуальным правам. Однако экономические преимущества сводились к более низкой цене на дженерик, что отмечается Е. А. Стус как очень ограниченный подход к исследованию вопроса, не основанный на методах фармаэкономического анализа [Cтус, 2023]. Более того, М. М. Пучинина отмечала, что по итогу спор между ООО «Натива» и «Селджен Корпорейшн» закончился мировым соглашением, в рамках которого отечественная фармкомпания отказывалась от намерений по получению принудительной лицензии, – патент на отечественный дженерик «Сунитиниб-натив» был признан недействительным из-за недостатка изобретательского уровня. В этой связи решение суда о том, что изобретение ООО «Натива» представляет собой важное техническое решение, представляется еще более неоднозначным и порождающим обоснованные сомнения [Пучинина, 2021, с. 121].
Таким образом, с учетом известной сущности принудительной лицензии, условий ее выдачи и сложившейся практики правоприменения, на вопрос «Обеспечивались ли в данных случаях национальные интересы?» стоит ответить утвердительно. Однозначно, что в условиях экономической нестабильности, фарм-гиганты манипулируют рынками, делая жизненно важные препараты недоступными. Это обеспечивает им сверхприбыли, но лишает граждан РФ шансов на выздоровление или достойную жизнь. Однако на вопрос «Обеспечивались ли в данных случаях национальные интересы в сфере научно-технического прогресса?» ответить утвердительно нельзя, поскольку отечественный производитель просто вводит в оборот дженерик, не несущий самостоятельной научной ценности. Дженерик не представляет собой результат глубокой научной мысли, за его разработкой не стоят десятки исследователей, сотни клинических испытаний. Дженерики лишь проекции достигнутых вершин фармацевтического научного развития.
Примеры выдачи принудительных лицензий демонстрируют правоту Л. В. Борисовой, отмечающей, что любые дискреционные нормы опасны в правовом регулировании собственности, в том числе интеллектуальной. Широкое усмотрение – почва для злоупотреблений, и подобные злоупотребления от правоприменителя подрывают доверие правообладателей, в том числе и международных, к отечественной правовой системе и снижают инвестиционную привлекательность Российской Федерации. Предложением Л. В. Борисовой было ограниченное и разумное использование механизма принудительных лицензий, которое было бы возможно только в качестве исключения [Борисова, 2024].
Ранее в тексте статьи уже упоминалось, что за последние два года было внесено два законопроекта в сфере принудительных лицензий. Для упрощения изложения предлагается именовать их согласно фамилиям депутатов, которые внесли законопроекты на рассмотрение в Государственную Думу: законопроект Кузнецова12 и законопроект Кутепова-Федорова13.
Законопроект Кузнецова предлагает ввод принудительного лицензирования в отношении объектов авторских и смежных прав. Цель законопроекта была в возвращении лицензионного контента, предотвращении пиратства и поддержке кинотеатров, театров, цифровых платформ и т. д. Условия выдачи принудительных лицензий были бы таковы:
1) отказ от лицензионного договора или невозможность исполнения договора лицензиатом по вине лицензиара;
2) последствием такого отказа становится недоступность результатов интеллектуальной деятельности и товаров, в которых он выражен, о чем имеется заключение Минкульта или Минцифры (если речь идет о программах для ЭВМ или базах данных);
3) лицензиар находится в юрисдикции недружественного государства или лицензиар подконтролен иностранному лицу из недружественного государства.
Законопроект Кутепова-Федорова не вводит новых оснований выдачи принудительных лицензий, а равно не предлагает ввода принудительных лицензий на объекты авторских и смежных прав. Он заключается в расширении применения п. 1 ст. 1362 ГК РФ за счет отказа от ключевого признака нормы: неиспользования объекта в течение трех-четырех лет в том случае, если патентообладатель связан с недружественным государством. Необходимость в законопроекте объясняется тем, что правообладатели уходят, но оставляют после себя производственные мощности, сохраняя патенты. Без нарушения патентов нельзя их использовать, а равно воспроизводить полезные модели методом обратного инжиниринга. Сенаторы пишут, что в нынешних условиях у отечественных производителей нет возможности ждать три-четыре года для истребования лицензии.
Таким образом, ни один из этих законопроектов не направлен на развитие собственных научно-технических разработок, наукоемкого производства и индустрии контента. Законопроекты предполагают использование уже созданных в недружественных странах объектов интеллектуальной собственности, но не предполагают развитие собственных научных разработок.
Нельзя не согласиться с позицией Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которую она заняла в октябре 2024 г., оштрафовав компанию «Аксельфарм» за нарушение патентов Pfizer на более чем полмиллиарда рублей. ФАС указала, что принудительное лицензирование – это исключительная мера. Соблюдение патентного права – не прихоть, но требование закона, которое не зависит от юрисдикции правообладателя и помогает развивать фармацевтику – разрабатывать новые лекарства, регистрировать и продавать их[14].
Механизм принудительного лицензирования не позволяет развивать научно-технический прогресс, за исключением, возможно, основания, указанного в п. 2 ст. 1362 ГК РФ (практика применения которого вызывает большие вопросы). Безусловно, в научной среде можно встретить и противоположные этому взгляды. В совместной работе А. Т. Волков, Н. Г. Пономарева и Е. И. Рожкова [2024] высказывают свое мнение о том, что внедрение механизма принудительного лицензирования не снижает научно-технический потенциал фармацевтической отрасли и может способствовать инновационному развитию. Однако аргументация исследователей сводится к тому, что выдача принудительных лицензий не отталкивает фармацевтических гигантов от продолжения исследований. Полагается, что принудительные лицензии скорее не препятствуют инновационному развитию, нежели способствуют ему.
Принудительное лицензирование позволяет преодолеть недобросовестность отдельных правообладателей. Этот механизм содействует национальным интересам, направлен на охрану жизни и здоровья граждан, их обеспечение социально-значимыми товарами, в которых воплощаются объекты патентных прав. Таким образом, принудительное лицензирование представляет собой точечное решение возникшей перед социумом острой проблемы с обеспечением тем или иным благом, выраженным объектом патентных прав. Но быстрое решение – не всегда лучшее решение. Прибегая к принудительному лицензированию препаратов, требующее такой лицензии лицо косвенно подтверждает неспособность разработать свое изобретение: вместо поиска нового пути лечения редких заболеваний (например, муковисцидоза) и разработки собственного отечественного лекарственного препарата, отечественным производителям экономически выгоднее взять уже имеющуюся разработку западных фармкомпаний и внести незначительные корректировки для последующей реализации на рынке, а то и вовсе использовать тот же препарат. Корневая проблема заключается в зависимости рынка от недобросовестных правообладателей. Принудительное лицензирование – это точечное решение проблемы, а комплексное решение – это развитие импортозамещения, отечественной культуры и науки, поощрение интеллектуального потенциала и внедрение инноваций. Только «комплексное решение» будет отвечать реальным интересам Отечества в области научно-технического прогресса.
1 Патентный закон Российской Федерации: Федеральный Закон от 23.09.1992 № 3517-1 (ред. от 02.02.2006). (1992). Российская газета. № 225.
2 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2019 № С01-906/2019 по делу
№ А40-166505/2017. (2019). [Электронный ресурс]. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: consultant.ru (дата обращения: 18.01.2025)
3 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2023 № 09АП-47957/2023-ГК по делу № А40-185112/2022. (2023). [Электронный ресурс]. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: consultant.ru (дата обращения: 18.01.2025)
4 Программное проявление: в РФ разрешат принудительное лицензирование ПО. (2023). [Электронный ресурс]. Сайт мультмедийного информационного центра «Известия». 13 марта. URL: http://iz.ru/1526187/evgeniia-pertceva-valerii-kodachigov/programmnoe-proiavlenie-v-rf-razreshat-prinuditelnoe-litcenzirovanie-po (дата обращения: 18.01.2025)
5 Чем обернется для российской фармы появление комиссии по принудительному лицензированию? (2024). [Электронный ресурс]. Сайт средства массовой информации «GxP News». 10 апр. URL: https://gxpnews.net/2024/04/chem-obernetsya-dlya-rossijskoj-farmy-poyavlenie-komissii-po-prinuditelnomu-liczenzirovaniyu/ (дата обращения: 18.01.2025)
6 О подкомиссии по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции: Постановление Правительства РФ от 27.03.2024 № 380. (2024). [Электронный ресурс]. Официальный интернет-портал правовой информации. 04 апр. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 18.01.2025)
7 О разрешении акционерному обществу «Фармасинтез» использования изобретений без согласия патентообладателей в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием «Ремдесивир»: Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3718-р. (2021). [Электронный ресурс]. Официальный интернет-портал правовой информации. 05 янв. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 18.01.2025)
8 Решение Верховного Суда РФ от 27.05.2021 № АКПИ21-303 Об отказе в удовлетворении административного искового заявления об оспаривании распоряжения Правительства РФ от 31.12.2020
№ 3718-р. (2021). [Электронный ресурс]. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: consultant.ru (дата обращения: 18.01.2025)
9 О разрешении ООО «ГЕРОФАРМ» и ООО «ПРОМОМЕД РУС» использования изобретений, принадлежащих компании «НОВО НОРДИСК А/С», без согласия правообладателя в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием «Семаглутид»: Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2023 № 3937-р. (2023). [Электронный ресурс]. Официальный интернет-портал правовой информации. 28 дек. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 18.01.2025)
10 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2023 № 09АП-47957/2023-ГК по делу № А40-185112/2022. (2023). [Электронный ресурс]. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: consultant.ru (дата обращения: 18.01.2025)
11 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2019 № С01-906/2019 по делу
№ А40-166505/2017. (2019). [Электронный ресурс]. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: consultant.ru (дата обращения: 18.01.2025)
12 О внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»: Законопроект № 184016-8 от 19.08.2022. (2022). [Электронный ресурс]. Система обеспечения законодательной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/184016-8 (дата обращения: 18.01.2025)
13 О внесении изменений в статью 1362 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (принудительных лицензиях в отношении иностранных правообладателей): Законопроект № 717759-8 от 13.09.2024. (2024). [Электронный ресурс]. Система обеспечения законодательной деятельности. URL: ttps://sozd.duma.gov.ru/bill/717759-8 (дата обращения: 18.01.2025)
[14] «ФАС наказала фармкомпанию “Аксельфарм” за недобросовестную конкуренцию». (2024). [Электронный ресурс]. Официальный сайт Федеральной Антимонопольной Службы. 28 окт. URL: https://fas.gov.ru/publications/24527 (дата обращения: 18.01.2025).
Об авторах
Ю. З. Озманян
Новосибирский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: ozmanyan.y@mail.ru
магистрант г. Новосибирск, ул. Пирогова, 1
Я. А. Карунная
Новосибирский государственный университет
Email: advokat2631@bk.ru
кандидат юридических наук, доцент г. Новосибирск, ул. Пирогова, 1
Список литературы
- Борисова, Л. В. (2024). О реализации в России идеи принудительного лицензирования объектов авторских и смежных прав. Юрист. № 8. С. 36-40. doi: 10.18572/1812-3929-2024-8-36-40
- Волков, А. Т., Пономарева, Н. Г., Рожкова, Е. И. (2024). Принудительное лицензирование и импортозамещение на примере фармацевтической отрасли ИС. Промышленная собственность. № 2. С. 27-34.
- Ворожевич, А. С. (2021). Границы исключительных прав, пределы их осуществления и защиты: дис. … д-ра юрид. наук. Москва: МГУ.
- Иванов, А. Ю. (2017). Принудительное лицензирование для инновационного развития: о необходимости балансировки режима интеллектуальных прав. Закон. № 5. С. 78-93.
- Латынцев, А. В. (2023). Отличие правовой природы принудительного лицензирования и возмездного безлицензионного использования объектов патентной охраны. Журнал российского права. № 3. С. 56-68. doi: 10.12737/jrp.2023.029
- Латынцев, А. В. (2024). Унификация и модернизация правовых механизмов безлицензионного (бездоговорного) использования объектов патентной охраны в сфере здравоохранения. Журнал российского права. № 10. С. 81-92. doi: 10.61205/jrp.2024.10.3
- Поляков, Д. Н. (2022). Принудительное лицензирование ПО правообладателей из недружественных стран: реторсии, необходимый шаг на пути к импортозамещению или нарушение норм международного частного права? Вопросы российского и международного права. Т. 12. № 10-1. С. 442-453. 10.34670/AR.2022.11.40.027
- Пучинина, М. М. (2021). Условие предоставления принудительной лицензии для использования зависимого изобретения. Актуальные проблемы российского права. Т. 16. № 11. С. 117-132.
- Сасыкин, К. Ю. (2022). Принудительное лицензирование на фармацевтическом рынке: история и практика. Сибирское юридическое обозрение. № 3. С. 267-280. 10.19073/2658-7602-2022-19-3-267-280
- Стус, Е. А. (2023). К вопросу о предоставлении принудительной лицензии на рынке лекарственных средств. Журнал предпринимательского и корпоративного права. № 3. С. 13 16.
- Шебанова, Н. А. (2023). Международно-правовые основания принудительного лицензирования. Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 3 (41). С. 5-16.
Дополнительные файлы