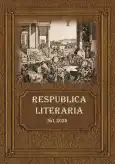“THE INTERESTS OF THE CHILD” IN THE CONTEXT OF ADOPTION: A COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL AND NATIONAL LAW
- Authors: Lukyanov N.E.1, Kvashnina D.A.2
-
Affiliations:
- Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
- Siberian Institute of Management – branch of RANEPA
- Issue: Vol 6, No 1 (2025)
- Pages: 145-158
- Section: LAW
- URL: https://bakhtiniada.ru/2713-3125/article/view/305652
- DOI: https://doi.org/10.47850/RL.2024.6.1.145-158
- ID: 305652
Cite item
Full Text
Abstract
This article offers a comparative legal analysis of the concept of “interests of the child” used in the context of international and national adoption. The relevance of the study is due to the need to protect the rights of children – one of the most vulnerable groups of the population, as well as the increasing number of cross-border adoptions. Currently, there is no single point of view in the scientific literature on the definition of the essence of the concept of “the interests of the child”, which can lead to several consequences: legal uncertainty; difficulties in international relations, increasing the risk of subjectivity; insufficient protection of the rights of the child.
Based on the analysis of scientific literature, the authors highlight three points of view on defining the essence of the concept of “interests of the child”. In the future, it is proposed to consider the “interests of the child” at three levels: macro level (universal needs), meso level (taking into account ethnic, cultural and religious characteristics) and micro level (individual characteristics of the child). The article emphasizes the dynamics of changes in a child’s interests, which are transformed depending on age, health status, and other factors.
Full Text
В современном мире, где права и благополучие детей становятся приоритетом международной и национальной политики, понятие «интересы ребенка» занимает центральное место в правовых, социальных и педагогических дискуссиях. Актуальность исследования обусловлена сразу несколькими моментами. Во-первых, дети – это особая категория населения, обеспечение прав которой является в первую очередь внутренним делом каждого государства. Сравнительный анализ понятия «интересы ребенка» позволяет выявить общие тенденции и национальные особенности, его интерпретации в различных правовых системах и культурных контекстах. Это особенно важно в условиях глобализации, когда международное сотрудничество в области защиты прав детей требует унификации стандартов, учитывающих как универсальные ценности, так и локальные традиции.
Во-вторых, защита и обеспечение интересов детей ложится на плечи государственных органов и законных представителей, чье видение ситуации не всегда может совпадать с реальными интересами детей. В-третьих, в отечественной научной литературе понятию «интересы ребенка» уделяется мало внимания, по сути пик исследований пришелся на середину 2010-х гг., и в основном в них предпринимаются попытки сформулировать универсальное понятие.
В-четвертых, актуальность исследования данного понятия обусловлена его многогранностью и значимостью для формирования эффективных механизмов защиты прав детей и для разработки стратегий, направленных на обеспечение их гармоничного развития. Актуальность исследования также связана с необходимостью совершенствования законодательства и практики его применения в сфере семейного, образовательного и социального права. Понимание того, как интерпретируются и реализуются интересы ребенка в разных странах, способствует выработке более эффективных инструментов для защиты прав несовершеннолетних, предотвращения их дискриминации и обеспечения их полноценного участия в общественной жизни.
Методология исследования. В исследовании используются системный метод и сравнительно-правовой анализ. Сравнительно-правовой анализ позволяет рассмотреть и сопоставить подходы к понятию «интересы ребенка» на международном, национальном и локальном уровнях. Системный метод позволяет интегрировать данные с разных уровней для формирования целостной картины. Такой многоуровневый анализ позволяет не только выявить общие тенденции и различия в интерпретации «интересов ребенка», но и предложить рекомендации по совершенствованию законодательства и практики его применения с учетом глобальных стандартов и локальной специфики. Для проведения сравнительного анализа понятия «интересы ребенка» в контексте законодательства, включая международное, национальное и локальное регулирование, используется анализ на нескольких уровнях, охватывающий макро-, мезо- и микроуровни, что позволяет комплексно изучить проблему, учитывая, как глобальные тенденции, так и специфику отдельных правовых систем и практик.
Все вышесказанное определило цель исследования – провести сравнительно-правовой анализ сущности понятия «интересы ребенка». Для начала определим, что понимается под «интересами ребенка». В отечественных исследованиях, посвященных определению сущности понятия «интересы ребенка», отсутствует общепринятая точка зрения. О. А. Бондаренко отмечает, что «“интересы ребенка”» – понятие, которое имеет различное наполнение и звучание в теории права и практике его применения» [Бонадренко, 2017, с. 46]. Такое состояние влечет, в свою очередь, по мнению О. Ю. Ильиной, «различное смысловое наполнение рассматриваемого понятия» [Ильина, 2017, с. 21]. Однако некоторые трактовки имеют определенные сходства, что позволяет выделить три основных точки зрения к определению понятия «интересы ребенка». Согласно первой точке зрения, под «интересами ребенка» понимаются жизненно важные потребности (условия), необходимые для существования ребенка. С такой позиции, «интересы ребенка» являются фиксированной величиной, c минимальными требованиями. В этом случае условия жизни ребенка могут либо «полностью соответствовать» указанным требованиям и интересам ребенка, либо «не соответствовать».
Так, О. Ю. Ильина определяет «интересы ребенка» как потребность ребенка в благоприятных условиях. Реализация же указанных условий, по ее мнению, является обязанностью родителей [Ильина, 2006, с. 27]. В указанном понятии можно обнаружить прямую связь между «интересами ребенка» и выполнением родителями своих обязанностей, установленных законодательством. Ю. Ф. Беспалов в своих работах под «интересами ребенка» понимал «условия, необходимые для его содержания и благополучного развития» [Беспалов, 2015, с. 12]. Похожей точки зрения придерживалась и М. В. Антакольская, которая рассматривала «интересы ребенка» как «объективные условия, необходимые для его выживания, развития и социализации, которые должны быть обеспечены государством, семьей и обществом» [Антакольская, 2013, с. 293]. А. В. Заряева и В. Д. Малкова так же определяли «интересы ребенка» как «жизненно важные потребности ребенка, без реализации которых он не может жить и развиваться» [Заряева, Малкова, 2005, с. 280].
Согласно второй точке зрения, «интересы ребенка» выступают качественной характеристикой, критерием для определения уровня жизни ребенка. В таком случае действия лиц или условия жизни могут соотноситься с интересами ребенка «лучше» или «хуже», но низкий уровень условий жизни ребенка при этом может соответствовать необходимому минимуму. Так О. Ф. Нечаева определяет «интересы ребенка» как «оптимальные и объективные условия проживания, содержания и воспитания ребенка, обеспечивающие его физическое, психическое, нравственное и духовное развитие» [Нечаева, 2012 с. 62]. Она так же отмечает, что «оценивать интересы ребенка необходимо еще с точки зрения его развития (нравственного, духовного, физического)» [Нечаева, 2012, с. 63-64]. По мнению Н. В. Кравчука, под «интересами ребенка» следует понимать «систему координат, и в ее рамках должна рассматриваться ситуация, в которой находится ребенок, и действия, которые должны предпринимать окружающие его люди и уполномоченные органы» [Кравчук, 2017, с. 99]. «Интересы ребенка» при этом являются регулятором, которым, по его мнению, следует руководствоваться при возникновении различных коллизий. Среди зарубежных исследователей стоит отметить работу С. Сарджент, в которой «интересы ребенка» упоминаются как некий стандарт, ожидаемое поведение всех участников отношений в контексте усыновления [Sargent, 2009, p. 29]. Один из разработчиков проекта Конвенции о правах ребенка – Дж. Ван Бюрен – отмечает, что нельзя установить четкий, исчерпывающий перечень условий, соответствующих «интересам ребенка». Поэтому такое понятие должно быть максимально гибким, и каждое дело, где фигурируют «интересы ребенка», должно рассматриваться индивидуально [Van Bueren, 1998, p. 47].
Третья точка зрения является комбинацией первых двух. Например, О. Г. Миролюбова предлагает рассматривать «интересы ребенка» как «охраняемые законом потребности ребенка в материальных или духовных благах, обеспечивающих его гармоничное личностное развитие, либо (в зависимости от степени осознания) стремление к достижению этих благ, служащее регулятором деятельности ребенка, его родителей, законных представителей, иных субъектов, уполномоченных государственных органов, а также критерием осуществления и защиты прав» [Миролюбова, 2012, с. 58]. По сути, это довольно сложносоставное понятие О. Г. Миролюбовой включает в себя содержание «интересов ребенка» как жизненно важных потребностей, а также степень соответствия им условий. Важно отметить и акцент на учете мнения ребенка.
В отечественном законодательстве понятие «интересы ребенка» упоминается довольно часто. Только в 19 главе Семейного кодекса РФ, посвященной вопросам усыновления, понятие «интересы ребенка» можно встретить в статьях 124, 137, 141 и 143 СК РФ. В соответствии с семейным законодательством РФ, усыновление или удочерение является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и должно соответствовать «интересам ребенка»1. Однако в самом Семейном кодексе не содержится определение понятия «интересов ребенка» и не раскрывается их содержание. В утратившем силу Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 04.07.1997 № 9 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об установлении усыновления» упоминалось, что под «интересами ребенка», которые в силу п. 1 ст. 124 СК РФ обязательно должны быть соблюдены при усыновлении, следует понимать «обеспечение условий, необходимых для его полноценного физического, психического и духовного развития»2. В действующем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ под «интересами детей» понимается «создание, в частности, благоприятных условий (как материального, так и морального характера) для их воспитания и всестороннего развития, с учетом этнического происхождения, принадлежности его к определенной религии и культуре, родного языка, возможности обеспечения преемственности в воспитании и образовании, а также с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие»3.
В законодательстве субъектов раньше закреплялось определение понятия «интересы ребенка». Так, в документах, регулирующих деятельность органов опеки и попечительства в республике Кабардино-Балкария4, Чувашской республике5, в Ивановской области6 и в городе федерального значения Москва, под «интересами ребенка» понимались «совокупность личных неимущественных и имущественных прав и законных интересов ребенка, обеспечивающих его нормальную жизнедеятельность»7. В действующем в настоящее время законодательстве этих субъектов отсутствует определение «интересов ребенка»8, что вызвано принятием нового Федерального закона «Об опеке и попечительстве» и последующем изменением регионального законодательства. Но при этом сам закон «Об опеке и попечительстве» понятие «интересы ребенка» не закрепляет и не раскрывает9.
Понятие «интересы ребенка» присутствует в международном законодательстве. Впервые оно упоминается в Декларации прав ребенка, согласно которой государству следует руководствоваться «наилучшими интересами ребенка» при принятии законов, позволяющих ребенку развиваться физически, умственно, нравственно и духовно» (принцип 2), а родители или другие лица, ответственные за воспитание ребенка, должны рассматривать обеспечение наилучших интересов в качестве руководящего принципа (принцип 7) 10. В Конвенции о правах ребенка в статье 3 указывается, что наилучшему обеспечению интересов ребенка уделяется первоочередное внимание. Исходя из дальнейшего смысла указанной нормы, а также преамбулы конвенции, можно сказать, что интересам ребенка соответствует необходимая защита, содействие и забота со стороны государства, а также создание атмосферы семейного окружения, счастья, любви и понимания, необходимой для полного и гармоничного развития личности ребенка11. В «Замечании общего порядка № 14 о праве ребенка на уделение первоочередного внимания наилучшему обеспечению его интересов» отмечается, что такое понятие является «гибким и адаптируемым, и позволяет учитывать индивидуальные особенности развития, личные обстоятельства и потребности ребенка»12. В Гаагской Конвенции о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления учет интересов ребенка упоминается как «обязательное условие международного усыновления, так и обязательное условие для его отмены»13. Европейская конвенция об усыновлении детей также упоминает «интересы ребенка» как необходимое условие усыновления. При этом само понятие «интересы ребенка» (как и понятие «наилучшие интересы ребенка») ни в Европейской конвенции, ни в Гаагской Конвенции об усыновлении не раскрывается.
Стоит отметить, что в Конвенции о правах ребенка используется понятие «наилучшие интересы ребенка» (в статьях 18.1, 20.1, 21.1), на основе чего можно предположить, что в указанном случае они выступают как оценочная категория. Такую же идею можно обнаружить и в Декларации прав ребенка 1959 г. (принцип 2) и в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (статья 5 пункт b), а также в ряде иных документов ООН14. В законодательстве ряда европейских государств (например, Нидерландов) наилучшие интересы ребенка являются именно оценочной категорией [Старовойтова, 2017, с. 9]. Однако их приоритет установлен не в отношении других прав ребенка, а в отношении иных лиц. В решениях ЕСПЧ обычно используется понятие «интересы ребенка» без упоминания «наилучших»15. В отечественном законодательстве, например, в Семейном кодексе РФ (глава 19), как было сказано выше, также используется понятие «интересы ребенка». Согласно В. В. Дориной, «ссылки на наилучшие интересы в международных актах касаются только детей, и ни к одной другой категории субъектов прав человека исследуемый принцип не применяется и не упоминается» [Дорина, 2021, с. 114]. В связи с этим, и с учетом того, что РФ ратифицировала Конвенцию, на наш взгляд следует считать понятия «интересы ребенка» и «наилучшие интересы ребенка» тождественными по смыслу.
Подводя промежуточные итоги, можно отметить, что «интересы ребенка» определяются как жизненно необходимые потребности (условия) существования ребенка, либо некие критерии для определения уровня жизни ребенка. Третья точка зрения предполагает сочетание обеих озвученных выше.
Есть возможность, проинтерпретировать существование «интересов ребенка» на нескольких уровнях, где «интересы ребенка» как жизненно важные потребности находятся на макроуровне и охватывают всех детей. «Интересы ребенка» как совокупность условий, в большей степени соответствующих индивидуальным особенностям развития ребенка, находятся на микроуровне. Также, на наш взгляд, представляется логичным выделить мезоуровень, где «интересы ребенка» соответствуют в большей или меньшей степени определенным группам, например, этническим.
Соответственно, на макроуровне «интересы детей» выражены через требования к усыновителям, усыновляемым и к процедуре усыновления. Удовлетворение указанных интересов представляет тот минимальный набор требований, при котором усыновление в принципе возможно. Указанная группа интересов устанавливается государством и выступает как условия усыновления в отношении всех детей, участвующих в усыновлении. Кроме интересов ребенка данные нормы также отражают интересы государства (ст. 124, 127 СК РФ) и интересы иных лиц, в частности, бывших родителей, опекунов (ст. 129, 131 СК РФ) и других родственников (ст. 137 СК РФ). Однако в некоторых ситуациях данные требования могут вступать в конфликт с интересами ребенка. Так, О. Ю. Ильина утверждает, что «государственное регулирование направлено в первую очередь на увеличение численности детского населения и его оздоровление – государственные интересы в области демографии ставятся над интересами ребенка в их широком, международно-правовом понимании» [Ильина, 2015, с. 53]. Зарубежные авторы придерживаются схожей точки зрения. Так, британский юрист Дж. Ван Бюрен резюмирует, что «семейная жизнь не всегда отвечает интересам ребенка» [Van Bueren, 1998, p. 189]. С. Сарджент указывает на влияние государственных и иных интересов на международное усыновление, отмечая, что такое усыновление в первую очередь соответствует государственным интересам, вне зависимости от того, принимает такое государство детей или отдает [Sargent, 2009, p. 103]. Н. Кэнтуэлл отмечает, что «наилучшие интересы ребенка учитываются в процессе создания законодательства и системы органов, реализующей интересы ребенка» [Cantwell, 2014, p. 42].
Существуют условия для усыновления детей по российскому законодательству, без соблюдения которых усыновление невозможно в принципе. Такие условия соответствуют интересам детей на макроуровне. Примерами таких условий можно назвать:
- усыновление только несовершеннолетних детей (п. 2, ст. 124 СК РФ);
- запрет на усыновление братьев и сестер разными лицами (п. 3, ст. 124 СК.РФ);
- преимущественное усыновление детей российскими гражданами, и запрет на усыновление гражданами США (п. 4, ст. 124);
- запрет посреднической деятельности при усыновлении детей (ст. 126.1);
- запрет на усыновление определенными лицами (ст. 127 СК РФ);
- наличие разницы в возрасте между усыновителем, не состоящем в браке, и усыновляемым не менее 16 лет (ст. 128 СК РФ);
- наличие согласия на усыновление родителей ребенка, опекунов, попечителей (ст. 129, ст. 131 СК РФ);
- согласие супруга при усыновлении ребенка одним из супругов, если ребенок не усыновляется обоими супругами (п. 1, ст. 133 СК РФ);
- согласие ребенка достигшего возраста 10 лет на усыновление (ст. 132 СК РФ);
- соблюдение тайны усыновления (ст. 139 СК РФ).
На мезоуровне соответствие усыновления интересам ребенка рассматривается с учетом его этнических, культурных и религиозных особенностей. В российском законодательстве судам рекомендуется при рассмотрении соответствия усыновления интересам ребенка учитывать его этническое происхождение, принадлежность его к определенной религии и культуре, родной язык, возможности обеспечения преемственности в воспитании и образовании (ст. 123 СК РФ). Подобные положения можно найти в законодательстве других стран и в различных межгосударственных соглашениях [Кабанов, 2016, с. 212].
Например, в США усыновление детей – представителей коренного населения – регулируется отдельными федеральными законами, так, усыновление детей коренных американцев регулируется отдельным законом «О социальном благополучии индейских детей» (Indian Child Welfare Act-ICWA). Индейским ребенком считается неженатый человек до 18 лет либо член индейского племени, либо человек, обладающий правом состоять в племени. При усыновлении индейского ребенка приоритет отдается в следующем порядке:
1) член семьи индейского ребенка;
2) другие члены племени ребенка;
3) другие индейские семьи16.
На микроуровне «интересы ребенка» рассматриваются с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Указанные интересы могут вступать в конфликт с интересами на макроуровне или мезоуровне. В таком случае, интересы конкретного ребенка на микроуровне обладают приоритетом в зависимости от ситуации, возраста ребенка и других заслуживающих внимания обстоятельств. Однако указанные интересы требуют подробной регламентации для устранения возможности злоупотребления интересами детей. Например, Семейный кодекс РФ устанавливает возможность раздельного усыновления братьев и сестер, если такое усыновление соответствует интересам детей (п. 3, ст. 127 СК РФ). Так же допускается усыновление иностранными гражданами (за исключением граждан США). Хотя запрета на усыновление иностранцами нет, приоритет отдается российским гражданам, за исключением случаев, когда между иностранным гражданином и ребенком установлены родственные отношения (п. 4, ст. 127 СК РФ). Возможно усыновление лицами, имевшими судимость по деяниям, указанным в п 9, ст. 127 СК РФ. В таком случае суд учитывает индивидуально все обстоятельства и соответствие такого усыновления интересам ребенка, и возможность в полной мере обеспечить усыновляемому ребенку полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие без риска для жизни ребенка и его здоровья. Рассматривая далее личность усыновителя, отметим, что допускается усыновление лицами, имеющими заболевания, указанные в п. 6, ст. 127 СК РФ, и лицами, не имеющими достаточного дохода, а также лицами, не прошедшими необходимой подготовки, если такое усыновление соответствует интересам ребенка. В некоторых случаях допускается усыновление лицами, чья разница в возрасте с усыновляемым составляет менее 16 лет, опять же в случае соответствия такого усыновления интересам ребенка ст. 128 СК РФ. Как правило, усыновление в указанных выше случаях допускается в случае наличия фактически сложившихся семейных отношений.
Также стоит отметить, что суд может спросить мнение ребенка младше 10 лет, если придет к выводу, что ребенок способен сформулировать свои взгляды по вопросам, касающимся его усыновления. При наличии оснований полагать, что присутствие ребенка в суде может оказать на него неблагоприятное воздействие, суд выясняет по этому поводу мнение органа опеки и попечительства17. Суд также может разрешить общение ребенка с бывшими родственниками (бабушкой и дедушкой) (ст. 137 СК РФ).
Тайна усыновления в некоторых случаях может вступить в противоречие с правом ребенка знать своих родителей. В таком случае, в интересах ребенка ему может быть предоставлена информация о бывших родителях. По сути, решающее слово в данной ситуации отдается усыновителям.
Обратим внимание на то, что, хотя не установлено ограничение на усыновление для детей, болеющих различными заболеваниями, суду необходимо выяснить, известно ли усыновителям об имеющихся у ребенка заболеваниях, а также смогут ли они обеспечить такому ребенку надлежащий уход и соответствующее лечение18. Такая же точка зрения встречается и в зарубежных работах [Appell, Boyer, 1995, pp. 72-73].
Обобщая, можно сказать, что на микроуровне соответствие интересам ребенка рассматривается по следующим категориям:
а) личность и статус усыновителя;
б) согласие заинтересованных лиц;
в) индивидуальные особенности усыновляемого (возраст, здоровье, культура, этнические особенности, прошлый жизненный опыт ребенка);
г) взаимоотношения с бывшей семьей или иными лицами, с которыми у ребенка возникло чувство привязанности;
д) материальная обеспеченность усыновителя.
Определение интересов ребенка на индивидуальном уровне по указанным критериям еще не означает, что можно считать их идентичными интересам детей в целом. В зарубежном законодательстве можно проследить похожую тенденцию. Так, в США в каждом штате существует свое законодательство, регулирующее процедуру усыновления, но при этом существует федеральный единый акт, устанавливающий общие правила, касающиеся вопросов усыновления (Uniform adoption act). Кроме того, как было сказано выше, отдельными актами регулируются вопросы усыновления коренных жителей США (индейцы и жители Аляски).
В заключение отметим, что Н. В. Кравчук предлагает похожую классификацию, разделяя факторы, оказывающие влияние на соответствие усыновления интересам ребенка, на объективные (социально-экономические) и субъективные (мнения лиц, участвующих в усыновлении). По его мнению, социально-экономические факторы в целом обладают большим приоритетом, чем субъективные, которые учитываются при соблюдении объективных факторов [Кравчук, 2017, с. 70]. С данным утверждением можно поспорить, поскольку выше нами было определено, что не всегда социально-экономические факторы предшествуют субъективным. Однако само разделение факторов на объективные и субъективные представляет интерес, и можно предположить возможный приоритет объективных факторов на макроуровне и приоритет субъективных факторов на мезо- и микроуровне.
С учетом всего вышесказанного, можно утверждать, что в отечественной научной литературе существует три точки зрения относительно определения «интересов ребенка»: как жизненно необходимых потребностей (условий) существования ребенка, либо неких критериев для определения уровня жизни ребенка, либо синтез обоих этих вариантов.
В работе представлена интерпретация указанных точек зрения как трех уровней анализа понятия «интересы ребенка». Если рассматривать понятие на макроуровне, то под «интересами ребенка» необходимо понимать совокупность условий, обеспечивающих его жизнедеятельность, нравственное и физическое воспитание. Иначе говоря, без соблюдения этих условий, усыновление или иные действия в отношении ребенка становятся невозможными (если конечно отдельные условия не противоречат интересам ребенка на микроуровне). На мезоуровне «интересы ребенка» представлены с учетом его этнических, культурных или религиозных особенностей. На микроуровне «интересы ребенка» рассматриваются в каждом случае отдельно, по определенным категориям. Это обусловлено воздействием на процесс формирования интересов факторов объективного (уровень дохода, наличие жилья, приоритет усыновления семейной парой) и субъективного характера (например, согласие родителей или согласие усыновляемого). В зависимости от ситуации приоритетом могут обладать как объективные, так и субъективные факторы. Указанная гибкость понятия «интересов ребенка» и сочетание государственных и индивидуальных интересов в процессе определения «интересов ребенка» на макроуровне может допускать возможность манипулирования указанным понятием. В качестве примера можно назвать запрет на усыновление гражданами определенных государств или ограничение усыновления детей представителями другой народности или культуры. Оценка интересов ребенка на микроуровне происходит по следующим категориям: а) личность и статус усыновителя; б) согласие заинтересованных лиц; в) индивидуальные особенности усыновляемого (возраст, здоровье, культура, этнические особенности, прошлый жизненный опыт ребенка); г) взаимоотношения с бывшей семьей или иными лицами, с которыми у ребенка возникло чувство привязанности; д) материальная обеспеченность усыновителя.
Можно отметить динамичный характер «интересов ребенка», т. к. они меняются в зависимости от возраста, здоровья, возникших потребностей, уровня психического развития. Международные акты намеренно не ограничивают принцип обеспечения «наилучших интересов ребенка», чтобы сохранить его гибкость и адаптируемость к каждому конкретному случаю. Работы как отечественных, так и зарубежных исследователей в целом имеют сходство в постановке проблемы и в выводах, но при этом большинство исследователей рассматривают «интересы ребенка» лишь на одном из уровней. Что касается анализа законодательства, можно отметить, что понятия «интересы ребенка» и «наилучшие интересы ребенка» тождественны по своему смыслу, но при этом понятие «интересы ребенка» не закреплено в настоящее время в федеральном законодательстве, но в прошлом присутствовало в правовых актах субъектов РФ.
Понятие «интересы ребенка» в настоящее время отражено в международном законодательстве (Конвенция о правах ребенка) и в актах судебных органах (Постановление Пленума Верховного суда № 8 от 20 апреля 2006 г.). Также отметим, что «интересы ребенка» выступают основой для принятия решений при формировании законодательства, установлении процедуры усыновления, формировании национальных стратегий и при координации деятельности различных органов. Любые процессуальные действия должны соответствовать интересам ребенка (подача жалоб, отмена усыновления, мониторинг, проведение учебно-информационных и просветительских мероприятий). В случае же коллизии «интересов ребенка» на различных уровнях следует руководствоваться интересами ребенка на уровне, в большем степени учитывающим его индивидуальные особенности и условия жизни (соответственно мезо- и микроуровне).
Сравнительный анализ отечественных и зарубежных исследований, посвященных определению сущности понятия «интересы ребенка» в контексте усыновления, а также национального и международного законодательства позволяет выделить различные классификации интересов ребенка. Например, «интересы ребенка» могут быть классифицированы по временной перспективе (краткосрочные и долгосрочные), по сфере жизни (физическое здоровье, эмоциональное благополучие, образование, социальная адаптация), по субъекту, определяющему эти интересы (сам ребенок, его законные представители, государственные органы опеки и попечительства, суд). Важно отметить, что правовые системы США и стран Европейского Союза часто акцентируют внимание на участии самого ребенка в процессе определения его интересов, особенно при достижении им определенного возраста и уровня развития. В этих странах широко применяется практика привлечения специалистов, например, детских психологов и психиатров, для оценки благополучия ребенка и определения его истинных интересов.
В отличие от зарубежных правовых систем, российское законодательство, хотя и декларирует приоритет интересов ребенка, часто сталкивается с трудностями в их конкретном определении и реализации на практике. Здесь важно отметить, что «интересы ребенка» в российском законодательстве часто трактуются широко, порой не оставляя четкого понимания, какие именно потребности ребенка являются приоритетными в конкретной ситуации усыновления. Это приводит к необходимости более детальной разработки критериев оценки интересов ребенка, с учетом индивидуальных особенностей каждого случая. Исследование выявляет сложную, как правило, двухуровневую систему «интересов ребенка» при усыновлении. Первый уровень – это непосредственные потребности ребенка, связанные с обеспечением его физического и психического здоровья, безопасностью и развитием. Второй уровень – это долгосрочные интересы, ориентированные на формирование гармоничной личности, социальную адаптацию и самореализацию. Важно подчеркнуть, что баланс между этими уровнями должен определяться с учетом всех обстоятельств конкретного случая, и не всегда краткосрочные потребности должны превалировать над долгосрочными целями. Кроме того, работа демонстрирует необходимость учета интересов других субъектов процесса усыновления: биородителей, усыновителей, органов опеки и попечительства. Гармонизация этих интересов является одной из ключевых задач для обеспечения успешного усыновления и благополучия ребенка. Результаты представленного в статье анализа показывают необходимость дальнейшей работы в России по совершенствованию законодательной базы и практики усыновления с целью более четкого определения «интересов ребенка» и обеспечения его максимального благополучия.
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ, ст. 124 (с изменениями и дополнениями от 05.02.2025). [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 07.02.2025).
2 О применении судами законодательства при рассмотрении дел об установлении усыновления: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. № 9, п. 15 (утратил силу). [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15039/ (дата обращения: 07.02.2025).
3 О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 8, п. 15 (с изменениями и дополнениями от 17.12.2013). [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59826/ (дата обращения: 07.02.2025).
4 Об органах опеки и попечительства: закон Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2000 г.
№ 21-РЗ, ст. 1 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2004). [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/907001126 (дата обращения: 07.02.2025).
5 Об организации работы по опеке и попечительству: закон Чувашской Республики от 19 декабря 1997 г. № 29, ст. 1 (с изменениями и дополнениями от 4.02.2008) (утратил силу). [Электронный ресурс]. URL: ttp://docs.cntd.ru/document/804959242 (дата обращения: 07.02.2025).
6 Об органах опеки и попечительства и патронате над несовершеннолетними в Ивановской области: закон Ивановской области от 15 февраля 2007 г. № 33-ОЗ, ст. 1 (с изменениями и дополнениями от 10.04.2012) (утратил силу). [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/882213271 (дата обращения: 07.02.2025).
7 Об организации работы по опеке, попечительству и патронату в городе Москве: закон города Москвы от 4 июня 1997 г. № 16, ст.1 (с изменениями и дополнениями от 29.09.2004) (утратил силу). [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MLAW;n=7563#07115181564589932 (дата обращения: 07.02.2025).
8 Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве: закон города Москва от 14 апреля 2010 г. № 12 (с изменениями и дополнениями от 25.12.2024). [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/3718611 (дата обращения: 07.02.2025).
9 Об опеке и попечительстве: федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 8.02.2024). [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76459/ (дата обращения: 07.02.2025).
10 Декларация прав ребенка (принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.). [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml (дата обращения: 07.02.2025).
11 Конвенция о правах ребенка: конвенция от 20 ноября 1989 г. (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.). [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_9959/8dd76fa744c4a215c388d6a7b97017be1e8fe80d/ (дата обращения: 07.02.2025).
12 Комитет ООН по правам ребенка (КПР), Замечание общего порядка №14 (2013) о праве ребенка на уделение первоочередного внимания наилучшему обеспечению его интересов (пункт 1 статьи 3), 29 мая 2013, CRC /C/GC/14. [Электронный ресурс]. URL: https://www.refworld.org.ru/docid/528b2c874.html (дата обращения: 07.02.2025).
13 Конвенция о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления Гаага: конвенция от 29 мая 1993 г. (подписана Российской Федерацией 7 сентября 2000 года). [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/1902311(дата обращения: 07.02.2025).
14 Например, такое упоминание можно встретить в упоминаемых выше Замечаниях общего порядка № 14 (2013) о праве ребенка на уделение первоочередного внимания наилучшему обеспечению его интересов, изданных Комитетом ООН по правам ребенка (КПР) (п. 1, ст. 3). 29 мая 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: ttps://www.refworld.org.ru/docid/528b2c874.html (дата обращения: 07.02.2025).
15 Примерами такой практики можно назвать дело «Каруссиотис против Португалии». [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/12190388/. И дело «Мэр (Maire) против Португалии». [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/55093883/ (дата обращения: 07.02.2025).
16 Более подробно можно познакомиться: NICWA: National Indian Child Welfare Association. [Электронный ресурс]. URL: https://www.nicwa.org/about-icwa/ (дата обращения: 07.02.2025).
17 О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 8, п. 4 (с изменениями и дополнениями от 17.12.2013). [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59826/ (дата обращения: 07.02.2025).
18 Там же, п. 15.
About the authors
N. E. Lukyanov
Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: nikolaylukyanov70@gmail.com
Junior Researcher Novosibirsk, Nikolayev Str., 8
D. A. Kvashnina
Siberian Institute of Management – branch of RANEPA
Email: darya-blond@mail.ru
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor Novosibirsk, Nizhny Novgorod St., 6
References
- Antokolskaya, M. V. (2013). Family Law. Textbook. 3th ed., revised and expanded. Moscow. (In Russ.)
- Bespalov, Y. F. (2015). Consideration and Resolution of Civil and Family Cases Involving Children by Courts. Educational and Practical Guide for University Students Specializing in “Jurisprudence”. Moscow. (In Russ.)
- Bondarenko, O. A. (2017). “Interests of the Child” as a Legal Category. Legal Concept. No. 1. Pp. 44-49. DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2017.1.7. (In Russ.)
- Dorina, V. V. (2021). The Concept of “Best Interests of the Child” in International Law. Bulletin of Polotsk State University. Series D. Economic and Legal Sciences. No. 5. Pp. 113-119. doi: 10.52928/2070-1632-2021-56-5-113-119. (In Russ.)
- Zaryaeva, A. V., Malkova, V. D. (2005). Juvenile Law. Moscow. (In Russ.)
- Ilyina, O. Yu. (2006). Interests of the Child in Family Law of the Russian Federation. Moscow. (In Russ.)
- Ilyina, O. Yu. (2017). The Problem of Harmonizing Private and Public Interests in Family Law of the Russian Federation. Moscow. (In Russ.)
- Kabanov, V. L. (2016). Implementation of the Generally Recognized International Legal Principle Ensuring the Best Interests of the Child. Universal and Regional Aspects. Moscow. (In Russ.)
- Kravchuk, N. V. (2017). The Best Interests of the Child. The Content of the Concept and Its Place in Family Legislation of Russia. Actual Problems of Russian Law. No. 5. Pp. 97-103. doi: 10.17803/1994-1471.2017.78.5.097-103. (In Russ.)
- Mirolyubova, O. G. (2012). On the Family-Legal Concept of “Children's Interests”. Bulletin of Yaroslavl State University. Series: Humanities. No. 4 (1). Pp. 56-58. (In Russ.)
- Nechaeva, A. M. (2012). Protection of Children's Interests in a Large Family. Laws of Russia: Experience, Analysis, Practice. No. 6. Pp. 59-67. (In Russ.)
- Starovoitova, K. V. (2017). The Principle of the Best Interests of the Child and the Limits of Its Recognition by Foreign States. Humanities, Socio-Economic and Social Sciences. No. 8-9. Pp. 1 12. (In Russ.)
- Appell, A. R., Boyer, B. A. (1995). Parental Rights vs Best Interests of the Child. A False Dichotomy in the Context of Adoption. Duke Journal of Gender Law & Policy. No. 1. Pp. 63-83.
- Cantwell, N. (2014). The Best Interests of the Child in Intercountry Adoption. United Nations Children’s Fund (UNICEF). Florence.
- Marquard, O. (1976). Kompensation. Historisches Woerterbuch der Philosophie. No. 4. Pp. 912-918.
- Sargent, S. (2009). The Best Interests of the Child in Intercountry Adoption. A Constructivist and Comparative Account. Dissertation PhD Law. De Montfort University. Leicester. 306 p.
- Van Bueren, G. (1998). The International Law on the Rights of the Child. Toronto.
Supplementary files