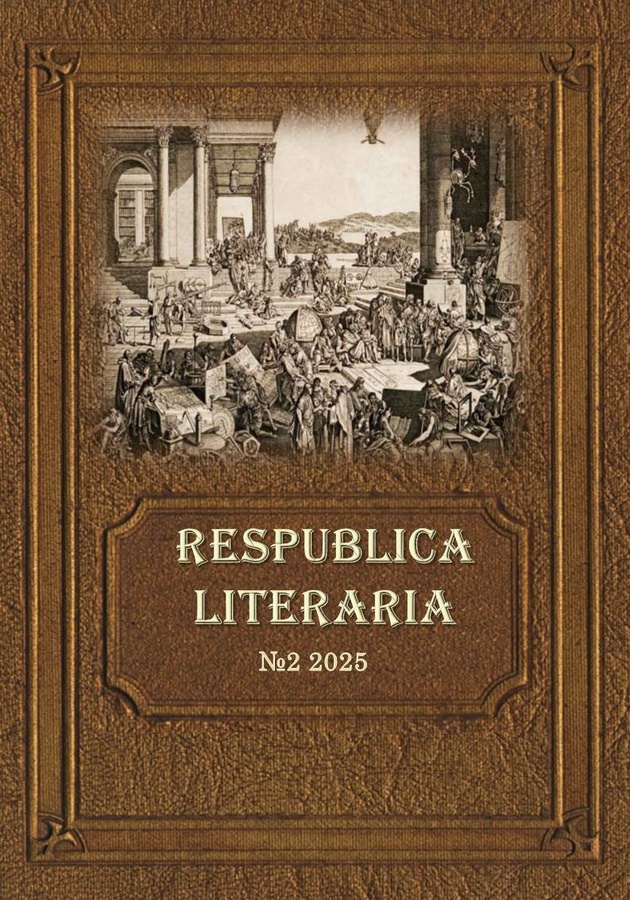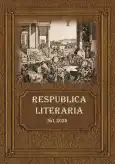Социальная политика как стратегия организации социального взаимодействия и развития общества
- Авторы: Абрамова М.А.1
-
Учреждения:
- Институт философии и права СО РАН
- Выпуск: Том 6, № 1 (2025)
- Страницы: 88-105
- Раздел: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- URL: https://bakhtiniada.ru/2713-3125/article/view/305647
- DOI: https://doi.org/10.47850/RL.2024.6.1.88-105
- ID: 305647
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Обращение к понятию «социальная политика» обусловлено необходимостью смены узконаправленного фокуса рассмотрения его содержания как мер по оказанию помощи отдельным группам населения для сохранения относительной видимости поддержания принципа социальной справедливости в обществе, на более широкое восприятие как стратегии организации социального взаимодействия и развития общества, обеспечивающей поддержание определенного уровня качества жизни населения, его благосостояние, и как следствие – стабильность государства. Автор на примере ретроспективного анализа показывает, какое участие в формирования модели социальной политики в России принимала система государственного администрирования, Церковь, общины и частные благотворители. Результаты анализа позволяют заключить, что социальная политика исторически рассматривалась в России как стратегия организации социального взаимодействия и развития общества.
Полный текст
Обращаясь к понятию «социальная политика» первоначально требуется упомянуть интерпретации термина «политика», который трактуется весьма неоднозначно: по Платону как искусство жить вместе; О. Шпенглер сопоставлял политику с жизнью («в высшем смысле есть жизнь, а жизнь есть политика»); К. Маркс рассматривал политику через отношение классов к государственной власти; Т. Парсонс в согласии с разрабатываемым структурно- функциональным подходом интерпретировал ее как совокупность способов организации определенных элементов тотальной системы для эффективного действия во имя достижения общих целей; М. Вебер в рамках своей концепции «понимающей социологии» рассматривал политику как стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей и пр. В России можно вспомнить работы В.И. Ленина, рассматривавшего внутреннюю политику как «…участие в делах государства, направление государства, определение форм, задач, содержания деятельности государства...» [1969. С. 340], что приближало понимание термина к социальной политике. Определение термина «политика», представленное в БСЭ, максимально близко подходит к содержанию термина «социальная политика»: «сфера деятельности, связанная с отношениями между социальными группами, сутью которой является определение форм, задач, содержания деятельности государства» [БСЭ, 217-218]. Сопоставим: П.В. Романов пишет, что социальная политика – это «система мер, осуществляемых государством, общественными организациями, местным самоуправлением и предприятиями по широкому кругу вопросов, связанных с общественным благополучием, а также сам процесс принятия решений» [Романов, 2003. С. 45]; «социальная политика – это система мер, обеспечивающая решения во всех сферах, представляющих социальные потребности общества и его слоев» [Васильева, 2008. C. 27]; «социальная политика – процедура согласования и реализации множества интересов различных социальных групп в социальной сфере, к которой традиционно относится образование, здравоохранение, вопросы социальной защиты, демографии» [БСЭ, 1975. С. 217-218]. Таким образом, если мы фокусируем внимание на аспекте регулирования государством внутренней политики относительно социальных групп, населения в целом, качества его жизни, благополучия, сохранности человеческого капитала, то мы фактически должны анализировать именно те меры, которые направлены на рост совокупных возможностей общества, обеспечение баланса общественных интересов, равных и справедливых возможностей для развития личности, то есть социальную политику. Еще К. Маркс и Ф. Энгельс писали о том, что «любая общественная проблема приобретает политический характер, если её решение, прямо или опосредованно, связано с классовыми интересами, проблемой власти» [Маркс, Энгельс, 1955. С. 360]. Вполне логично предположить, что именно эти меры обеспечивают устойчивое развитие государства, независимо от того, какую форму правления оно имеет. И потому обращение к истории социальной политики лишь с момента формирования идеи «социального государства»1, как это традиционно принято, является на наш взгляд не совсем корректным.
Принятие тезиса о непосредственной взаимосвязи между политикой как сферой деятельности, регулирующей, в том числе, отношения между социальными группами, позволяет нам не согласиться с тем, что первыми примерами реализации социальной политики являются благотворительные мероприятия, организованные церковью для поддержки бедных слоев населения, и первые нормативные акты, обеспечивающие в индустриальную эпоху права трудящихся. История, с одной стороны, позволяет нам найти и более ранние примеры попыток регулирования взаимоотношений между государством и социальными группами, например государственное устройство ацтеков, Законы царя Хаммурапи старовавилонского периода (1750-х годы до н.э.), являющиеся одним из древнейших памятников существования Права в мире или Указ Князя Владимира, возложившего на Церковь обязанность по обеспечению нуждающихся, что по сути уже можно рассматривать как меру, имеющую государственный характер [Древнерусские…, 1976]. С другой – при принятии в качестве отправной точки развития «социальной политики» примеры XIX в. мы остаемся на уровне восприятия термина как некой вспомогательной практики, позволяющей государству «выравнивать» баланс за счет мер поддержки бедных слоев населения и социального попечения отдельных групп граждан. При этом источники формирования потенциальных проблем общественного развития, которые потребуют в будущем организации государством «спасательных» действий, в том числе по латанию дыр в бюджете или восстановлению прав незащищенных групп населения, останутся вне поля нашего внимания.
Одной из причин существующего разрыва между принятием очевидной взаимосвязи социальной политики и устойчивого развития страны с традиционным освещением истории появления первых документов и проведения благотворительных мероприятий в данной области, является, как мы полагаем, длительная трансформация роли, а соответственно и прав различных социальных слоев населения в процессе становления государства. Неподлежащая сегодня обсуждению позиция о необходимости защиты прав всех граждан и реализации принципа равноправия, еще недавно, по меркам истории, была достаточно революционной темой для обсуждения.
Другой не менее значимой, но менее очевидной причиной является недостаточное освещение взаимосвязи специфики формирования социальной политики в рамках социокультурного развития конкретного государства, обусловленной доминирующим типом вероисповедания, моделью взаимодействия между правителем, системой государственного администрирования и народом. Рассмотрим последнее на примере истории развития социальной политики в России.
Одной из форм проявления ценностей православия еще со времен Крещения Руси была благотворительность, что чаще всего демонстрировалось деятельностью Церкви и монастырей. И как мы уже отметили выше, это являлось и служением Богу, и выполнением возложенной правителем миссии. Традиция восходит к византийской системе государственного управления, в которой одной из задач Церкви являлось воспитание населения в духе истинного христианства и участие в поддержании идеологии единства государства [см.: Абрамова, 2016]. При этом отличительной особенностью и древнерусской церкви, и древнерусской школы была общесословность [Курочкина, 2012].
Кроме благотворительности существовала и другая практика социальной поддержки в России – взаимопомощь, сначала «одним миром», затем внутри определенного сословия, так, крестьянские семьи объединялись в общины для облегчения ведения хозяйства и оказания помощи друг другу.
По велению Ивана Грозного в 1551 г. для нуждающихся нищих были организованы богадельни, содержавшиеся за счет милостыни. В качестве социальных работников в них выступали трудоспособные нищие, а контроль над ними должны были осуществлять священники и чиновники [Стоглав, 1862, с. 58].
Как отмечает В. А. Подольский, учреждение патриаршества в России повлекло за собой попытку централизации социальных функций церкви. На патриаршего была возложена ответственность по управлению богадельнями [Подольский, 2021, с. 129]. Но необходимо подчеркнуть, что финансирование строительства богаделен по Приказу 1670 г. осуществлялось из средств Большого Дворца, т.е. управления делами царя [Фирсов, 2012, с. 165]. Алексей Михайлович вводит дополнительную меру по содержанию отставных военнослужащих за счет государства на территории монастырей [Гусаков, 2015, с. 19]. Участие в благотворительности высокопоставленных чиновников до возникновения купечества в XVIII в. было основным. Так, во второй половине XVII века окольничий Федор Ртищев содержал в Москве больницу для бедных, а глава Посольского приказа Ордин-Нащокин – богадельню в Пскове [Фирсов, 1999, с. 60]. Первое упоминание о создании в Москве богаделен по европейскому образцу для обучения детей нищих ремеслам относится к 1682 г., когда был издан Указ царя Фёдора Алексеевича [Кононова, 2014, с. 65].
Петр I по примеру Европы постепенно переводит вопросы попечения о бедных и здравоохранения в компетенцию светских властей. В 1712 г. им был подписан Указ, инициирующий создание во всех губерниях «гошпиталей», т. е. богаделен, для попечения о пожилых и инвалидах из числа военнослужащих [Подольский, 2021, с. 130]. Как отмечает В. А. Подольский, для укрепления военно-морского флота как наиболее важного инструмента внешней политики, Петр I вносит в «Морской устав» в 1720 г. гарантии социальной поддержки не имевшим дохода отставным морякам, вдовам и сиротам погибших моряков. Пенсионные расходы оплачивались из тех же средств Адмиралтейской коллегии, что и жалования [Полное собрание законов Российской Империи… Т. VI: 1720–1722 гг., 1830, с. 57-58]. В 1758 году по аналогии социальные гарантии получили служащие сухопутных войск. Источники финансирования казны Военной коллегии, выплачивавшей пенсии и содержавшей богадельни были монастыри, а после секуляризации монастырских земель в 1764 году – государственная казна и благотворители [Бокарев, 2018, с. 16].
Усиление роли государства в сохранении социального баланса происходит при Екатерине II, по величайшей воле которой был построен первый воспитательный дом в Москве (Манифест об учреждении издан 1 сентября 1763 г. [Детская помощь, 1894]), затем открыты еще в Нижнем Новгороде и других городах. Кроме этого она фактически положила начало региональной системе благотворительности. 7 (18) ноября 1775 г. было издано «Учреждение для управления губерний Российской империи», в соответствии с которым в течение последующих десяти лет была проведена кардинальная реформа административно-территориального деления Российской империи. В задачи губернской реформы входило скорее усиление власти на местах для предотвращения крестьянских восстаний, чем собственно создание системы социальной поддержки. Но поскольку в рамках реформы была создана не только новая система администрирования, ведения судебно-исполнительных дел, а и особые приказы общественного призрения, в задачи которых входили координация и реализация мер по благотворительности, то это способствовало социальной поддержке населения в уездах [Полное собрание законов Российской Империи… Т. XX. 1775–1780 гг., 1830, с. 229-304]. Данным решением правительство в некоторой степени освободило казну от крупных расходов2, переложив задачу по финансированию на местное дворянство, и тем самым создало прецедент по неявному распределению ответственности за ситуацию в регионах. Еще одним скрытым эффектом этой реформы стал рост частной благотворительности. Величайший манифест, прочитанный в 1763 г. во всех приходских церквах Империи, обеспечил прилив пожертвований, позволивший заложить здание в Москве, а деятельность таких образованных людей как И.И. Бецкой при участии которого были основаны: Воспитательное общество благородных девиц (1764), мещанское училище (1765) и воспитательные дома для призрения подкидышей в Москве (1764) и в Санкт-Петербурге (1770 г.) – стала примером для подражания. В результате, если в конце XVIII века в ведении 55 региональных отделений Департамента призрения находилось всего лишь несколько десятков социальных учреждений, то к концу 1850-х годов, их число возросло более чем в 20 раз, составив 769 заведений [Тевлина, 2011, с. 153].
В 1827 г. Николай I на основе обобщения прежнего законодательства утвердил «Устав о пенсиях и единовременных пособиях», в согласии с которым пенсии платились из казны, пополнявшейся за счет вычетов от 1 до 2 % из жалований служащих на выплаты пенсий вдовам и сиротам госслужащих [Гусаков, 2015, с. 58-71].
Данные факты свидетельствуют о том, что истоками формирования социальной поддержки населения в России являются ценности православия, их трансляция посредством личного и общинного взаимодействия, участие Церкви и частной благотворительности, а также меры предпринимаемые Государством. Данный вывод указывает на то, что формируемой системе социальной поддержки в России был присущ, в том числе, и государственный характер, который проявляет себя несколько раньше, чем принято об этом упоминать, ставя в пример принятие в 1834 г. закона о бедных и программы защиты прав трудящихся в 1897 году в Европе [Huff, 2002; Levenstam, 1981].
Как отмечает В. В. Тевлина, усиление внимания к вопросам социальной помощи происходит в эпоху правления Александра I (1801–1825), когда стали определяться «концептуальные подходы к социальной политике» [Тевлина, 2011, с. 152], в том числе и благодаря появлению в 1809 г. конституционного проекта М. М. Сперанского «Введение к уложению государственных законов», который представлял собой кодекс законов общественного и государственного устройства, и имел высшую юридическую силу [Иванов, 2010, с. 288]. Благодаря реализации проекта М. М. Сперанского происходит, хоть и косвенное, но допущение различных слоев населения посредством создания дум (системы местного самоуправления) к участию в управлении государством. Возникает система выборных органов власти, что значительно расширило электоральное право. Несмотря на то, что реформы по проекту не были осуществлены в полном мере, важно признать, участие власти в качестве координирующего центра, направлявшего и согласовывавшего деятельность различных министерств [Yaney, 1973, с. 265-275]. Так Джордж Йени, в исследовании эволюции высших и центральных правительственных учреждений, подчеркивает роль правительства в имперской России, ставшего основным инициатором радикальных социальных изменений, в том числе в разработке и реализации реформ, имеющих социальный характер.
При сохранении в сфере социальной политики государственного патернализма, важную роль в формировании гражданского общества сыграли благотворительные организации [Lindenmeyr, 1996]. Кроме этого расширялась практика использования касс взаимопомощи. Так, в 1814 и 1823 гг. по указанию императора Александра I были созданы комитеты помощи, получавшие средства из сборов, пожертвований, процентов с судебных взысканий и премий, и выдававшие пенсии, пособия на съем жилья и на медицинские услуги [Гусаков, 2015, с. 43-48]. Органами власти с одобрения императора создавались эмеритальные кассы (лат. «emeritus» – «заслуженный»), собиравшие пожертвования в размере 3–6 % от жалования и выдававшие пенсии служащим и членам их семей в размере 25–100 % жалования. Таким образом, появилась возможность увеличить пенсионные выплаты при сокращении быстро росших трат казны на государственные пенсии [Подольский, 2021, с. 132].
Появление социальных учреждений связано не только с инициативой со стороны государства, но и частных лиц, готовых вкладывать свои средства в благотворительность, в том числе в создание общественных организаций.
К 1850-м годам общественная благотворительность в России уже занимает более значимую позицию и, хотя политику «в социальной сфере определял царь и подчиненный ему “Департамент Общественного призрения” [Тевлина, 2011, с. 152] значительный вклад в социальную работу вносят подвижники и общественные организации [Андреевский, 1889; Ануфриев, 1913; Благотворительная Россия…, 1901]. “Департамент Общественного призрения” оказывал помощь наиболее нуждающимся служащим, вдовам, ветеранам войн, детям. Эта помощь заключалась в лечении их в больницах, содержании в приютах или выплате единовременных пособий» [Тевлина, 2011, с. 152].
Если же рассматривать ситуацию в целом, участие государства в решении социальных вопросов, хоть и было с точки зрения затрачиваемых финансов не столь значительным по сравнению с затратами на другие нужды, например, военные компании, но личная помощь, которую оказывали члены царской семьи, дворяне и купцы скорее становилась примером проявления ценностей православия, таких как милосердие. В условиях существовавшего до 60-х гг. XIX в. ограничения на открытие общественных организаций, которые бы могли выполнять функцию социальной поддержки, такая форма участия была ценна.
С 1862 года упрощается процедура получения разрешения на ведение такой деятельности, поскольку достаточно было подать прошение уже только в Министерство внутренних дел. С 1864 года открывается возможность создавать сельские (земства), а с 1870 года городские органы самоуправления (думы), которые также могли заниматься социальной помощью [Тевлина, 2011, с. 153].
Борис Горшков, анализируя эволюцию российского законодательства, приходит к заключению, что еще до создания выборных законодательных институтов общество имело возможность участвовать в законодательных процессах [Gorshkov, 2009, р. 171]. Это означает его потенциальное влияние на формирование общей концепции государственной социальной политики, выбор ее приоритетных направлений и их реализацию на общеимперском и региональном уровнях. Как отмечает Н.С. Моторова, общество выступало как полноценный субъект, оказывавший «влияние на формирование и реализацию различных аспектов внутренней политики, участвовавший в разрешении острых социальных проблем» [Моторова, 2020, с. 197-198]. Появившийся Закон 1861 года предписывал создавать товарищества взаимопомощи на казённых горных заводах для выплаты пособий нетрудоспособным, затем такие же кассы были созданы в других отраслях. В 1897 г. был принят Закон о правилах создания касс для частных компаний. Министерства внутренних дел и финансов утверждали уставы и контролировали работу всех видов касс [Гусаков, 2015, с. 95-107].
Расширение возможностей ввиду проводимых реформ, а также роста критики со стороны общественности существующей практики оказания социальной помощи приводят в конце 90-х гг. XIX в. к созданию по инициативе правительства Комиссии для пересмотра законодательства об общественном призрении, руководство которой было возложено на Константина Грота, одного из основателей системы призрения слепых в России. Работу комиссии критиковал К.П. Победоносцев, считая, что она слепо копирует европейские образцы, созданные в протестантской, фабрично-городской среде и не учитывает традиционную для России форму призрения – приходскую, которая более подходит для деревень и сел [Победоносцев, 1898, с. 13]. В комиссии К.К. Грота не было представителей духовного ведомства [Горнов, 2008]. К.П. Победоносцев считал, что в России нищих становится все меньше и только не знающие России горожане думают, что их все больше: «Много у нас в деревнях бедных, но это не нищие, нуждающиеся в призрении; нищими они становятся в неурожай и другие годины испытаний, стихиями производимые. Но в этих случаях гамбургская система не поможет: в этих случаях нужна немедленная помощь пострадавшим или деньгами, или предоставлением им заработка: обедневший хозяин стыдится протягивать руку за подаянием как нищий» [Победоносцев, 1898, с. 14]. Результатом работы комиссии стало утверждение основного принципа оказания социальной помощи – адресность.
Важно отметить, что идеи служения народу, которыми были отмечены многие труды известных философов, деятелей культуры и науки того времени создали благодатную почву для развития частной инициативы. Так, Н.К. Михайловский, который, по характеристике российского «энциклопедиста» С.А. Венгерова, стал идеологом поколения 1870-х годов [Венгеров, 1896, с. 492] «очеловечивает» идею прогресса, выдвигая на первый план принципы служения обществу и принесения себя в жертву для общего блага. Способность к такому подвижничеству отличает развитую личность, выделяет ее из толпы [Горнов, 2008]. Как отмечает В. А. Горнов, социально-психологическая модель «кающегося дворянина» становится сутью деятельности освободительного движения 40-60-х годов ХХ века в России, и показывает его отличие от западноевропейского демократизма, созданного классовой борьбой, а не чувством вины.
Мы полагаем, что благоприятной почвой для развития данной идеи, ее духовным родником стали ценности православия, которые изначально не учитывали сословные отличия, что и проявилось ранее в развитии системы народного образования, а позднее системы здравоохранения. Во многом на их становление как отмечает В.В. Тевлина, повлияло развитие самоуправления. К тому же система деятельности земских и городских органов самоуправления оказалась намного эффективнее: «по количеству учреждений она превосходила всю государственную систему призрения почти в 2 раза» [Тевлина, 2002, с. 64‑67]. Важно отметить, что помощь, оказываемая органами самоуправления имела разные форматы: от предоставления земельного надела («более того, 38 млн. сельских и городских жителей, т. е. каждый третий в стране, получили надел земли от сельского или городского местного управления» [Тевлина, 2011, с. 153]) до вложений в образование, здравоохранение и социальную поддержку населения, «составившими основную статью расходов бюджета земств, рост которого между 1864 и 1913 годами вырос с 14,7 до 253,8 млн. рублей» [Polunov, 1995, р. 144].
Кроме этого для защиты прав рабочих в 1901 г. был издан указ о получении пенсии из казны при утрате трудоспособности, а в Законе 1903 года была зафиксирована обязанность работодателей «выплачивать пособия и пенсии фабричным и горнозаводским рабочим при несчастных случаях, компенсировать им расходы на лечение» [Гусаков, 2015, с. 144].
К 1914 г. общественное попечение о детях в России соответствовало европейскому. В Петербурге в 1902 г. работали 393 бесплатные и дешевые столовые, которые были открыты благотворителями и благотворительными обществами [Елефренко, 2008, с. 67-80]. Обществом попечения о бедных и больных детях «Синий крест» было организовано не только питание, обучение в «Трудовом убежище», воскресные занятия «на духовные, литературные и научные темы», но и летний отдых для наиболее слабых детей, где они «отдыхали на чистом воздухе от трудов и пыли города» [Отчет первой детской столовой…, 1906]. Общество за время своего существования увеличило число призреваемых с 25 до 1000 человек. Фребелевское общество на рубеже веков организовало в Санкт‑Петербурге первые детские сады и летние колонии для малолетних [Курочкина, 2012]. Как заключает И.Н. Курочкина, по созданию специализированных учебных заведений для детей, родившихся инвалидами, Россия в начале ХХ века занимала одно из передовых мест в мире. Более того, Анатолий Безкоровайны подчеркивает государственный характер оказания в имперской России медицинской помощи, что значительно отличает социальный характер поддержки, оказываемой государством населению от западного мира [Bezkorovainy, 2018, р. 46].
Таким образом, к началу ХХ века модель социальной политики в России представляла симбиоз государственного администрирования, активной деятельности общественных организаций, органов местного самоуправления и частных лиц. Данная модель вполне соответствовала идее В.И. Герье, положившего начало сравнительно-историческому изучению различных систем и национальных моделей общественной помощи. Изучая благотворительность и социальное обеспечение в странах Западной Европы, таких, как Англия, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Италия, Бельгия, государствах Скандинавии и сопоставляя их системы с российской, он отмечал общность их исторических корней: «В соразмерном участии и стройном взаимодействии общины, области и государства заключается условие правильной организации и успешного хода дела в призрении бедных» [Герье, 1897а, Герье, 1897b, с. 174]. В.И. Герье рассматривал общественное призрение как культурную форму благотворительности, отличавшуюся от более ранних и примитивных ее форм организацией, мотивами и целями, поскольку субъектом общественного призрения является уже «коллективное лицо» – община или земская единица, организованная в общину (территориально-административную основу призрения) [Горнов, 2008], а целью – «разумное обеспечение нуждающихся и предупреждение нищеты, мотивируемое общественным интересом, сознанием гражданской солидарности между членами общины и заботой правительства о благе подданных» [Герье, 1897b, с. 174].
Данное понимание В.И. Герье системы общественного призрения фактически совпадает с более широким пониманием социальной политики, которое мы рассматриваем как стратегию организации социального взаимодействия и развития общества, обеспечивающую поддержание определенного уровня качества жизни населения и его благосостояние. Оно было также созвучно идеям, доминировавшим в России на рубеже XIX-XX вв., создавшим благоприятную почву для рассмотрения социальной поддержки как одной из приоритетных социально-политических задач общественности и государственной власти одновременно [Тевлина, 2011, с. 154].
Подчеркнем, что многие механизмы социальной поддержки населения, созданные к началу ХХ века нашли продолжение и развитие после 1917 г. Так, по мнению Анатолия Безкоровайны система бесплатной и доступной медицинской помощи в Советском государстве не была самостоятельным явлением, а выступала своеобразной модификацией модели медицинской помощи, сложившейся в имперскую эпоху [Bezkorovainy, 2018, с. 47]. Можно лишь отметить, что изменения в социальной политике, произошедшие после октябрьской революции сменили детерминанты в ее организации от принципов демократизации и адресности к государственно-централизованной парадигме [Тевлина, 2011, с. 154]. Это было закреплено в Конституции РСФСР, принятой в июле 1918 года.
Период до 30-х гг. ХХ в. ознаменовался поиском концептуальных подходов по организации социальной помощи гражданам и механизмов стабилизации социальной обстановки. С этой целью были созданы специальные органы ответственные за социальную помощь и поддержку людям. 31 октября 1918 года было принято «Положение о социальном обеспечении трудящихся» заложившего основные принципы социальной политики, подразумевавшие принятие молодым государством ответственности за социальное обеспечение всех без исключения граждан РСФСР, источником существования которых являлся лишь собственный труд, социальное обеспечение трудящихся за счет государства и через органы власти [60 лет…, 1977]. Принцип социальной справедливости, который был заложен в основу реализации социальной политики стал приоритетным во время хрущевских реформ (1956–1964 гг.). Это позволило системе социального обеспечения в отношении равенства доступа и объема услуг стать одной из лучших в мире, несмотря на то, что в среднем уровень жизни населения был не очень высоким. Важно отметить, что советская модель социальной политики была взята за основу многими государствами, в том числе и Европы.
В 80-е гг. ХХ в. усиливаются противоречия в реализации принципа «социальной справедливости» [Гринберг, 2012; Гринберг, 2016; Заславская, 1986], проявляющиеся в распределении и начислении заработной платы, премий по формальным признакам, уравниловке. Как отмечают А.И. Гретченко и Н.А. Каверина «в период перестройки уравнительный принцип в распределении социальных благ стал трактоваться как источник социальной несправедливости и социальной напряженности» [Гретченко, Каверина, 2020, с. 73], что привело на фоне социально-экономических изменений, произошедших в конце 1980-х гг. (внедрение хозрасчета, кооперативов, платных услуг) и начале 1990-х (дефицит товаров, экономический кризис), к смене самого понимания социальной справедливости [Гретченко, Каверина, 2020, с. 73; Наумова, Роговин, 1987], которую перестали рассматривать в рамках сохранения общественного баланса, сфокусировав все внимание на личных приобретениях индивида, которые демонстрировало его экономическое положение.
Данные тенденции в России совпадают с происходящим в это время общемировым кризисом идеи социального государства, что нашло отражение в Конституции 1993 г., где появляется термин «социальное государство» как отражение концепции рыночной экономики welfare state [Esping-Andersen, 1990], полностью отвергающей социал-демократическую модель, сформированную в СССР. Е.Н. Данилова отмечает: «Социальные расходы, как неэффективные и порождающие иждивенчество, рассматривались как бремя для экономики; социальное равенство ушло на задний план, а дифференциация стала важным критерием справедливости» [Данилова, 2018, с. 44].
Таким образом, постсоветский период характеризуется разрушением всех достижений, сделанных Россией в отношении формирования собственной модели социальной политики, основанной на ценностях православия, активном участии личных инициатив и достаточно либеральной поддержке со стороны государства многих начинаний. Переход к рыночным условиям сопровождался приватизацией учреждений, предоставлявших социальные услуги, и развитием рынка платных услуг, прежде всего в сферах здравоохранения, образования и жилья. Государственное финансирование социальной сферы и отдельных направлений социальной политики было заменено обязательными страховыми взносами, для которых создавались внебюджетные социальные фонды [Данилова, 2018]. Подмена ценности «общежития» на доминирование индивидуализма было закреплено на уровне Конституции 1993 г., где были зафиксированы требования обеспечения индивида свободой выбора, равными возможностями для достижения благополучия, что, несомненно, обязывало отказаться от советской патерналистской системы и иждивенчества в сторону ответственности личности за сделанный ею выбор. Это фактически сняло с государства ответственность за все риски, а введение в тоже время платных услуг (например, медицинских), институтов страхования и адресной социальной помощи – по мнению экспертов, должно было дисциплинировать население, воспитывать более ответственное отношение и к своему здоровью, и к использованию социальных услуг [Данилова, 2018, с. 45]. Мы же полагаем, что ориентир на индивидуализм скорее способствовал формированию непомерных ожиданий от государства предоставления разнообразного спектра «выбора», что фактически и явилось катализатором роста иждивенческих настроений в обществе. Восприятие себя изолированно от социума стало источником не только неадекватного восприятия действительности, порождающего завышенные требования и построение оторванных от реальности планов, но и препятствовало установлению позитивной коммуникации для реализации имеющегося потенциала личности. Как следствие, нарастание депрессивных настроений в обществе, у одних как следствие ниспровержения общественных идеалов советского периода, подпитываемого насаждением этики рыночных отношений, а у других уже в более позднем периоде разочарование из-за крушения «воздушных замков».
Подмена социальных ориентиров привела к кардинальному изменению статуса социальной политики, которая из составляющей внутренней политики перешла в разряд политики «неотложных мер» [Offe, 1993]. В итоге осуществленных реформ 90-х гг. ХХ в. 70‑90 % населения оказались на границе нищенского существования. Впервые за послевоенные годы (1945–1989 годы) в пятидесяти территориях России смертность превысила рождаемость, а задолженность по выплате заработной платы работникам различных предприятий и организаций составила 4,2 трлн. рублей [Россия на пороге 21 века…, 2006 с. 143-145]. Социально-экономическая ситуация спровоцировала не только снижение уровня жизни населения, но поставила под угрозу институт семьи, спровоцировала разрушение вековых ценностей традиционных для российского общества.
Анализ трансформаций, происходящих с социальной политикой в России вначале XXI в. не входит в задачи данной статьи, поскольку мы пытались выявить тот момент, когда происходит смена концептуальных подходов к рассмотрению ее тесной взаимосвязи с определением внутренней политики. Вторым значимым для нас моментом при ретроспективном анализе формирования модели социальной политики характерной для России было выявление ее специфики в рамках социокультурного развития государства, обусловленного доминирующим типом вероисповедания, определенными отношениями между правительством и народом. Результаты анализа показали, что критическое отношение к исторически сложившейся модели в России, обвинения ее в формировании потребительского, иждивенческого отношения населения к государству, отсутствию условий для стимуляции активности человека [Кузьмен, 2013, с. 64], скорее обусловлено недостаточным вниманием к роли идеологической составляющей, а именно ценностей православия. Мы полагаем, что именно данный фактор обусловил воспитание коллективной ответственности, проявлявшейся в разнообразных формах благотворительности, распространении идеологии «кающегося дворянина» и нарождающемся сегодня волонтерском движении, активизировавшем деятельность многочисленных благотворительных обществ, фондов и объединений, среди которых Красный Крест (1864) и др. Попытки привлечения народной инициативы к решению разнообразных задач общественного развития являются, по нашему мнению, свидетельством возврата к политико-идеологической ориентации на приоритет общечеловеческих ценностей и ценностей православия в том числе. Реализация же пропагандируемой «субсидиарной» модели социальной политики, в которой «роль государства сводится к созданию механизмов регулирования и к самому регулированию этих отношений» [Социальная политики государства…, 2003, с. 44] как раз более соответствует модели политики «неотложных мер», что лишь благоприятствует увеличению разрыва между формированием внутренней политики и социальной.
Полагаем, что в современных условиях социальная политика должна быть приоритетна для властных структур любого государства. Если мы признаем, что ухудшение благосостояния населения, снижения уровня его жизни, нарушение баланса в обществе, подрывает устойчивость страны и может спровоцировать ее внутренние кризисы, а как следствие – невозможность противостоять внешним угрозам, то разделять управление государством в целом, с последствиями выбранных стратегий в отношении внутренней политики, и социальной, в том числе, является крайне недальновидным.
Таким образом, считаем, что рассмотрение феномена социальной политики в отрыве от системы выстраивания взаимоотношений между государством и обществом провоцирует рост социального неравенства, социальных беспорядков приводящих к конфликту и проявлению недовольства населением. Необходим учет взаимосвязи между формированием вертикали управления государством и появлением будущих социальных проблем, с которыми призвана работать социальная политика в рамках ее восприятия как составной части внутренней политики государства, воплощенной в его социальных программах и практике регулирования отношений в обществе, чтобы создавать эффективные долгосрочные программы по развитию государства в целом. Но кроме этого, важно учитывать преемственность с исторически сформировавшейся моделью социальной политики в России, которая идеологически основывалась на реализации принципов взаимопомощи, общежития, благотворения, синтезе государственного администрирования, деятельности общественных организаций, органов местного самоуправления и частных лиц.
1 Предполагается, что появление термина «социальная политика» скорее связано не с выделением какого-то сегмента внутренней политики, который бы отвечал именно за взаимодействие общества и государства, а скорее с появлением новой модели государства – социального, что произошло по историческим меркам сравнительно недавно. Необходимость учета мнений разнообразных групп населения, в том числе трудящихся повлияло на потребность введения специальных мероприятий, которые и были объединены под названием «социальная политика».
2 По мнению Адель Линденмейр, лишь ограниченность ресурсов заставила правительство передать дело заботы о бедных благотворительным обществам и органам самоуправления при сохранении общего контроля за их деятельностью (см. [Lindenmeyr, 1996]).
Об авторах
М. А. Абрамова
Институт философии и права СО РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: marika24@yandex.ru
доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, заведующий отделом социальных и правовых исследований г. Новосибирск, Николаева, 8
Список литературы
- 60 лет советского здравоохранения. (1977). М.: Медицина. 416 с.
- Абрамова, М. А. (2016). Мультикультурализм как социокультурный феномен: историческая динамика, трансляция моноэтничными и межэтническими семьями. Новосибирск: Параллель.
- Андреевский, И. Е. (1889). О первых шагах деятельности С.-Петебургскаго приказа общественного призрения. (На основании архивных документов). Читано на торжественном акте археологического института 14-го мая 1889 г. Русская старина. Т. 63. № 8. С. 447-456. [Электронный ресурс]. URL: http://memoirs.ru/texts/Andreevsk_RS89T63.htm (дата обращения: 10.02.2025).
- Ануфриев, К. И. (1913). Нищенство и борьба с ним. Материалы для подготовительной комиссии для разработки вопроса по реорганизации борьбы с нищенством в С.-Петербурге. СПб.
- Благотворительная Россия. История государственной, общественной и частной благотворительности в России. (1901). Т. 1. Ч. 1, 2. СПб.
- Бокарев, Ю. П. (2018). Первые пенсионные системы Российской империи. Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. № 4. С. 15-24.
- БСЭ. (1975). 3-е изд. тт. 1-30. Т. 20. М.: Советская энциклопедия. 650 с.
- Васильева, Е. Г. (2008). «Социальное государство» и новая модель социальной политики в России. Власть. 2008. № 11. С. 27-30.
- Венгеров, С. (1896). Михайловский. Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. 19: А. СПб.
- Герье, В. И. (1897а). Записки об историческом развитии способов призрения в иностранных государствах и о теоретических началах правильной его постановки. М.
- Герье, В. И. (1897b). Призрение общественное. Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. 21. СПб.
- Горнов, В. А. (2008). Из истории развития общественного призрения в российской социальной мысли второй половины XIX – начала ХХ века. Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. № 20. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-razvitiya-obschestvennogo-prizreniya-v-rossiyskoy-sotsialnoy-mysli-vtoroy-poloviny-xix-nachala-hh-veka (дата обращения: 10.02.2025).
- Гретченко, А. И., Каверина, Н. А. (2020). Реализация принципов социальной справедливости в современной социальной политике (на примере национального проекта «человеческий капитал»). Вестник НГУЭУ. Общество и экономика: проблемы развития. № 2. С. 71-85. doi: 10.34020/2073-6495-2020-2-071-085
- Гринберг, Р. С. (2012). Свобода и справедливость. Российские соблазны ложного выбора. М.
- Гринберг, Р. С. (2016). В поисках равновесия. М.
- Гусаков, Д. Б. (2015). Генезис государственного пенсионного обеспечения и социального страхования в Российской империи: историко-правовой аспект. Дисс. ... канд. юрид. наук. СПб.
- Данилова, Е. Н. (2018). Трансформации социальной политики и дискурса социальной справедливости в России. Мир России. Т. 27. № 2. С. 36–61. doi: 10.17323/1811-038X-2018-27-2-36-61
- Детская помощь. № 11. (1894). СПб.
- Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. (1976). Отв. ред. акад. Л. В. Черепнин. М.: Наука.
- Елефренко, И. О. (2008). Некоторые аспекты социальной политики в России в досоветский период. Гуманитарное знание. Сб. ст. СПб.: Астерион. С. 67-80.
- Заславская, Т. И. (1986). Человеческий фактор развития экономики и социальная справедливость. Коммунист. № 13. С. 61-73.
- Иванов, В. С. (2010). Проект конституционного преобразования М. М. Сперанского. Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. № 3. С. 288-291
- Кононова, Т. Б. (2014). История социальной работы. М.: Юрайт.
- Кузьмен, О. В. (2013). Анализ эволюции модели социальной политики государства в РФ. Идеи и идеалы. Т. 2. № 1 (15). С. 63-69.
- Курочкина, И. Н. (2012). Русская педагогика. Страницы становления (VIII–XVIII вв.). М.: Флинта. 112 с.
- Ленин, В. И. (1969). Полное собрание сочинений. 5 изд. Т. 33. М.: Госполитиздат.
- Маркс, К., Энгельс, Ф. (1955). Сочинения. Изд. 2-е. В 50 т. Т.1. М.: Госполитиздат.
- Моторова, Н. С. (2020). Отражение социальной политики российской империи в 1861–1914 годах в англо-американской историографии. Известия Смоленского государственного университета. Исторические науки и археология. № 2 (50). С. 189-202.
- Наумова, Н. Ф., Роговин В. З. (1987). Задача на справедливость. Социологические исследования. № 3. С. 12–23.
- Отчет первой детской столовой Литейно-Рождественского отдела попечения о бедных и больных детях, состоявшего под покровительством Ее императорского Высочества великой княгини Елизаветы Маврикиевны за 1905 год. (1906). СПб.
- Победоносцев, К. П. (1898). Организация общественного призрения в России. СПб.
- Подольский, В. А. (2021). Социальная политика в Российской империи. Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. Вып. 3 (844). С. 126-139. doi: 10.52070/2500-347X_2021_3_844_126
- Полное собрание законов Российской Империи 1649–1825: в 45 т. Т. VI: 1720–1722 гг. (1830). Под ред. М. М. Сперанского. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. № 14252. C. 57-58
- Полное собрание законов Российской Империи 1649–1825: в 45 т. Т. XX. 1775–1780 гг. (1830). Под ред. М. М. Сперанского. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. № 14392. С. 229
- Романов, П. В. (2003). Социальные изменения и социальная политика. Журнал исследований социальной политики. Т. 1. № 1. С. 45-67.
- Россия на пороге 21 века. Оглядываясь на век минувший. (2000). М.: Наука. 342 с.
- Социальная политики государства: учеб. пособие (2003). Науч. рук. Н. Д. Вавилина; отв. ред. О. В. Кузьмен. Новосибирск: СибАГС.
- Стоглав. (1862). Казань: Типография губернского правления.
- Тевлина, В. В. (2002). Образование в области социальной работы в России: история, тенденции, опыт. Архангельск: Издательский центр СГМУ. 398 с.
- Тевлина, В. В. (2011). Социальная политика России в исторической ретроспективе. Ученые записки СПбГИПСР. Т. 16. Вып. 2. С. 152-157.
- Фирсов, М. В. (1999). История социальной работы в России: учебное пособие. М.: ВЛАДОС.
- Bezkorovainy, A. (2018). Science and Medicine in Imperial Russia. Chicago: Lily Enterprises, Inc. XIX. 468 p.
- Esping-Andersen, G. (1990). Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton.
- Gorshkov, B. B. (2009). Russia's Factory Children: State, Society, and Law, 1800–1917. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. XII. 216 p.
- Huff, D. (2002). The Social Work history station. New York: Boise State University. 110 p.
- Levenstam, T. (1981). Kyrklig diakoni och samhallets sociala omsorgsarbete. Alvsjo: Skeab/Verbum. 367 p.
- Lindenmeyr, A. (1996). Poverty is Not a Vice: Charity, Society, and the State in Imperial Russia. Princeton: Princeton University Press. XIV. 335 p.
- Lindenmeyr, A. Poverty is Not a Vice: Charity, Society, and the State in Imperial Russia. Princeton: Princeton University Press, XIV. 335 p.)
- Offe, С. (1993). The Politics of Social policy in East European Transitions: Antecedents, Agenda, and Agenda of Reform. Social research. Vol. 60. No 4. Pp. 193-219. doi: 10.1007/978-3-658-22263-5_11
- Polunov, Al. (1995). Russia in the nineteenth century. Autocracy, reform, and social change, 1814–1914. New-York – London. 286 p.
- Yaney, G. L. (1973). The systematization of Russian government: Social evolution in the domestic administration of Imperial Russia, 1711–1905. Urbana: University of Illinois Press, XVI. 430 p.
Дополнительные файлы