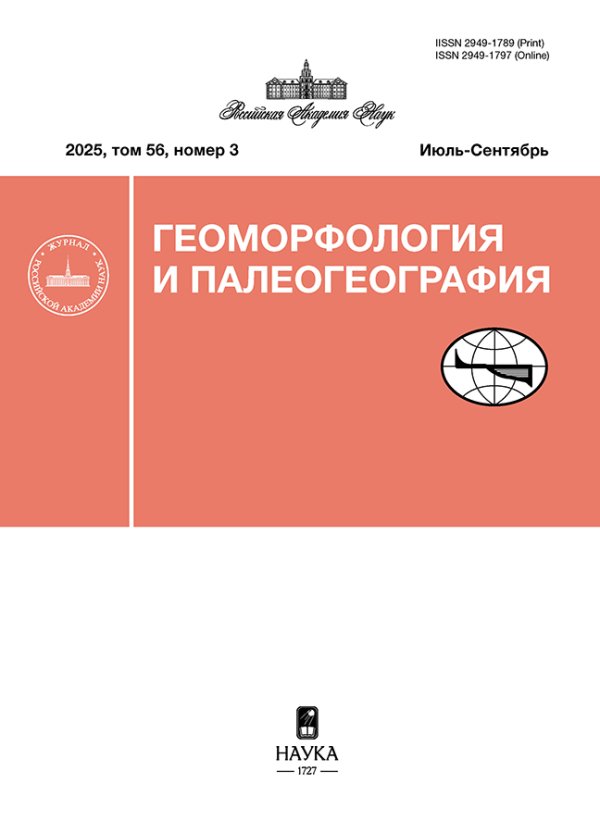Scientific contribution of G.I. Rychagov to the study of the Caspian Sea and its' basin
- Authors: Bredikhin A.V.1, Bolysov S.I.1, Antonov S.I.1, Kuznetsov M.A.1
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: Vol 55, No 3 (2024)
- Pages: 32-52
- Section: Geomorphology and Paleogeography of the Caspian Region (Review Papers)
- URL: https://bakhtiniada.ru/2949-1789/article/view/276382
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949178924030025
- EDN: https://elibrary.ru/PMHSOB
- ID: 276382
Cite item
Full Text
Abstract
Based on many years of geomorphological studies over the coast of the largest lake in the world, the outstanding Russian geomorphologist G.I. Rychagov formulated the idea of the Caspian Sea as a complex self-regulating system in which the altitude position of the basin level is determined not only by the values of the components of the water balance, but also by the topography of the bottom and the land adjacent to its' water area. Regarding the modern (Holocene) stage of its' development, the author determined the amplitude of level fluctuations in the range of absolute values from –25 to –30 m. The long-term forecast for the development of the Caspian Sea level was justified twice during the author’s lifetime. The experience of paleogeographical studies of the Caspian coast allowed G.I. Rychagov to formulate and solve a number of scientific and methodological issues. First of all, it showed the high information content of geomorphological data and geomorphological analysis in paleogeographical and forecasting work. Thus, data on the depths of incision of the mouth areas of the valleys of small rivers flowing into the Caspian Sea, in addition to the heights of the surfaces of the Neo-Caspian marine terraces, turned out to be excellent indicators of the magnitude of sea level fluctuations. The close connection between the development of the Caspian Sea and the processes in its' basin required a detailed study of its' largest part – the Volga River basin. The key site here was the Satinsky educational and scientific polygon in the basin of the middle reaches of the Protva River. Many years of comprehensive work under the leadership of G.I. Rychagov made the Satinsky polygon one of the most studied geologically and geomorphologically in the central region of the East European Plain. The geomorphological and complex paleogeographical method of studying the relief of the territory and the Middle-Upper Neopleistocene strata composing it allow us to consider the test site as a stratotypic area for the Middle Neopleistocene of the region. The independence of two glaciations of the Middle Neopleistocene – Moscow and Dnieper – was shown.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г.И. РЫЧАГОВА
В 2024 г. геоморфологическое сообщество и географический факультет МГУ отмечают 100-летие выдающегося отечественного геоморфолога Георгия Ивановича Рычагова (рис. 1). Г.И. Рычагов – профессор географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Заслуженный деятель науки РСФСР, родился 26 апреля 1924 г. в деревне Чардым Лопатинского района Пензенской области в семье мелкого служащего. Вскоре после окончания средней школы (июнь 1941 г.) весной 1942 г. был призван в армию. После непродолжительной подготовки служил связистом в артиллерийских частях, а после ранения (осень 1943 г.) – в комендантской роте стрелкового полка. Прошел по фронтовым дорогам путь от Сталинграда до Вены. Принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях, во взятии Будапешта и Вены.
Рис. 1. Георгий Иванович Рычагов (1924–2020)
Fig. 1. Georgy Ivanovich Rychagov (1924–2020)
После демобилизации в 1948 г. Г.И. Рычагов поступил на географический факультет Московского университета, на кафедру геоморфологии. В 1950 г. по предложению профессора К.К. Маркова был направлен на производственную практику в Прикаспийскую экспедицию географического факультета. И с этого времени главным направлением его научной работы стала геоморфология и палеогеография Каспийского моря и его водосборного бассейна. Весной 1953 г. Г.И. Рычагов с отличием окончил географический факультет и был оставлен в аспирантуре. В аспирантские годы ему довелось учиться и работать с такими известными исследователями Нижнего Поволжья и Прикаспийского региона, как Г.И. Горецкий и И.О. Брод. В течение нескольких лет, занимаясь структурной геоморфологией, он посетил различные участки Каспийского побережья, изучил ключевые разрезы новейших отложений в долине Нижней Волги, собрал данные буровых скважин по различным частям Прикаспийской низменности и Предкавказья. В результате им была подготовлена работа на соискание ученой степени кандидата географических наук “Геоморфология Восточного Предкавказья в связи с поисками нефтеносных структур”, которая позднее (1959 г.) была успешно защищена под руководством профессора М.В. Карандеевой.
После окончания аспирантуры (1956 г.) Г.И. Рычагов был направлен на работу на географический факультет Московского государственного педагогического института, где преподавал на кафедре общего землеведения, а затем на кафедре геологии. К этому периоду относятся его геоморфологические и ландшафтные исследования центральных регионов Восточно-Европейской равнины. Одной из задач этих изысканий было прослеживание на местности границ разновозрастных плейстоценовых оледенений, оказывавших влияние на размеры и геологическую деятельность Каспийского озера-моря. На этом этапе большая часть полевых работ Г.И. Рычагова прошла в комплексных экспедициях с участием физико-географов, почвоведов и геоботаников, что позволило ему овладеть методикой полевых ландшафтных исследований и очень помогло как геоморфологу при работе в поле, а также в годы его руководства географическим факультетом МГУ. Материалы этих работ легли в основу монографии “Физико-географическое районирование Нечерноземного центра” (1963 г.) и ряда карт в Атласе Калужской области, выдержавшем впоследствии два издания.
В 1965 г. после неоднократных приглашений заведующего кафедрой геоморфологии географического факультета МГУ профессора О.К. Леонтьева Г.И. Рычагов перешел на географический факультет Московского университета на должность старшего научного сотрудника. Основным направлением его научной деятельности стало исследование западного (дагестанского и азербайджанского) побережья Каспия в составе Прикаспийской береговой экспедиции кафедры геоморфологии под научным руководством самого Олега Константиновича.
1970-е гг. – время творческого сочетания активной научной, преподавательской и административной деятельности Г.И. Рычагова. Касаясь научного творчества Г.И. Рычагова, его преподавательской и административной работы, можно отметить такую черту, как рабочее постоянство автора и наличие так называемых “сквозных направлений” деятельности, пронизывающих всю его творческую жизнь. В научном творчестве — это Каспийское море и его водосборный бассейн (главным образом, бассейн Волги), именно они стали главным объектом его научных исследований. Он всегда это уверенно подчеркивал, не боясь обвинений в узости интересов и ограниченности творческих замыслов. Собранный уникальный фактический материал позволил ему по-новому взглянуть на плейстоценовую историю развития этого водоема – построить на основании данных абсолютного датирования подробную, аргументированную хронологическую шкалу каспийских трансгрессий и регрессий, рассмотреть причины, вызывающие эти колебания, проследить их соотношения с оледенениями Восточно-Европейской равнины и изменениями уровня Черного моря и, самое главное, дать прогноз положения уровня Каспия в будущем.
В учебной работе, неразрывно связанной с его научной деятельностью, таким сквозным направлением стало геоморфологическое образование географов. После возвращения в 1965 г. на географический факультет МГУ он в течение более чем 30 лет читал лекции по общей геоморфологии студентам I курса. При этом он не остановился лишь на теоретической части, а затронул всю триаду начального геоморфологического образования: курс лекций – практические занятия (семинары) – летнюю учебную практику. Административная работа на постах заместителя декана по научной, затем учебной работе и, наконец, декана географического факультета МГУ в значительной мере была также направлена на реформирование системы учебных географических практик, на обустройство крупнейшей в стране Боровской географической станции и Сатинского учебно-научного полигона, ставших материальной основой для решения научных и педагогических задач.
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ КАСПИЯ
В своих основных научных трудах (1977, 1997 гг.) Г.И. Рычагов сформулировал представление о Каспии как о сложной саморегулирующейся системе, в которой высотное положение уровня бассейна определяется не только величинами составляющих водного баланса, но и рельефом дна и прилегающей к его акватории суши. Касаясь современного (голоценового) этапа его развития, автор определял амплитуду колебаний уровня в интервале абсолютных значений от –25 до –30 м. Следует отметить, что именно в это время (конец 1970-х годов), когда научные труды и страницы газет были полны мрачными прогнозами о грядущем катастрофическом падении уровня Каспийского моря, Георгий Иванович доказывал, что уровень этого водоема уже достиг своего минимума и в дальнейшем следует ожидать его подъема. Прошло несколько лет, и рост уровня Каспия стал очевидной реальностью, а затем, в начале 1990-х гг., продолжающийся подъем нанес ущерб хозяйственным объектам на берегах — домам, дорогам, портовым сооружениям. Тогда, по заказу Правительства России, коллективом сотрудников географического факультета (при активном участии Г.И. Рычагова) был подготовлен технико-экономический доклад (ТЭД) “Каспий” (1992), где, с использованием методики Г.И. Рычагова, давался прогноз дальнейших изменений уровня исследуемого водоема и предлагались конкретные меры для хозяйствующих субъектов каспийского побережья. Данный прогноз полностью оправдался, уровень моря не превысил значения –26 м, а затем стал снижаться.
Опыт палеогеографических исследований Каспийского побережья позволил Г.И. Рычагову сформулировать и решить ряд научно-методических вопросов. Прежде всего он показал высокую информативность геоморфологических данных и геоморфологического анализа при палеогеографических и прогнозных работах. Так, данные о глубинах врезания приустьевых участков долин малых рек, впадающих в Каспий, в дополнение к высотам поверхностей новокаспийских морских террас, оказались прекрасными индикаторами величин колебаний уровня моря. А поскольку рельеф прибрежной суши часто оказывал существенное влияние на тип будущего берега при подъеме уровня моря, геоморфологический анализ рельефа побережья становился просто необходимым при прогнозных работах.
Современные исследователи часто называют Каспий миниатюрной моделью Мирового океана. Вот почему опыт палеогеографических и прогностических работ на Каспийском море, при его трансгрессии на 2.5 м, очень важен при прогнозе развития берегов Мирового океана в условиях наблюдающегося подъема его уровня. Колебания уровня Каспия (и понижения, и повышения) ведут не только к изменению геоморфологических процессов на берегах, но и существенно влияют на всю социально-хозяйственную структуру побережья, и, конечно, на экологию как прибрежных территорий, так и акватории. В связи с этим для грамотного и долгосрочного ведения хозяйства в регионе необходимо знать реакцию берегов на изменения уровня Каспийского моря.
По представлениям Г.И. Рычагова (2011), размах колебаний уровня Каспийского моря в течение неоплейстоцена достигал 200 м — от –150 м абс. в начале периода (тюркянская регрессия) до +50 м абс. в позднем неоплейстоцене (раннехвалынская трансгрессия, рис. 2, (а)). Значительные колебания уровня (от –34 до –20 м абс.) имели место в голоцене (последние около 10000 лет, рис. 2, (б)). За историческое время (2000—2500 лет) диапазон изменения уровня составлял 7—9 м: от –32 (–34) до –25 м абс. Минимальный уровень за этот отрезок времени был, по этим данным, во время дербентской регрессии (VI–VII вв. н. э.). За время, прошедшее после дербентской регрессии, уровень моря изменялся в еще более узком диапазоне: от –30 до –25 м абс. За время систематических инструментальных наблюдений (с 1837 г.) амплитуда колебания уровня составила 3.6 м. Почти такой же (3.4 м) она была в течение ХХ в. (рис. 2, (в)). Уровень не остается постоянным и в течение года, его среднегодовая амплитуда колебания достигает 30–40 см (рис. 2, (г)). В отдельных пунктах, например в районе о-ва Тюлений, подъем уровня моря относительно среднемесячных данных может достигать 70 см, а спад — 60 см. Приведенные ранее цифровые показатели даны без учета сгонов и нагонов, оказывающих существенное воздействие на низменные участки побережья. Так, в ноябре 1952 г. в районе г. Лагань высота нагона составила 4.5 м. Море достигло отметки –23.7 м, при среднегодовом уровне –28.2 м. Ширина зоны затопления составила от 30 до 50 км, в трех местах была размыта железная дорога Астрахань—Кизляр, имели место и другие негативные последствия этого нагона. Высокие нагоны (от 1 до 2 м) неоднократно повторялись и в последующие годы (Рычагов, 2011).
Рис. 2. Колебания уровня Каспийского моря: (а) – в течение неоплейстоцена (Рычагов, 1997). Основные этапы истории Каспия: 1 – бакинский, 2 – хазарский, 3 – раннехвалынский, 4 – позднехвалынский, 5 – новокаспийский (горизонтальный масштаб условный); (б) – в голоцене (Рычагов, 1993). Стадии новокаспийской трансгрессии: 1 – начальная (наиболее длительная), 2 – максимальная (туралинская), 3 – уллучайская, 4 – современная. Буквами обозначены: М – мангышлакская регрессия, Д – дербентская регрессия, Н – зона естественного колебания уровня в субатлантическую эпоху голоцена (“зона риска”); (в) – в течение ХХ века; (г) – в течение года
Fig. 2. The Caspian Sea level oscillations: (а) – during the Neopleistocene (Rychagov, 1997). The main stages of the history of the Caspian Sea: 1 – baku, 2 – khazar, 3 – early khvalynian, 4 – late khvalynian, 5 – neo-caspian (horizontal scale is arbitrary); (б) – in the Holocene (Rychagov, 1993). Stages of the neo-caspian transgression: 1 – initial (the longest one), 2 – maximal (turalinskaya), 3 – ulluchaiskaya, 4 – modern one. The letters indicate: M – mangyshlakskaya regression; D – derbentskaya regression; H – zone of the natural sea-level oscillations during Sub-atlantic stage of the Holocene (“zone of risk”); (в) – during the 20th century (Makhachkala); (г) – during the year
Среди причин, оказывающих влияние на изменение уровня Каспийского моря, рассматривают геологические и климатические. К числу первых относят, с одной стороны, процессы, приводящие к изменению объема котловины моря (тектонические движения, заполнение котловины осадками), с другой – процессы, влияющие на водный баланс Каспия (субмаринная разгрузка подземных вод или, напротив, поглощение вод поддонными слоями при чередовании тектонических фаз сжатия и растяжения).
Г.И. Рычагов собрал аргументацию всех точек зрения и пришел к выводу о главной роли климатических причин, обусловливающих колебания уровня Каспия. Нет оснований считать причиной колебания уровня Каспия изменение емкости его впадины вследствие накопления осадков. Во-первых, темпы заполнения котловины осадками, среди которых основную роль играют выносы рек, оцениваются по современным данным величиной около 1 мм/год, что на несколько порядков меньше наблюдаемых значений изменения уровня. Во-вторых, процесс этот однонаправленный, т.е. накопление осадков должно было бы вести к постоянному повышению уровня, в действительности же поведение уровня носит колебательный характер. (Кстати, следует заметить, что однонаправленно должен был бы сказываться и растущий безвозвратный забор воды из питающих Каспий рек, с чем связывали падение уровня моря в 30–70 гг. ХХ столетия, что действительно могло вести к понижению уровня, но не к его подъему, который начался в 1978 г.).
Не могут сколько-нибудь существенно влиять на объем каспийской котловины сейсмодеформации, которые отмечаются только вблизи эпицентра и затухают на близких расстояниях от него (Штейенберг, 1981). Сходные с сейсмодеформациями нарушения дна происходят иногда и при грязе-вулканической деятельности, но и они проявляются локально и не способны оказать влияние на положение уровня моря (Мамедов, 1976).
Из геологических факторов, воздействующих на водный баланс моря, следует назвать подземный сток. Большинство исследователей считают, что объем подземного стока составляет незначительную долю от поверхностного (4–5 км3) и поэтому не может оказать заметного влияния на уровень моря, тем более, согласно имеющимся данным, он остается довольно постоянным. Но в некоторых публикациях (Шило, 1989) проводится мысль, что меняющиеся тектонические напряжения в горных породах, подстилающих дно Каспия (смена сжатий и растяжений), приводят либо к выдавливанию части вод, насыщающих эти породы, либо к их поглощению, что и сказывается на колебаниях уровня. В настоящее время нет данных, подтверждающих эту точку зрения. Ей, согласно Е.Г. Маеву (1993), противоречит, во-первых, ненарушенная стратификация иловых вод, указывающая на отсутствие заметных миграций воды через толщу донных отложений; во-вторых, как пишет Е.Г. Маев, “... для обеспечения потоков, способных влиять на изменение уровня моря, мы должны допустить такие объемы и темпы разгрузки “выдавливаемых” вод со своими температурами, степенью минерализации, солевым составом, что в этих местах должны были бы сформироваться мощные гидрологические, гидрохимические, седиментационные аномалии. Таких аномалий, как известно, пока в придонных водах на дне Каспия не зарегистрировано” (с. 55). Следует также отметить, что пока не ясен механизм периодической крупномасштабной разгрузки подземных вод в Каспий, о чем говорят и сами геологи (Родкин, Костэйн, 1995).
Более сложен вопрос о влиянии тектоники на положение уровня. Несомненно, тектонические движения сыграли определяющую роль на начальных этапах формирования впадины, занимаемой морем. Существенна их роль была и в дальнейшей ее эволюции, доказательством чего служат деформации древнекаспийских морских террас, залегание на разных гипсометрических уровнях одновозрастных прибрежно-морских отложений или, например, “сдвиг” акватории Каспийского моря с запада на восток только за четвертичное время на десятки километров. Как будто бы в пользу тектоники говорят аномалии геодезических и уровенных измерений, согласно которым скорости тектонических движений могут достигать 5–7 см/год, т.е. способны вносить заметный вклад в изменение уровня (Лилиенберг, 1988). Однако если учесть, что котловина Каспийского моря расположена в пределах геологически гетерогенной территории, следствием чего является периодический, а не линейный, характер этих движений с неоднократной сменой знака, то вряд ли стоит ожидать существенных изменений емкости впадины. Такой характер движений в итоге ведет к их взаимной компенсации. Не в пользу тектонической гипотезы свидетельствует и тот факт, что береговые формы новокаспийской трансгрессии на всех участках побережья Каспия (за исключением отдельных брахиантиклиналей в пределах Апшеронского архипелага) находятся на одном гипсометрическом уровне. О стабильной емкости котловины Каспийского моря на протяжении голоцена свидетельствуют и результаты специального исследования, проведенного Л.Л. Розановым (1982).
Второй блок рассматриваемых в научных работах причин колебания уровня Каспийского моря – климатический (Свиточ, 2015; Naderi Beni et al., 2013; Yanina et al., 2018; Bezrodnykh et al., 2020; Koriche et al., 2022, Gelfan et al., 2023). Главным фактором, влиявшим на уровенный режим Каспийского моря в голоцене и в последние десятилетия, по мнению Г.И. Рычагова (2011), является изменение климата в пределах его бассейна и акватории. Подтверждением этого служат, во-первых, материалы изучения каспийских донных осадков: сравнение свойств трансгрессивных и регрессивных горизонтов показывает, что они накапливались в разных условиях, при сменах потеплений и похолоданий, увлажнений и аридизации климата (Маев, 1993). Достоверность этой точки зрения подтверждается четкой связью, существующей между составляющими водного баланса – естественным речным стоком и видимым испарением (разница между истинным испарением и атмосферными осадками), отмечаемой многими исследователями (Косарев и др., 1996; Михайлов, Повалишникова, 1998; и др.).
Климатическая, а точнее – водно-балансовая концепция колебаний уровня Каспия имеет убедительные количественные подтверждения (Сидорчук и др., 2008, 2021; Панин и др., 2021; Lahijani et al., 2023). Ярким свидетельством в пользу этой точки зрения является связь, существующая между высотным положением уровня Каспия и стоком Волги (измеряемым наиболее точно), который, как сказано выше, дает около 80% приходной части водного баланса Каспия (Устья рек... 2013). Особенно четко связь уровня моря со стоком Волги прослеживается, если учитывать сток реки не за каждый год, а брать ординаты разностной интегральной кривой стока, т.е. последовательную сумму нормированных отклонений ежегодных значений стока от среднемноголетней величины (“нормы”). Возможность такого подхода доказывается анализом уравнения водного баланса моря (Косарев и др., 1996; Михайлов, Повалишникова, 1998). Даже визуальное сравнение хода среднегодовых уровней Каспия и разностной интегральной кривой стока Волги (рис. 3) позволяет выявить их сходство, а также сопоставить наблюденные и расчетные данные по уровню Каспия (Рычагов и др., 1999).
Рис. 3. Многолетние колебания (1900–1997 гг.)
1 – среднегодового расхода воды Волги в вершине дельты у Верхнего Лебяжьего; 2 – расходов воды Волги при скользящем 6-летнем осреднении; 3 – средних годовых уровней воды (м абс.) в Каспийском море (Махачкала); 4 – разностная интегральная кривая стока Волги (Михайлов, Повалишникова, 1998)
Fig. 3. Perennial oscillations (1900–1997):
1 – of the average annual Volga water discharge at the delta apex near Upper Lebiajiy village; 2 – of Volga water discharge under sliding 6-year average; 3 – average annual water levels (in absolute heights) in the Caspian Sea (Makhachkala); 4 – difference integral curve of Volga runoff (Mikhailov, Povalishnikova, 1998)
Кроме того, интерес представляет сопоставление уровней Каспийского моря с фазами солнечной активности (числами Вольфа, т.е. количеством темных пятен на Солнце) – интегральная кривая уровня Каспия и числа Вольфа изменяются в противофазе: в период ослабления солнечной активности средний уровень Каспия увеличивается. А.Н. Афанасьев (1967) прогнозировал низкий уровень солнечной активности и высокий уровень моря с 1978 по 2002 гг. Сделанный им прогноз по числам Вольфа оправдался.
Исследования Г.И. Рычагова (1997) показывают, что колебания уровня Каспия в голоцене связаны с климатическими изменениями, что следует из рис. 4, показывающего, что каждая стадия новокаспийской трансгрессии была обусловлена сменой направления господствующих ветров в бассейне Волги.
Рис. 4. Изменение направления господствующих ветров (стрелки вверху) в разные стадии новокаспийской трансгрессии
1 – начальная (наиболее длительная); 2 – максимальная (туралинская); 3 – уллучайская; 4 – современная. Буквами обозначены: М – мангышлакская регрессия; Д – дербентская регрессия, Н – “зона риска” (зона естественного колебания уровня моря в субатлантическую эпоху голоцена) (Рычагов, 1997, с изменениями)
Fig. 4. Change in the direction of the prevailing winds (arrows above) at different stages of the Neo-Caspian transgression
1 – initial (longest); 2 – maximal (turalinskaya); 3 – ulluchayskaya; 4 – modern. The letters indicate: M – mangyshlak regression; D – derbent regression, H – “risk zone” (zone of natural sea level fluctuations in the sub-atlantic stage of the Holocene) (Rychagov, 1997, with additions)
Проведенный Г.И. Рычаговым анализ причин колебаний уровня Каспийского моря дает возможность прийти к выводу, что современные колебания объясняются изменениями климатических характеристик и метеорологических показателей, а именно: стоком Волги и других рек, балансом между осадками и испарением, влиянием циклов солнечной активности (число пятен Вольфа), типом циркуляции атмосферы в бассейне Волги. Есть прямые доказательства, подтверждающие достоверность климатической точки зрения.
Среди многочисленных графиков колебаний уровня Каспийского моря для голоцена (а они разнятся между собой) до сих пор наиболее популярна кривая Г.И. Рычагова. На основе новых методов и массива датировок появляются новые данные о колебаниях уровня в голоцене, но все уточнения наносятся именно на график Г.И. Рычагова как на самый обоснованный (Overeem et al., 2003; Hoogendoorn et al., 2005; Kroonenberg et al., 2007; Kakroodi et al., 2015).
В 1930–1970 гг., когда уровень моря снижался, большинство исследователей предсказывало дальнейшее его падение. Эта точка зрения была официально закреплена в 1933 г. решением специальной сессии АН СССР, посвященной проблеме Волго-Каспия, в соответствии с которым впоследствии были разработаны проект перекрытия пролива, соединяющего Каспий с заливом Кара-Богаз-Гол (этот проект был осуществлен в 1980 г., когда уровень начал повышаться), и проект переброски части стока северных рек в бассейн Каспийского моря (эти работы были уже начаты в бассейнах Печоры и Камы). Падение и повышение уровня Каспия приводило к серии прогнозов. Они основывались на разных подходах: косвенных и расчетных методах.
Косвенные методы прогнозирования основаны на использовании косвенных характеристик: индексов солнечной активности (число Вольфа), атмосферной циркуляции и т.п. Прогнозы уровня Каспия по анализу гелиоактивности основаны на его зависимости от чисел Вольфа. Прогноз по солнечной активности — до –29 м до 2024 г. оказался довольно точным. Все остальные прогнозы, основанные на этом методе, себя не оправдали. Прогнозы уровня Каспия, связанные с изменением атмосферных процессов, основаны на установленной закономерности – зависимости положения уровня Каспия от особенностей атмосферной циркуляции. Со временем происходят смены циркуляционных эпох, это ведет к изменению количества осадков, испарения, изменению стока Волги. Следует отметить, что и эти прогнозы себя не оправдали.
Расчетные методы прогнозирования выполнены на вероятностной основе на базе водно-балансового метода. Прогнозы, основанные на вероятностных методах, неточны из-за неустойчивости корреляционных связей уровня моря с индексами солнечной активности и атмосферной циркуляции, а также из-за не учета антропогенной деятельности и глобального потепления. Водно-балансовые прогнозы имеют различную сходимость с действительными колебаниями уровня Каспия, что во многом зависит от принятого количественного определения элементов водного баланса моря.
В решении проблемы прогноза уровенного режима Каспия весьма плодотворным оказался разработанный Г.И. Рычаговым палеогеоморфологический метод, основывающийся на детальном анализе геолого-геоморфологического строения побережья. На основании исследования приустьевых участков долин малых рек дагестанского и азербайджанского побережий Каспия и определения абсолютных высот базальных горизонтов ингрессионных новокаспийских террас, в строении которых принимают участие как морские, так и аллювиальные отложения, результатов тахеометрического нивелирования новокаспийских морских террас и данных абсолютной геохронологии, был сделан вывод, что за последние 2–2.5 тыс. лет, т.е. с начала субатлантического периода голоцена, уровень Каспия никогда не поднимался выше –25 м абс. высоты (рис. 5). Согласно Г.И. Рычагову, при подъеме уровня до –26 м будут затоплены обширные территории побережья Северного Каспия, а также соры: Мертвый Култук, Кайдак, Балханский, Келькор. Это приведет к увеличению мелководных, хорошо прогреваемых площадей, и как следствие — к резкому увеличению испарения более чем на 10–12 км3/год и, соответственно, к падению уровня.
Рис. 5. Геолого-геоморфологическое строение и гипсометрическое положение базальных горизонтов новокаспийских террас в приустьевых участках долин рек: (а) – Рубасчай (Дагестан), (б) – Улучай (Дагестан), (в) – Атачай (Азербайджан), при уровне моря –28.6 м (Рычагов, 1997)
Fig. 5. Geology-geomorphologic structure and hypsometric position of basal horizons of the Neo-Caspian terraces in the near-mouth sites of river valleys: (a) – Rubaschay (Daghestan), (б) – Ulluchay (Daghestan), (в) – Atachay (Azerbaijan) under sea-level –28.6 m (Rychagov, 1997)
Как известно, примерно 2.5 тыс. л. н. произошел переход от суббореального к субатлантическому периоду голоцена. С этого времени началось формирование современных природно-территориальных комплексов в бассейне Каспия, а, следовательно, и современных или близких к ним параметров водного баланса моря, что позволяет экстраполировать полученные палеогеоморфологические данные на современную эпоху и сделать ряд важных выводов.
В 1977 г. в своей докторской диссертации Г.И. Рычагов дал непопулярный в то время прогноз, что уровень Каспия, после почти 50-летнего падения, начнет повышаться, и сразу, в 1978 г., начался стремительный его рост. В начале 1990-х гг. возникали прогнозы, что подъем уровня достигнет отметки –21 м. Но и на этот раз полностью оправдался прогноз Г.И. Рычагова, что уровень вряд ли поднимется выше –25 м, а с учетом водозабора на хозяйственные нужды из Волги – выше –26 м. Уровень Каспийского моря достиг отметки –26.6 м, а затем стал снижаться. Cреднее значение уровня моря в 2023 г. соответствовало отметке –28.82 м (https://www.caspcom.com/files/CASPCOM%20Bulletin%20No.%2026_1.pdf). Это уникальный для современной географии пример долгосрочного прогнозирования, который уже дважды оправдался!
Значение палеогеоморфологического метода для прогнозных целей состоит в том, что он позволил установить “зону риска” (от –30 до –25 м абс.), в пределах которой уровень моря будет колебаться и в ближайшем будущем (50–100 лет). Это следует учитывать при ведении хозяйственной деятельности в береговой зоне Каспия и при прогнозе динамики его берегов (рис. 6).
Рис. 6. “Зона риска” современных колебаний уровня Каспийского моря (50–100 лет) (http://de.geogr.msu.ru/casp/)
Fig. 6. “Risk zone” of modern Caspian Sea level fluctuations (50–100 years) (http://de.geogr.msu.ru/casp/)
Палеогеоморфологический метод не дает четких временных реперов в поведении уровня Каспия, как, впрочем, и практически все другие методы. Однако этот метод, базирующийся на объективных данных, запечатленных в формах рельефа и слагающих их осадках, по информативности не только не уступает расчетно-вероятностным подходам, но и оказывается более надежным для прогноза уровня Каспия на ближайшую и более отдаленную перспективу. Прогнозы, основанные на этом методе, оправдались (Рычагов, 2011).
Опираясь на палеогеоморфологический метод прогноза уровня Каспийского моря, которым установлены пределы возможных современных его колебаний при стабильной климатической обстановке, Г.И. Рычагов выделил 2 сценария развития его российских берегов на ближайшее будущее (50–100 лет).
Первый сценарий: при понижении уровня моря до –29 — –30 м будет наблюдаться ситуация, подобная, хотя и не совсем идентичная той, которая имела место в 1970-х гг. прошлого столетия, когда уровень Каспийского моря с 1929 по 1977 гг. понизился на 3 м (до –29 м абс.). Согласно этому сценарию, береговая линия повсеместно выдвинется в сторону моря, разумеется, на различную величину, зависящую от типа современного берега и слагающих его осадков и от уклонов подводного берегового склона (ПБС).
Наибольшее выдвижение испытают берега северо-западной и северной областей Каспия в связи с незначительными уклонами ПБС. Однако морфология морского края дельты Волги и осушных берегов между дельтой Волги и старой дельтой Терека изменится мало. Волга выдвинет свою дельту на первые километры. Выдвинутся в море новые дельты Терека, Сулака и Манаса, а также дельта Самура. Возможно формирование эфемерных дельт в устьях рек Шура-Озень, Гамри-Озень, Уллучай и Рубасчай. Выдвинутся в море все лагунные берега, превратившись в типичные аккумулятивно-пляжевые и специфические, пляжево-мелколагунные, в пределах развития современных бенчей. Обмеление прибрежных акваторий приведет к ряду негативных последствий. Эти негативные последствия будут примерно такими же, которые наблюдались в 70-х гг. прошлого столетия, и которые населению и хозяйствующим структурам хорошо известны.
Второй сценарий: повышение уровня моря до –26 ... –25 м абс. Ситуация в береговой зоне в этом случае изменится кардинально. Береговая линия практически повсеместно отступит в сторону суши. И только на некоторых участках (в пределах клифов, сложенных сарматскими известняками) берега практически не изменятся ни морфологически, ни пространственно. Небольшие изменения в морфологии и пространственном положении испытают низменные абразионные берега, развитые на современном бенче, примыкающие к новокаспийскому бенчу. Величина отступания таких берегов при подъеме уровня моря всецело будет обусловлена углами наклона новокаспийского бенча. Зная эту величину, можно довольно точно определить положение береговой линии моря при том или ином положении его уровня.
Существенные изменения будут наблюдаться на берегах размыва, клифы которых сложены рыхлыми грунтами. Такие берега будут отступать (судя по имеющимся наблюдениям) на 10–12 м/год. Принципиальное изменение претерпят лагунные берега, примыкающие к современным аккумулятивно-пляжевым. Они превратятся в берега, подобные современным абразионным, клифы которых сложены рыхлыми грунтами. Эти берега будут отступать с такими же скоростями. Этот процесс будет наблюдаться в ряде мест старой дельты Терека, по всему восточному побережью Аграханского полуострова, в районе бывшей учебно-научной станции МГУ – Турали-7, у устья р. Рубасчай. Сложная ситуация возникнет на узкопляжевых берегах на бенче, примыкающих к высокому хвалынскому клифу на участке от мыса Турали на севере до устья р. Количи на юге. Весь этот берег станет абразионным, но в разных частях, в зависимости от литологии пород, слагающих этот клиф, и его высоты (от 12–15 до 60 м), абразия отразится по-разному. При длительном положении уровня Каспия на уровне –25 м на месте участков, сложенных слабосцементированными хвалынскими суглинками, могут образоваться бухты. Там же, где цоколи клифов сложены сарматскими известняками и песчаниками, а в ряде мест плотными хазарскими конгломератами, берега не претерпят существенных изменений, и на таких участках сформируются мысы. Таким образом, выровненный узкопляжевый берег на бенче, примыкающий к высокому клифу, может превратиться в абразионный бухтовый. Будут отступать клифы, цоколи которых сложены сарматскими глинами. На этом участке берега в процессе абразии интенсифицируются склоновые процессы. Там, где клифы сложены хвалынскими суглинками, вследствие их подмыва, возникнут обвально-осыпные процессы, а на участках клифов, цоколи которых сложены сарматскими глинами, – оползневые процессы. Скорость отступания клифов, сложенных податливыми породами, на участке от мыса Турали на севере до устья р. Количи, будет зависеть от высоты клифа (т.е. от объема материала, поступающего к линии уреза), от состава слагающих его пород, ширины бенча у подножия клифа, а также характера перемещения наносов на этом участке – вдольберегового или по нормали к берегу.
Таким образом, описанные выше берега Каспийского моря будут по-разному реагировать на подъем уровня Каспия. Наибольшее смещение береговой линии в сторону суши будет наблюдаться на берегах к северу от дельты Терека: береговая линия развитых здесь осушных берегов может сместиться в сторону суши на 10–15 км (при нагонах это расстояние может достигать десятков километров). В дельте Волги при подъеме уровня до –26 м ее край отступит на 5–10 км. При подъеме уровня до –25 м полоса затопления может увеличиться в 2–2.5 раза, береговая линия в дельте сместится до границы култучной части дельты в ее бугровой части. Будут затоплены новые дельты Терека и Сулака и эфемерные дельты других рек. Осушные и дельтовые берега, хотя и испытают существенное смещение в сторону суши, морфологически практически не изменятся.
На основании проведенных наблюдений за динамикой берегов Каспийского моря в условиях повышения его уровня (1978–1995 гг.), Г.И. Рычагов внес коррективы в распространенную точку зрения о том, что при повышении уровня моря происходят процессы размыва и абразии берегов (Рычагов, 2019). Анализ эволюции берегов Каспия показал, что возникновение абразионных берегов при подъеме уровня моря обусловлено не только, и даже не столько, уклонами ПБС, сколько уклонами той поверхности, на которую наступает море (рис. 7).
Рис. 7. Схема трансгрессивного развития береговой зоны Каспийского моря (по Е.И. Игнатову и др., 1992, с дополнениями Г.И. Рычагова (2019)): (а) – при уклонах подводного берегового склона <0.0001; (б) – от ~0.0005 до 0.001; (в) – от ~0.005 до 0.01; (г) – >0.01. 1 – начальное положение уровня моря; 2 – трансгрессивный уровень моря; 3 – линзы размыва; 4 – аккумуляция наносов; 5 – прежний профиль берега; 6 – современный профиль берега
Fig. 7. Scheme of transgressive development of the coastal zone of the Caspian Sea (Ignatov et al., 1992, with additions by G.I. Rychagov (2019)): (a) – with slopes of the underwater coastal slope <0.0001; (б) – from ~0.0005 to 0.001; (в) – from ~0.005 to 0.01; (г) – >0.01. Legend: 1 – initial position of the sea level; 2 – transgressive sea level; 3 – erosion lenses; 4 – sediment accumulation; 5 – previous shore profile; 6 – modern shore profile
Не совсем корректно называть берега с уклонами ПБС около 0.0001 берегами пассивного затопления (см. рис. 7). Проведенные полевые наблюдения показали, что даже в условиях практически замкнутого, небольшого по площади, мелководного залива, берег представляет собой берег размыва и отступил за время подъема уровня моря на 50–75 м (сложен эоловыми осадками).
Г.И. Рычагов отмечал, что в рассматриваемых моделях нарушены начальные условия. Если рельеф прибрежной суши в случаях а) и г) поменять местами (точки на рис. 7), то при сохранении тех же уклонов ПБС, при подъеме уровня моря, в случае а) возникнет абразионный берег, а в случае г) – аккумулятивный.
Важно отметить, что Г.И. Рычагов был одним из тех специалистов, который мог спокойно пересмотреть свой взгляд, если считал, что новые доказательства убеждают его в правильности другой точки зрения. И если до конца дней он не смог согласиться с “молодым” возрастом хвалынских трансгрессий, считая его с общих геоморфологических и палеогеографических событий неубедительным, то в отношении существования гирканской трансгрессии (поздний плейстоцен), он пересмотрел свои данные и построения в монографии 1997 г. и признал эту трансгрессию (Рычагов, 2016) после того, как было подтверждено ее существование на материалах бурения (Янина и др., 2014).
Думается, сделанные на основании наблюдений за динамикой каспийских берегов приведенные выводы Г.И. Рычагова будут востребованы при прогнозировании трансформации берегов Мирового океана в связи с продолжающимся подъемом его уровня.
РЕКОНСТРУКЦИЯ СРЕДНЕ-ПОЗДНЕНЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВОЙ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА КРАЕВОЙ ЗОНЫ МОСКОВСКОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ
В середине 1970-х гг., в связи с началом широкого использования в палеогеографических исследованиях результатов абсолютного датирования, возникла тенденция к пересмотру временных рамок многих палеогеографических событий, обычно в сторону их омоложения. Это коснулось как корректировки возраста каспийских трансгрессий и регрессий, так и возрастных рамок плейстоценовых оледенений Восточно-Европейской равнины (Величко и др., 1977; Величко, 1980; Шик, 1985; Шик, Бирюков, 1989; Бирюков, Фаустова, Шик, 2001). Поэтому в своих трудах Г.И. Рычагов, помимо каспийской тематики, уделил значительное внимание изучению рельефа и стратиграфии среднего неоплейстоцена центральной части Русской (Восточно-Европейской) равнины. Детальные работы в бассейне р. Протвы (Сатинский учебно-научный полигон) дали обширный материал по указанной проблеме (заметим, что работы имели и учебные цели – обеспечение фактическим материалом общегеографической полевой практики географического факультета МГУ). Силами сотрудников кафедры геоморфологии и научно-исследовательской лаборатории новейших отложений и палеогеографии плейстоцена географического факультета МГУ, под общим руководством Г.И. Рычагова, было доказано, что в среднем неоплейстоцене здесь имели место два самостоятельных покровных оледенения: днепровское и московское. А их морены разделены мощной толщей флювиогляциальных и озерно-аллювиальных осадков, включающей слои средненеоплейстоценового межледниковья. Важную роль в обосновании этих выводов сыграли комплексный анализ отложений, слагающих опорные разрезы полигона, а также сравнительный обзор рельефа территорий, подвергавшихся разновозрастным покровным оледенениям, а именно – применение палеогеографического и геоморфологического методов исследования (Рычагов и др., 1989; Антонов и др., 1991).
Отмеченное выше реформирование системы полевых учебных практик потребовало от преподавателей-геоморфологов, предоставлявших данные о морфолитогенной основе ландшафтов последующим преподавателям, более подробного, детального знания геолого-геоморфологического строения полигона, выходящего за пределы имеющихся материалов государственных геологических съемок. Поэтому всю 56-летнюю историю Сатинского полигона можно считать историей его “доизучения”. Начавшееся еще в первые годы проведения учебных практик силами студентов (экспедиции НСО) и сотрудников географического факультета (Боровский ландшафтный отряд, Лаборатория новейших отложений и др.), оно продолжилось в середине 1980-х гг. привлечением профессиональных инженерно-геологических организаций (ПНИИИС, Калужского геологического управления, ПГО “Центргеология” и др.). Всего в пределах Сатинского полигона в 1984–1986, 1990–1991 и 1993–2003 гг. было пробурено около 250 скважин глубиной от 3 до 90 м, общим объемом более 2200 м, в том числе 17 скважин, оборудованных фильтрами для гидрогеологических наблюдений (рис. 8). Все эти работы проходили под пристальным вниманием, а нередко – под прямым непосредственным руководством Г.И. Рычагова. Им было организовано и аналитическое исследование образцов рыхлых пород из ряда опорных скважин. Многолетние комплексные работы сделали Сатинский полигон (участок бассейна Средней Протвы) одним из самых изученных мест центрального региона Русской равнины (Рычагов и др., 1989; Антонов и др., 1991, 2000, 2004, 2007; Комплексный …, 1992; Строение …, 1996).
Рис. 8. Обзорная карта Сатинского страторайона. 1 – леса; 2 – луга; 3 – болота; 4 – населенные пункты; 5 – геодезические знаки; 6 – главные опорные разрезы; 7 – буровые скважины (а – геологические, б – гидрогеологические); 8 – положение Сатинской учебно-научной станции; 9 – линия профиля, показанного на рис. 9 (Судакова и др., 2008)
Fig. 8. Overview map of the Satino stratigraphical area. 1 – forests; 2 – meadows; 3 – swamps; 4 – populated areas; 5 – geodetic signs; 6 – main support geological cuts; 7 – boreholes (a – geological, б – hydrogeological); 8 – position of the Satino educational and scientific station; 9 – line of the profile shown in fig. 9 (Sudakova et al., 2008)
Основная часть четвертичного разреза полигона попадала в интервал между надежно датированными лихвинским и микулинским межледниковыми горизонтами (рис. 9). На основании этого был сделан вывод о том, что послелихвинский сводный разрез среднего неоплейстоцена Сатинского полигона по представительности, полноте и детальности комплексного изучения с полным основанием может претендовать на статус стратотипического.
Рис. 9. Геолого-геоморфологический профиль II–II (д. Беницы – д. Бутовка). 1 – валуны; 2 – гравий и галька; 3 – песок; 4 – алеврит; 5 – глина; 6 – суглинок; 7 – покровный суглинок; 8 – листоватый мергель; 9 – известняк; валунные суглинки (морена): 10 – поздней (калужской) стадии среднеплейстоценового московского оледенения, 11 – ранней (боровской) стадии московского оледенения, 12 – среднеплейстоценового днепровского оледенения, 13 – нижнеплейстоценового окского оледенения; 14 – грунтовые клинья и криотурбации; 15 – погребенные почвы; 16 – нижняя граница московского горизонта; 17 – стратиграфические границы (а – достоверные, б – предполагаемые); 18 – геологические выработки (а – буровые скважины, б – расчистки); 19 – абсолютные ТЛ и РТЛ датировки, тыс. л. н. (Судакова и др., 2008)
Fig. 9. Geological-geomorphological profile II–II (village Benitsy – village Butovka): 1 – boulders; 2 – gravel and pebbles; 3 – sand; 4 – silt; 5 – clay; 6 – loam; 7 – cover loam; 8 – foliated marl; 9 – limestone; boulder loams (moraine): 10 – late (Kaluga) stage of the Middle Pleistocene Moscow glaciation, 11 – early (Borovskaya) stage of the Moscow glaciation, 12 – Middle Pleistocene Dnieper glaciation, 13 – Lower Pleistocene Oka glaciation; 14 – ground wedges and cryoturbation; 15 – buried soils; 16 – lower boundary of the Moscow horizon; 17 – stratigraphic boundaries (a – reliable, б – estimated); 18 – geological workings (a – boreholes, б – clearing); 19 – absolute TL and RTL dating, ka (Sudakova et al., 2008)
Второе средненеоплейстоценовое межледниковье по местонахождению стратотипа и в соответствии с требованиями стратиграфического кодекса целесообразно было назвать Сатинским. А детально изученный участок в бассейне Средней Протвы был предложен в качестве страторайона среднего неоплейстоцена Русской равнины (рис. 10) (Рычагов и др., 2007, 2008, 2012, 2013, 2018). Материалы Сатинского полигона убедительно сочетались с данными по Лихвинскому (Чекалинскому) разрезу в долине Верхней Оки.
Рис. 10. Корреляционная таблица Чекалинского и Сатинского сводных разрезов. Усл. обозначения см. на рис. 9 (Рычагов и др., 2007)
Fig. 10. Correlation table of the Chekalinsky and Satinsky summary sections. For symbols, see fig. 9 (Rychagov et al., 2007)
Подобное предложение не было однозначно принято научным сообществом, хотя и не вызвало резкой критики в научной печати. Высокая степень изученности бассейна Средней Протвы была очевидна и не могла вызывать замечаний, однако в частных беседах в кулуарах конгрессов и совещаний высказывались сомнения в надежности приводимых абсолютных датировок, представительности опорных разрезов, вскрытых лишь буровыми скважинами. Между тем, никто из оппонентов не взял на себя труд выступить с детальной аргументированной критикой позиций Г.И. Рычагова и его коллег.
С годами наличие подробно изученного Сатинского полигона в центре Русской равнины и особая позиция его исследователей в вопросах среднечетвертичной стратиграфии и геологической корреляции привлекла внимание сотрудников Межведомственного стратиграфического комитета (МСК) России. В конце 2010 г. один из членов Комитета – Б.А. Борисов, работавший над новой редакцией Стратиграфического кодекса России, обратился с просьбой к Г.И. Рычагову прокомментировать его взгляды по спорным палеогеографическим и стратиграфическим вопросам центрального региона. В марте 2011 г. профессором Г.И. Рычаговым был подготовлен обстоятельный ответ на запрос МСК, основные его положения были вскоре опубликованы на страницах Вестника Московского университета (Рычагов и др. 2012), а затем и в виде разделов монографии (Судакова и др. 2013).
Отметив, что пересмотр существовавших ранее стратиграфических схем происходил на основании палинологических характеристик отложений, анализа останков мелких млекопитаюших и в меньшей мере – по данным абсолютных датировок, Г.И. Рычагов рассмотрел данную проблему с общегеографических позиций. Поскольку сведения о глобальной перестройке циркуляции атмосферы в пределах плейстоцена отсутствуют, можно говорить о существовании западного переноса во время как поздних, так и ранних ледниковых эпох. В связи с этим, как отмечал Г.И. Рычагов, становится необъяснимым продвижение крупного ледникового языка в раннем неоплейстоцене по Донской низменности и его отсутствие в пределах Днепровского бассейна (западнее Дона). Во время среднего неоплейстоцена московский ледниковый покров (в новом его понимании) активно продвигался в бассейне Днепра до его среднего течения, а восточнее его граница резко смещалась на северо-восток, минуя (не реагируя на) понижения долины Дона и Волги. Подобная рисовка максимальной границы противоречит существующим ландшафтным данным. Здесь Георгий Иванович еще раз подчеркнул известную последовательность палеогеографических событий: осадконакопление и связанное с ним рельефообразование сменяются последующим формированием ландшафтов. Вот почему максимальные границы последних плейстоценовых оледенений являются в известной мере ландшафтными границами. А ландшафтные особенности области московского оледенения в бассейне Оки совершенно очевидно не могут быть прослежены до широты среднего Днепра. Так, по мнению Г.И. Рычагова, из палеогеографического анализа практически был исключен важнейший элемент географического ландшафта – рельеф, а соответствующие геологические и палеогеографические выводы основывались на локальных данных (главным образом – на данных разрозненных буровых скважин), без учета общих физико-географических закономерностей.
Коснулся он и необоснованного увлечения ряда авторов “придумыванием” новых местных названий описанных стратиграфических подразделений. Введение в обиход терминов “ликовской”, “окатовской” и других морен не помогают решению проблемы, а только запутывают читателя, перекладывая на него труд по палеогеографической корреляции “новых” стратиграфических подразделений. Главным выводом ряда публикаций было заявление о том, что на сегодня нет убедительных оснований для изменения межрегиональной стратиграфической схемы среднего неоплейстоцена, утвержденной решением МСК в 1986 г. (рис. 11).
Рис. 11. Предлагаемая схема стратиграфических подразделений среднего неоплейстоцена центра Русской равнины (Судакова и др., 2008)
Fig. 11. Proposed scheme of stratigraphic units of the Middle Neopleistocene of the Center of the Russian Plain (Sudakova et al., 2008)
Другим важным заключением из публикаций Г.И. Рычагова, посвященных геологии и палеогеографии Центрального региона Европейской России, стала констатация того факта, что на современном исследовательском этапе произошел закономерный переход от изучения отдельных разрозненных опорных разрезов и скважин к исследованию целой группы подобных объектов в пределах определенного страторайона, характеризующегося единством геолого-геоморфологического строения и палеогеографического развития (рис. 12).
Рис. 12. Расположение объектов изучения новейших отложений в центральном регионе Русской равнины. 1 – страторайоны (I – Чекалинский, II – Сатинский, III – Московский, IV – Клинско-Дмитровский, V – Верхневолжский, VI – Ростовский); 2 – Сатинский учебный полигон; границы оледенений: 3 – московского, 4 – калининского, 5 – осташковского. (Судакова и др., 2013)
Fig. 12. Location of objects for studying recent deposits in the central region of the Russian Plain. 1 – strator districts (I – Chekalinsky, II – Satinsky, III – Moscow, IV – Klinsko-Dmitrovsky, V – Verkhnevolzhsky, VI – Rostovsky); 2 – Satinsky training ground; boundaries of glaciations: 3 – Moscow, 4 – Kalinin, 5 – Ostashkov. (Sudakova et al., 2013)
Именно такой подход поможет в дальнейшем исключить случайность и субъективность как в ходе полевых изысканий, так и в период камеральной интерпретации их результатов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как говорил Г.И. Рычагов, история Каспийского моря – это история его колебаний. Им были установлены пределы этих колебаний в течение неоплейстоцена и голоцена. Разработанный им палеогеоморфологический метод, базирующийся на детальном геолого-геоморфологическом анализе строения приустьевых частей малых рек дагестанского и азербайджанского побережий, вкупе с изучением рельефа каспийских террас, позволил установить пределы колебания уровня Каспийского моря в современный субатлантический период голоцена (2–2.5 тыс. л). Главное достоинство этого метода состоит в том, что он позволил установить зону риска (от –30 до –25 м БС), в пределах которой уровень моря будет колебаться и в ближайшем будущем (50–100 лет), если не произойдет кардинальных глобальных изменений климата. На эту амплитуду колебаний уровня и следует ориентироваться при ведении хозяйственной деятельности в береговой зоне. Прогнозы, основанные на этом методе, уже дважды оправдались.
Опираясь на палеогеоморфологический метод прогноза уровня Каспийского моря, которым установлены пределы возможных современных его колебаний при стабильной климатической обстановке, Г.И. Рычагов выделил 2 сценария развития его российских берегов на ближайшее будущее (50–100 лет). Им установлено, что реакция берегов при колебаниях уровня моря будет зависеть не только от их морфологии, характера рельефа ПБС и прилегающей суши и состава слагающих их пород, а также от гидродинамических процессов в береговой зоне.
Методические указания Г.И. Рычагова о моделях трансгрессивного развития береговой зоны Каспийского моря могут быть использованы как в прогнозных целях (при прогнозе эволюции берегов Мирового океана в условиях наблюдаемого в настоящее время повышения его уровня), так и при палеогеографических реконструкциях.
Рассмотрение палеогеографических аспектов развития Каспийского моря Г.И. Рычагов не мыслил отдельно от геолого-геоморфологической истории его бассейна, от истории развития долины Волги и ее притоков. Неудовлетворительное состояние с ледниковой стратиграфией и палеогеографией центрального региона Русской равнины он связывал с узостью подхода к решению этой сложнейшей проблемы. При концентрации внимания исключительно на геологических (стратиграфических) вопросах из учета практически исключались ландшафтно-геоморфологические данные и, прежде всего, рельеф – важнейший компонент географического ландшафта. При этом выводы порой основывались на частных, локальных данных (главным образом – на материалах разрозненных буровых скважин), без учета общих физико-географических закономерностей.
Детальное изучение территории Сатинского учебно-научного полигона МГУ в бассейне среднего течения р. Протвы (ключевой участок в центре Восточно-Европейской равнины, в пределах Каспийского бассейна) под руководством Г.И. Рычагова сделали полигон стратотипическим районом для среднего неоплейстоцена этого обширного региона. Второе средненеоплейстоценовое межледниковье по местонахождению стратотипа и в соответствии с требованиями стратиграфического кодекса целесообразно было назвать Сатинским. Важнейшим аспектом исследования областей, подвергавшихся плейстоценовым покровным оледенениям, Г.И. Рычагов считал геоморфологический метод, и во многом на его основе (вкупе с комплексным палеогеографическим изучением ледниковых и межледниковых толщ) он рассматривал днепровское и московское оледенения как самостоятельные.
Важным методическим вкладом в развитие высшего географического образования стала внедренная Г.И. Рычаговым стратегия проведения комплексной учебной практики 1 курса географов представителями разных специализаций на единой трансекте.
About the authors
A. V. Bredikhin
Lomonosov Moscow State University
Email: KuzMiArGeo@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
S. I. Bolysov
Lomonosov Moscow State University
Email: KuzMiArGeo@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
S. I. Antonov
Lomonosov Moscow State University
Email: KuzMiArGeo@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
M. A. Kuznetsov
Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: KuzMiArGeo@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Afanasyev A.N. (1967). Kolebaniya gidrometeorologicheskogo rezhima na territorii SSSR (Fluctuations in the hydrometeorological regime on the territory of the USSR). M.: Nauka (Publ.). 232 p. (in Russ.)
- Antonov S.I., Rychagov G.I., Malaeva E.M. et al. (2000). Climatostratigraphic units of the Moscow horizon of the southwestern Moscow region. Stratigrafija. Geologicheskaya korrelyatsiya. Iss. 8. № 3. P. 100–112. (in Russ.)
- Antonov S.I., Rychagov G.I., Sudakova N.G. (2004). Middle Pleistocene glaciations of the Center of the Russian Plain. Byulleten’ komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda. № 65. P. 5–16. (in Russ.)
- Antonov S.I., Rychagov G.I. (1993). Fluvial lithomorphogenesis in the Protva river basin. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya. 5. Geografiya. № 6. P. 68–76. (in Russ.)
- Antonov S.I., Rychagov G.I., Sudakova N.G. (1991). On the question of Middle Pleistocene stratigraphy of the Moscow region. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya. 5. Geografiya. № 6. P. 24–31. (in Russ.)
- Bezrodnykh Y., Yanina T., Sorokin V. et al. (2020). The Northern Caspian Sea: Consequences of climate change for level fluctuations during the Holocene. Quat. Int. № 540. P. 68–77. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.01.041
- Birjukov I.P., Faustova M.A., Shik S.M. (2001). Central sector of the ice sheet. In: Oledeneniya srednego pleistotsena Vostochnoi Evropy. M.: GEOS (Publ.). P. 31–36. (in Russ.)
- Elektronnyi atlas Kaspiiskogo morya (Electronic atlas of the Caspian Sea) [Electronic data]. Access way: http://de.geogr.msu.ru/casp/ (access date: 23.02.2024).
- Gelfan A., Panin A., Kalugin A. et al. (2024). Hydroclimatic processes as the primary drivers of the Early Khvalynian transgression of the Caspian Sea: new developments. Hydrol. Earth Syst. Sci. V. 28. P. 241–259. https://doi.org/10.5194/hess-28-241-2024
- Gvozdeckiy N.A., Zhuchkova V.K. (Eds.). (1963). Fiziko-geograficheskoe raionirovanie nechernozemnogo tsentra (Physico-geographical zoning of the non-chernozem center). Moscow: MGU (Publ.). 451 p. (in Russ.)
- Hoogendoorn R.M., Boels J.F., Kroonenberg S.B. et al. (2005). Development of the Kura Delta, Azerbaijan; a record of Holocene Caspian sea-level changes. Mar. Geol. V. 222–223. P. 359–380. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2005.06.007
- Ignatov E.I., Kaplin P.A., Lukyanova S.A., Solovyova G.D. (1992). Recent Caspian transgression: impact on the coastal dynamics. Geomorphologiya. No. 1. P. 12–21.
- Kakroodi A.A., Leroy S.A.G., Kroonenberg S.B. et al. (2015). Late Pleistocene and Holocene sea-level change and coastal paleoenvironment evolution along the Iranian Caspian shore. Mar. Geol. V. 361. № 1. P. 111–125. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2014.12.007
- Koordinatsionnyi komitet po gidrometeorologii Kaspiiskogo morya (KASPKOM) (Coordination Committee for Hydrometeorology of the Caspian Sea (CASPCOM)). [Electronic data]. Access way: https://www.caspcom.com/files/CASPCOM%20Bulletin%20No.%2026_1.pdf (access date 22.03.2024).
- Koriche S.A., Singarayer J.C., Valdes P.J. et al. (2022). What are the drivers of Caspian Sea level variation during the late Quaternary? Quat. Sci. Rev. № 283. P. 1–19. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2022.107457
- Kosarev A.N., Kuraev A.V., Nikonova R.E. (1996). Features of modern hydrological conditions of the Northern Caspian Sea. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya. 5. Geografiya. № 5. P. 47–53. (in Russ.)
- Kroonenberg S.B., Abdurakhmanov G.M., Badyukova E.N. et al. (2007). Solar-forced 2600 BP and Little Ice Age highstands of the Caspian Sea. Quat. Int. V. 173. P. 137–143. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2007.03.010
- Lahijani H., Leroy S.A.G., Arpe K. et al. (2023). Caspian Sea level changes during instrumental period, its impact and forecast: A review. Earth-Sci. Rev. V. 241. Article 104428. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2023.104428
- Lilienberg D.A. (1988). Geomorphological-geodynamic direction in assessing the mobility of morphostructures and variability of the earth’s surface. Izvestiya AN SSSR. Seriya geograficheskaya. № 6. P. 110–120. (in Russ.)
- Maev E.G. (1993). Fluctuations in the level of the Caspian Sea: the role of geological factors. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya. 5. Geografiya. № 4. P. 49–56. (in Russ.)
- Mamedov A.M. (1976). Types of manifestation of mud volcanoes in the South Caspian depression. Doklady AN AzSSR. Iss. 32. № 5. P. 25–29. (in Russ.)
- Mihailov V.N., Korotaev V.N., Rychagov G.I. et al. (Eds.). (2013). Ust’ya rek Kaspiiskogo regiona: istoriya formirovaniya, sovremennye gidrologo-morfologicheskie protsessy i opasnye gidrologicheskie yavleniya (River mouths of the Caspian region: history of formation, modern hydrological and morphological processes and dangerous hydrological phenomena). M.: GEOS (Publ.). 703 p. (in Russ.)
- Mihajlov V.N., Povalishnikova E.S. (1998). Once again about the reasons for changes in the level of the Caspian Sea in the twentieth century. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya. 5. Geografiya. № 3. P. 35–38. (in Russ.)
- Naderi Beni A., Lahijani H., Mousavi Harami R. et al. (2013). Caspian Sea level changes during the last millennium: historical and geological evidences from the south Caspian Sea. Climate of the Past. V. 52. № 1. P. 1645–1665. https://doi.org/10.5194/cp-9-1645-2013
- Overeem I., Kroonenberg S.B., Veldkamp A. et al. (2003). Small-scale stratigraphy in a large ramp delta: Recent and Holocene sedimentation in the Volga delta, Caspian Sea. Sediment. Geol. V. 159. № 3–4. P. 133–157. https://doi.org/10.1016/S0037-0738(02)00256-7
- Panin A.V., Sidorchuk A.Yu., Ukraintsev V.Yu. (2021). The contribution of glacial melt water to annual runoff of Volga River in the Last Glacial Epoch. Water resources. V. 48. P. 877–885. https://doi.org/10.31857/s0321059621060146
- Rodkin M.V., Kostjejn Dzh. K. (1995). On the relationship between the Caspian water balance and groundwater regime and seismicity. In: Sbornik referatov Mezhdunarodnoi konferentsii “Kaspiiskii region: ekonomika, ekologiya, mineral’nye resursy. Moskva, iyun’ 20-23, 1995. Moscow: P. 42. (in Russ.)
- Rozanov L.L. (1982). On the capacity of the Caspian Sea basin in the Holocene. Izvestiya AN SSSR. Seriya geograficheskaya. № 2. P. 114–122. (in Russ.)
- Rychagov G.I., Antonov S.I., Gunova V.S. et al. (2019). Development of the Protva River valley in the Late Neopleistocene. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya. 5. Geografiya. № 4. P. 88–99. (in Russ.)
- Rychagov G. I., Antonov S.I., Sudakova N.G. (2007). Glacial rhythms of the Middle Pleistocene of the Center of the Russian Plain (based on materials from the Satin stratoregion). Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya. 5. Geografiya. № 4. P. 15–22. (in Russ.)
- Rychagov G.I, Antonov S.I. (Eds.). (1992). Kompleksnyi analiz srednechetvertichnykh otlozhenii Satinskogo uchebnogo poligona: Uchebnoye posobie (Complex analysis of mid-Quaternary deposits of the Satinskii training site: Textbook). Moscow: MGU (Publ.). 128 p. (in Russ.)
- Rychagov G.I, Antonov S.I. (Eds.). (1996). Stroenie i istoriya razvitiya doliny r. Protvy (The structure and history of the development of the Protva River Valley). Moscow: MGU (Publ.). 129 p. (in Russ)
- Rychagov G.I, Antonov S.I. (Eds.). (2001). Uchebno-nauchnye geograficheskie stantsii vuzov Rossii (Educational and scientific geographical stations of Russian universities). Moscow: Geograficheskii facultet (Publ.). 589 p. (in Russ.)
- Rychagov G.I. (1993). Level regime of the Caspian Sea over the last 10,000 years. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya. 5. Geografiya. № 2. P. 38–49. (in Russ.)
- Rychagov G.I. (1997). Pleistotsenovaya istoriya Kaspiiskogo morya (Pleistocene history of the Caspian Sea). Moscow: MGU (Publ.). 268 p. (in Russ.)
- Rychagov G.I. (2011). Fluctuations in the level of the Caspian Sea: causes, consequences, forecast. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya. 5. Geografiya. № 2. P. 4–12. (in Russ.)
- Rychagov G.I. (2016). The Hyrcanian stage in the history of the Caspian Sea. Geomorfologiya. № 1. P. 3–17. (in Russ). https://doi.org/10.15356/0435-4281-2016-1-3-17
- Rychagov G.I. (2017). A geographical approach to the reconstruction of paleogeographic events. Byulleten’ komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda. № 75. P. 112–134. (in Russ.)
- Rychagov G.I. (2019). To the methods of geomorphological research (geomorphological lessons of the Caspian). Geomorfologiya. № 4. P. 27–39. (in Russ.). https://doi.org/10.31857/S0435-42812019427-39
- Rychagov G.I., Aleshinskaja Z.V., Antonov S.I. et al. (1989). New sections of Mikulin deposits in the center of the Russian Plain. In: Chetvertichnyi period. Stratigrafiya. XXVIII sessiya Mezhdunaradnogo Geologicheskogo Kongressa. M.: Nauka (Publ.). P. 35–42. (in Russ.)
- Rychagov G.I., Antonov S.I., Sudakova N.G. (2012). On glacial stratigraphy and paleogeography of the center of the East European Plain. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 5. Geografiya. № 1. P. 36–44. (in Russ.)
- Rychagov G.I., Mihajlov V.N., Povalishnikova E.S. (1999). Is environmental and economic damage inevitable in conditions of instability of the Caspian Sea level? Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 5. Geografiya. № 5. P. 47–55. (in Russ.)
- Shik S.M. (1985). Problems of correlation of lower Quaternary sediments of the Don glacial tongue region and the Moscow region. In: Kraevye obrazovaniya materikovykh oledenenii. Materialy VII Vsesoyuznogo soveshchaniya. Moscow: Nauka (Publ.). P. 183–185. (in Russ.)
- Shik S.M., Birjukov I.P. (1989). Lower and Middle Pleistocene stratigraphy of the central regions of the European territory of the USSR. In: Chetvertichnyi period. Stratigrafiya. XXVIII sessiya Mezhdunarodnogo Geologicheskogo Kongressa. Moscow: Nauka (Publ.). P. 27–35. (in Russ.)
- Shilo N.A. (1989). The nature of Caspian level fluctuations. Doklady AN SSSR. Iss. 305. № 2. P. 412–416. (in Russ.)
- Shtejenberg V.V. (1981). Ground motion near the source of an earthquake. Izvestiya AN AzSSR. Seriya: Fizika Zemli. № 6. P. 18–31. (in Russ.)
- Sidorchuk A.Yu., Panin A.V., Borisova O.K. (2008). Climate-induced changes in surface runoff on the North-Eurasian plains during the late glacial and Holocene. Water Resources. V. 35. P. 386-396. https://doi.org/10.1134/S0097807808040027
- Sidorchuk A.Yu., Ukraintsev V.Yu., Panin A.V. (2021). Estimating annual Volga runoff in the Late Glacial Epoch from the size of river paleochannels. Water resources. V. 48. P. 864–876. https://doi.org/10.31857/S0321059621060171
- Sudakova N.G., Antonov S.I., Vvedenskaya A.I. et al. (2013). Paleogeographical patterns of development of morpholithosystems of the Russian Plain. Raionirovanie. Stratigrafiya. Geoekologiya. Moscow: Geograficheskii facul’tet MGU (Publ.). 96 p. (in Russ.)
- Sudakova N.G., Rychagov G.I., Antonov S.I. et al. (2008). Rekonstruktsiya paleogeograficheskikh sobytii srednego neopleistotsena Tsentra Russkoi ravniny (Reconstruction of paleogeographic events of the Middle Neopleistocene of the Center of the Russian Plain). Moscow: Geograficheskii facul’tet MGU (Publ.). 167 p. (in Russ.)
- Svitoch A.A. (2015). Paleogeography of the Greater Caspian Sea. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seria 5. Geografia. № 4. P. 69–80. (in Russ.)
- Tekhniko-ekonomicheskii doklad po zashchite narodno-khozyaistvennykh ob”ektov i naselennykh punktov pribrezhnoi polosy v predelakh Dagestanskoi ASSR, Kalmytskoi ASSR i Astrakhanskoi oblasti ot navodnenii v svyazi s povysheniem urovnya Kaspiiskogo morya. Osnovnye polozheniya (Technical and economic report on the protection of national economic facilities and settlements of the coastal strip within the Dagestan Autonomous Soviet Socialist Republic, the Kalmyk Autonomous Soviet Socialist Republic and the Astrakhan Region from floods due to rising levels of the Caspian Sea. Basic provisions). (1992). Moscow: Jekopros (Publ.). 48 p. (in Russ.)
- Velichko A.A. (1980). On the age of moraines of the Dnieper and Don glacial tongues. In: Vozrast i rasprostranenie maksimal’nogo oledeneniya Vostochnoi Evropy. Moscow: Nauka (Publ.). P. 7–19. (in Russ.)
- Velichko A.A., Udarcev V.P., Morozova T.D. et al. (1977). On the different ages of moraines of the Dnieper and Don blades of the cover glaciation of the East European Plain. Doklady AN SSSR. Iss. 232. № 5. P. 1142–1145. (in Russ.)
- Yanina T.A., Sorokin I.M., Bezrodnykh Yu.P., et al. (2014). The Hyrcanian stage in the Pleistocene history of the Caspian Sea. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 5. Geografiya. № 3. P. 3–9. (in Russ),
- Yanina T.A., Sorokin I.M., Bezrodnykh Yu.P., Romanyuk B. (2018). Late Pleistocene climatic events reflected in the Caspian Sea geological history (based on drilling data). Quat. Int. V. 465. Part A. P. 130–141.
Supplementary files