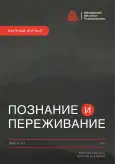О компенсаторной функции фантазирования
- Авторы: Никитин И.Ю.
- Выпуск: Том 5, № 1 (2024)
- Страницы: 85-97
- Раздел: Аналитические заметки
- URL: https://bakhtiniada.ru/2782-2168/article/view/265460
- DOI: https://doi.org/10.51217/cogexp_2024_05_01_06
- ID: 265460
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В заметке автором предлагается теоретическое осмысление компенсаторной функции фантазирования как механизма защиты «Истинного Я» субъекта от невротизации и дезадаптации вследствие психотравмы с позиции феномена посттравматического роста личности.
Полный текст
«Никогда не фантазирует счастливый, а только неудовлетворенный», – писал З. Фрейд (Фрейд, 1995, с. 130) об особенностях процесса фантазирования, называя неудовлетворенные желания движущей силой мечтаний, а фанта зию – исполнением желания художника, исправляющего неудовлетворяющую действительность (подобно невротику, обращающемуся к миру фантазий для поиска в нем замены фрустрированному желанию) (Григорьева, 2007). С указанным положением соглашался и Л.С. Выготский, называя «влечения, оставшиеся неудовлетворенными в жизни, как одну из причин проявления фантазии и воображения» (Лукьянов, 2005, с. 57). Компенсацией комплекса неполноценности считал творчество А. Адлер (Первин, Джон, 2001), вторящую ему мысль высказывает Е.Л. Яковлева, отмечая, что травматический опыт проявляется в творчестве, активизирующим ресурсы воображения, переключая внимание на создание чего-то нового, «что снимает напряжение и смягчает ситуацию. В подобной саморегуляции индивид (временно) способен управлять посттравматическим воспоминанием, перерабатывать смысл травмы и даже изменять направленность жизнедеятельности» (Яковлева, 2022, с. 82). В некотором смысле, созвучных фрейдовским взглядов придерживался и Юнг, связывая фантазию с проявлением конфликтов личности, разделяя фантазии на активные (высшие проявления человеческого духа, воплощающиеся в произведениях искусства) и пассивные (патологические формы) (Данилки- на, 2009). Схожую аксиому выдвигал также Гелен, говоря, что «фантазия – это средство преодоления мучительной жизни <…> если человек не фантазирует, следовательно, он счастлив или, по крайней мере, должен быть таковым. <…> Мы фантазируем, когда нам плохо. Но в то же время нам не так плохо, как нам могло бы быть, если бы у нас не было фантазии» (Антипов, 2018, сс. 89-90).
Беглый биографический анализ известных представителей художественной сферы, кажется, подталкивает нас к согласию с приведенными утверждениям. Так, психическими расстройствами страдали Ван Гог (Голенков, 2009), Уэйн (Кирюхина, 2022), Мунк (Скрябин, 2019) и Шуман (Рыжков, 2019). Гоген испытывал галлюцинации (Каганов, 2015), тяжелой формой туберкулеза был болен Кафка (Барканова, 2019), депрессии были у Лондона (Танасейчук, 2018), Плат (Гурьев, 2020), Вулф (Яшина, 2020) и Хемингуэя (Тиганов, 2014); Буковски страдал алкоголизмом (Sounes, 1999), наркоманией был болен Берроуз (Hibbard, Burroughs, 1999). Внушительный список из психиатрических заболеваний у более чем пятидесяти представителей художественной сферы приводит в отдельной работе Королев (2010), и список можно продолжить.
Приводя более предметные случаи, можем отметить, например, что основой поэтики творчества Воннегута являлся травматический опыт, пережитый писателем во время Второй мировой войны в Европе (Беляева, Стрельцова, 2023); опыт лагерного заключения сформировал творчество Боровского (Ка- менская, 2017); психологические травмы юности прошли красной линией через творчество Мюллер (Чугунов, 2022); детский опыт и семейные драмы сыграли значительную роль в становлении художественного таланта Дали (Яковлева, 2022); аналогичным образом неразрешенные конфликты раннего юношества нашли свое закономерное отражение в творчестве Мая (Гуревич, 2013); физические травмы оказали сильнейшее влияние на творчество Гойя (Корелина, 2018). Примеров подобного развития событий в личных биографиях известных представителей художественного мира можно привести много. Развивая затронутую тему, приводим высказывание А.А. Королева (2010), который отмечает:
«В начале 60-х годов американские ученые провели исследование великих людей и пришли к следующему заключению. Хотя связь между гениальностью и безумием вовсе не обязательна, но большинство гениев, как правило, психически ненормальны. Когда выбрали 78 самых великих имен в истории человечества, то обнаружили, что из них более чем 37% имели острые душевные забо левания, по крайней мере, раз в жизни; более 83% были явными психопатами; только приблизительно 7% были нормальными людьми. Когда исследование сузилось до 35 самых величайших гениев в истории, то вместе с гениальностью возросла и эта печальная закономерность: 40% сверхгениев страдали острыми душевными болезнями и более 90% были психопатами» (с. 78).
***
Из вышеизложенного может сложиться впечатление, что несчастье, неудовлетворенность, обилие внутренних конфликтов и личные травмы (для целей настоящей работы эти и схожие понятия будут нами употребляться синонимично) – суть, побудительный мотив и источник возникновения творчества. Однако, учитывая изложенное выше, будет наивностью утверждение, что травма неизбежно вызывает креативность, ведь в указанном случае мы бы наблюдали повсеместное засилье творческих личностей и расцвет нового Ренессанса, а не кратный рост количества психиатрических клиник, госпитализаций по психиатрическим показаниям и амбулаторных посещений пациентов, имеющих психиатрические диагнозы (Решетников, 2015). Так, обнаруживая травму в биографии значимого количества представителей художественной сферы, мы можем осторожно предположить, что существует, как минимум, не сколько стратегий отреагирования травмы, одна из которых уводит индивида в болезнь, другая же неочевидным образом связана с проявляющимся позднее творчеством. С.В. Ермолаева (2013) емко формулирует приведенную гипотезу:
«Между стрессом и творчеством существует определенная связь, в пользу этого свидетельствует большое количество фактов биографий известных людей, чья деятельность неразрывно связана с достижениями в области искусства и науки, когда расцвет их творческих сил приходился на тяжелые периоды, связанные с психическими травмами, потерями, угрозами жизни» (с. 92).
А.Л. Синаторов, в свою очередь, еще более сжато отмечает здесь: «невротик – это художник, который не может превратить свои конфликты в искусство» (Синаторов, 2021, с. 84), что приводит нас к предположению о роли травмы как интрапсихического катализатора креативности, как минимум, в ряде случаев. Но если не каждая травма способствует расцвету таланта, то, вероятно, мы должны допустить некую начальную предиспозицию, то еть положение дел, при котором творческий потенциал раскрывается именно вследствие травмы.
Э. Нойманн (Юнг, Нойман, 1996) в схожем отношении указывает:
«<…> индивидуальная история каждого творческого человека почти всегда балансирует над пропастью болезни; в отличие от других людей, он не склонен залечивать личные раны, полученные в ходе развития, с помощью все большей адаптации к коллективу. Его раны остаются открытыми, но страдание от них достигает глубин, из которых поднимается другая целительная сила, и этой целительной силой является творческий процесс» (с. 233-234).
Исследования Р.Г. Тедеши и Л.Г. Калхуна (подробнее см. Слабенкова, 2014) позволяют сделать предположение, что вышеописанная диспозиция характеризуется разворачиванием феномена посттравматического роста личности, опытом «переживания человеком положительных психологических изменений в результате борьбы с травмой или любым чрезвычайно стрессовым событием» (Тедеши и Калхун, цит. по: Чачко, 2010, с. 141). Так, травма выступает «катализатором, трамплином для резкого скачка личностного роста» (Вилюжанина, 2020, с. 229). В последнем сущностно проявляется одна из ключевых особенно стей адаптации психики в рамках посттравматического роста, адаптации, при которой делается акцент на том, «что человек приобрел в преодолении травмы, а не том, что было потеряно и потом удалось восстановить (восстановление), или что не было потеряно и что удалось сохранить наперекор травме (устойчивость)». (Линли, цит. по: Федунина, 2006, с. 76, курсив в оригинале). Зелянина и Падун (2017) описывают процесс разворачивания феномена посттравматического роста личности, состоящий из двух базовых этапов:
«На первом этапе включаются защитные механизмы (отрицание, эмоциональная онемелость, избегание). Основная функция этих механизмов – защита психики индивида от сильного возбуждения. На втором этапе индивид пытается вернуться к старым базисным убеждениям для достижения прежнего психологического комфорта. По этой причине происходит позитивная реинтерпретация травматического опыта, начинается поиск позитивных изменений, вызванных травмой» (с. 3).
Так, мы можем сделать теоретическое предположение, что полная диспозиция выглядит следующим образом: предсуществующий творческий потенциал субъекта является витальным продуктом его (ее) психики, стержневой организующей личность компонентой «Истинного Я» (Самости). Травмирующий опыт и/или протяженное во времени патогенное негативное влияние – «крайне интенсивное стрессовое переживание, которое превышает адаптационные возможности личности и не может абсорбироваться (поглощаться) и «метаболизироваться» (до конца прорабатываться) психикой» (Фруцкая, Андреева, 2017, с. 117) – заставляет субъект образовывать защиты вокруг «Истинного Я» и адаптироваться к объективной реальности путем образования «Ложного Я».
«Ложная самость (или «Ложное Я») – структура психики, возникающая, как защитная реакция на опасность нарушения целостности личности ребенка, возникающую в результате неблагополучных объектных отношений. Данная примитивная защита представляет собой символический возврат к диадической системе самосохранения, при которой сильная часть заботится о слабой. «Ложное Я» оберегает «Истинное Я» от агонии распада, но одновременно становится препятствием для его развития» (Колесникова, 2017, с. 45).
Итак, «Ложное Я» отвечает за защиту «Истинного Я», в свою очередь ответственного за стихийные креативные тенденции личности, оно реактивным (вследствие, например, депривации) образом адаптируется к требованиям окружающей действительности и (при патологическом развитии личной исто рии) может подменять «Истинное Я» (врожденный потенциал), блокируя творческие проявления личности и спонтанную экспрессию как таковые (Длужневская, 2022; Николаева, 2013). «Психика ребенка, – указывает Максименко, – интроецирует подобное [эмоционально депривирующее – И.Н.] отношение и формирует деструктивную ложную самость, которая выполняет функцию защиты» (Максименко, 2020, с. 1063).
Далее, вследствие нарастающего внешнего давления индуцируется процесс кристаллизации «Ложного Я» и окончательной подмены «Истинного Я», что для субъекта тождественно утрате самого (-ой) себя, самоуничтожению. Со ссылкой на Калшеда и Кохута, Морозова (2017) описывает указанное нижеследующим образом:
«Травма является острым и разрушительным переживанием детского абьюза, отличительной чертой которого является проявление тревоги и ужаса перед угрозой растворения «собственного Я». <…> [Кохут. – И.Н.] называет данную травму «тревогой дезинтеграции», приводящую к аннигиляции личности и дальнейшему ее разрушению. Ранняя психическая травма провоцирует невозможность интеграции личности и приводит к формированию «ложного Я» (с. 279-280).
Так, отказ от утраты собственной идентичности – психической аннигиляции – приводит в действие бессознательный механизм защиты, внутренние резервы организующего стимула витальности (творческого потенциала) катектируются и выступают сдерживающим фактором для затвердевания защитного панциря «Ложного Я», предотвращают полную дезадаптацию и невротизацию личности. «Тревога дезинтеграции, угрожающая полной аннигиляцией лично сти, – пишет Калшед (Калшед, 2001, с. 69), – может привести к разрушению человеческого духа. Такой исход должен быть предотвращен любой ценой». Следовательно, творческий потенциал выступает компенсирующим давление травмы механизмом самозащиты психики, и (как возможно сделать вывод), креативность в данном случае расцветает вследствие нее и благодаря ей. Зайцева и Дормидонтов (2023) делают важное уточнение, говоря, что «позитивные изменения вследствие травмы присутствуют одновременно с негативными. Таким образом, мы говорим об амбивалентности. Позитивные последствия травмы не отменяют всех травматичных и проблемных сторон жизненной ситуации. ПТР [посттравматический рост. – И.Н.] развивается одновременно с адаптацией к травмирующим событиям, вызывающим сильный психический дистресс» (с. 125). Так, художники (как мы можем наблюдать по многочисленным примерам в творчестве) сохраняют в своем искусстве пережитую травму навсегда. На схожую тему К.Г. Юнг (Юнг, Нойман, 1996) писал:
«<…> совсем не удивительно, что художник для психолога является представителем интереснейшей породы людей, с точки зрения критического анализа. Его жизнь не может не быть полна конфликтов, поскольку две силы воюют в нем: с одной стороны, вполне оправданное стремление нормального человека к счастью, удовлетворенности и безопасности, а с другой стороны, – неудержимая страсть к творчеству, заходящая так далеко, что она подавляет любое личное побуждение. Если жизнь художника, как правило, в высшей степени неспокойная (чтобы не сказать трагичная), то причиной здесь не абстрактный промысел судьбы, а внутренняя инфернальность его личности и не способность адаптироваться. Личности приходится дорого платить за божий дар творческого горения» (с. 50).
***
Выдвинув предположение, что фантазирование выступает защитным механизмом, предотвращающим невротизацию личности, нам необходимо сделать одно существенное уточнение в предложенной гипотезе. Мы допустили, что творческий потенциал является предсуществующим, но не сделали акцент на принципиальном факте, что он является одновременно и латентным. Другими словами, в предлагаемой картине становления психики субъекта его (ее) креативность никак не обнаруживает себя до травматизации, то есть вызревает в инкубационном периоде, где условием для проявления «симптомов» творчества является именно травма. Таким образом, мы должны предположить, что, не подвергаясь внешнему угнетению травмирующего, творческий потенциал не получает стимула к проявлению и остается нереализованным, угасает. Последнее, по сути, возвращает нас к необходимости предварительно солидаризоваться с высказанной Фрейдом мыслью, процитированной в начале настоящей работы. В некотором смысле, как будто резюмируя обсуждение настоящей работы, Э.В. Уэллдон (2017) отмечает:
«Травмы могут стать источником огромной творческой энергии, которая, в противном случае, могла бы остаться нераскрытой. Кроме того, изучение процесса проживания травмы и насилия может способствовать психологическому росту в неблагоприятных условиях. Вспышки ярости могут также подтолкнуть к поиску новых возможностей и расширению перспектив. Таким образом, в трав ме заложен потенциал как к разрушению, так и к эмоциональному росту. Опыт самовосстановления, полученный в результате успешного совладания с беспомощностью и угрожающими жизни ситуациями, может привести к появлению способности контролировать себя, а также умению обеспечивать безопасность и контейнирование. Наша жизнь обогащается благодаря интеграции травм. Это происходит в том случае, если мы смогли успешно справиться с серьезными уг розами для своей идентичности и выйти из них в целости и сохранности, не раз валившись при этом на части, как мы опасались раньше» (с. 161-162).
Предложив в настоящей работе предварительное теоретическое осмысление компенсаторной функции фантазирования, как механизма защиты «Истинного Я» субъекта от невротизации и дезадаптации вследствие психотравмы, мы сделали предположение, что при наличии скрытого творческого потенциала травма в определенных случаях может выступать катализатором креативности, в отсутствие травмы – латентизирующейся, но совершенно ничего не сказали о механике развития творческих потенциалов у субъектов, свободных от травматического опыта. Так, грубо обрисовав фантазирование неудовлетворенных, мы ни на шаг не приблизились к ответу на вопрос, может ли творчество проистекать из места, свободного от травмы, что является отдельным пластом для осмысления, который в настоящей работе мы сознательно заменим многоточием.
Об авторах
Илья Юрьевич Никитин
Автор, ответственный за переписку.
Email: nikitin.ilia89@gmail.com
ORCID iD: 0009-0007-1806-1740
Независимый исследователь, магистр искусств в области интегральной психологии, специалист в области организационной психологии
Россия, МоскваСписок литературы
- Антипов С.С. Воображение как свойство человека //Философская школа. 2018. – №. 5. – 83-94с.
- Барканова О.Н. Туберкулез гортани. История болезни и смерти Ф. Кафки // EUROPEAN RESEARCH: сборник статей XXIII Международной научно- практической конференции. – 2019. – С. 99-101.
- Беляева В.Е., Стрельцова Г.В. Творчество К. Воннегута как отражение личной травмы // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. – 2023. – № 1. – 77-86с.
- Вилюжанина Т.А. Посттравматический рост: теоретические основания исследования // Донецкие чтения 2020: образование, наука. – 2020. – С. 228-230.
- Голенков А.В. Психические расстройства Винсента Ван Гога: обзор мнений врачей и ученых // Вестник психиатрии и психологии Чувашии. 2009. – № 5. – С. 127-144.
- Гурьев В.М. Сильвия Плат: метаморфоза счастья на примере романа «Под стеклянным колпаком» // Сборник научных статей по итогам Международного научного фестиваля молодежного проектирования. – 2020. – 2020. – С. 121-124.
- Григорьева Л.Ю. Творчество как проявление множественности бытия //Труды Дальневосточного государственного технического университета. – 2007. – № 147. – С. 106-110.
- Гуревич Р.В. Творчество Карла Мая: формирование художественно-эстетических принципов (1874-1886 годы) // Известия Смоленского государственного университета. – 2013. – № 4(24). – С. 130-138.
- Данилкина И.И. Структура и многообразие форм визуального воображения // Аналитика культурологии. – 2009. – № 15. – С. 67-74.
- Длужневская Л.А. Развитие представлений о самости в психодинамической теории личности //Психология. Психофизиология. – 2022. – Т. 15. – № 3. – С. 14-25.
- Ермолаева С.В. Психологические особенности и метафорические образы стрессовых ситуаций у людей творческих профессий // Издание осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-06-14006. – 2013.
- Зайцева Е.И., Дормидонтов Р.А. Теоретический обзор феномена посттравматического роста личности // Современная наука и образование: Актуальные вопросы теории и практики. 2023. – С. 124-128.
- Зелянина А., Падун М. К проблеме посттравматического личностного роста: современное состояние и перспективы // Психологические исследования. – 2017. – Т. 10. – № 53.
- Каганов Б.С. Мадонна с младенцем, или грудное вскармливание как искусство (лекция) // Вопросы практической педиатрии. – 2015. – Т. 10. – № 3. – С. 83-97.
- Калшед Д. Внутренний мир травмы // Консультативная психология и психотерапия. – 2001. – Т. 9. – № 1. – С. 68-101.
- Каменская А.Е. Нечаянный перформанс Тадеуша Боровского // Альманах студенческих и аспирантских работ по социально-гуманитарным наукам. – Министерство образования и науки Российской Федерации; Тверской государственный университет. – 2017. – Т. 1. – С.23-27.
- Кирюхина Е.М. Эволюция цвета и колорита в художественном творчестве Л.У. Уэйна (1860–1939). / Третий Всероссийский конгресс по цвету // Смоленск. – 2022. – С. 19-23.
- Корелина А.Е. Влияние травматического опыта на процесс создания произведения искусства: «до» и «после» (на примере творчества Франциско Гойя) // Вестник научной ассоциации студентов и аспирантов исторического факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Studis historica juvenum. – 2018. – №. 1 (14). – С. 306-314.
- Королев А.А. Роль личности в истории: гении и таланты // Общество и человек. – 2010. – № 1(1). – С.70-83.
- Колесникова В.И. Психологические особенности травмы в парадигме аналитической психологии КГ Юнга // Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. – 2017. – Т. 3. – № 1. – С. 43-55.
- Лукьянов А.Е. Л.С. Выготский о вопросах фантазии, воображения, творчества // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2005. – № 2(17). – С. 47-48.
- Максименко Е.Г. Типы родительского отношения и их последствия (психоаналитический подход) // Актуальные проблемы теории и практики психологических, психолого-педагогических и педагогических исследований: Сборник трудов Международной научно-практической конференции «XV Левитовские чтения». – 2020. – Т. 3. – С. 1059-1064.
- Морозова Л.Б. Влияние пережитого в детстве насилия на формирование виктимной личности // Проблемы современного педагогического образования. – 2017. – № 57-11. – С.279-286.
- Николаева А.Ю. Семантическое пространство субъектности // Психологические и психоаналитические исследования: Ежегодник 2012-2013. – 2013. – С. 54-69.
- Уэллдон Э.В. Игры с динамитом. Индивидуальный подход к психоаналитическому пониманию перверсий, насилия и преступности. – М.: Издательство «Перо». – 2017. – 381с.
- Первин Л., Джон О. Психология личности: Теории и исследования. – М.: Аспект Пресс. – 2001. – 607 c.
- Решетников М.М. Психическое здоровье населения: современные тенденции и старые проблемы // Национальный психологический журнал. – 2015. – № 1 (17). – С.9-15.
- Рыжов Б.Н. Три болезни и три парадоксальные способности: системно-психологическая интерпретация // Системная психология и социология. – 2019. – № 1 (29). – С.5-16.
- Слабенкова Г.К и др. Посттравматический рост: теоретический анализ проблемы // Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии. – 2014. – Т. 49. – №. 2.
- Скрябин В.Ю. Жизнь и творчество Эдварда Мунка: взгляд психиатра // Психическое здоровье. – 2019. – № 11. – С.81-86.
- Синаторов А.Л. Мультикультурализм как форма интеграции духовно-нравственных качеств и норм поведения, присущих современным обществам // Социально-педагогические технологии в социализации будущего профессионала. – 2021. – С. 76-87.
- Танасейчук А.Б. «На полях» биографии Джека Лондона // Литература двух Америк. 2018. – №4. – С. 72-77.
- Тиганов А.С. Эрнест Хемингуэй // Психиатрия. – 2014. – № 1. – С.70-73.
- Федунина Н.Ю. Понятия устойчивости к травме и посттравматического роста // Консультативная психология и психотерапия. – 2006. – Т. 14. – № 4. – С.69-80.
- Фрейд З. Художник и фантазирование. – М.: Республика. – 1995. – 400с.
- Фруцкая И.В., Андреева И.Н. Взаимосвязь посттравматического стрессово го расстройства с творческой активностью, жизнестойкостью и нервнопсихической адаптацией // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия E. Педагогические науки. – 2017. – № 7. – С. 117-121.
- Чачко С.Л. Проблема посттравматического роста: попытка теоретического анализа // Вісник Одеського національного університету. Психологія. – 2010. –Т. 15. – №. 11. – С.140-148.
- Чугунов Д.А. «Косяки» и травмы: размышления о творчестве Герты Мюллер // Практики и интерпретации: журнал филологических, образовательных и культурных исследований. – 2022. – Т. 7. – № 1. – С.17-33.
- Юнг К.Г., Нойманн Э. Психоанализ и искусство. – М.: Ваклер. – 1996. – 304с.
- Яковлева Е.Л. Детские травмы как исток творчества Сальвадора Дали // Психология и Психотехника. – 2022. – № 1. – С.80-93.
- Яшина О.С. Личность и безумие в творчестве В. Вулф (на примере романа «Миссис Дэллоуэй») //ВЕСТНИК. – 2020. – С.443-450.
- Hibbard A., Burroughs W. Conversations with William S. Burroughs. – Univ. Press of Mississippi, – 1999. – 234p.
- Sounes H. Charles Bukowski: locked in the arms of a crazy life. – NY.: Grove Press. – 1999. – 309p.
Дополнительные файлы