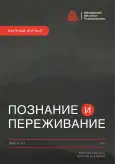Возвращаясь к полемике философов о слепоглухонемоте (аргументы от «методологии с ограниченной ответственностью»)
- Авторы: Розин В.М.1
-
Учреждения:
- Институт философии Российской академии наук
- Выпуск: Том 5, № 1 (2024)
- Страницы: 44-60
- Раздел: Философия и психология
- URL: https://bakhtiniada.ru/2782-2168/article/view/265455
- DOI: https://doi.org/10.51217/cogexp_2024_05_01_03
- ID: 265455
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассматривается полемика двух известных российских философов, касающаяся факторов, определяющих развитие человека, а также причин фальсификации Э.Д. Ильенковым реальных условий «Загорского эксперимента». Если Ильенков утверждал, что формирование личности зависит исключительно от социальных условий и средств, то Д.И. Дубровский настаивал на том, что в этом процессе существенную роль играют также генетические факторы, которые необходимо учитывать в решении про блем воспитания и образования. Помимо причин фальсификации, речь идет о старой психофизиологической проблеме, правда, в ее современной форме ‒ взаимосвязях психики и мозга, а также влиянии на формирование индивида генетических факторов. Загорский эксперимент сравнивается с экспериментом по одомашниванию диких жи вотных, который примерно в это время осуществил генетик Дмитрий Беляев; отмечается сходство и различие этих экспериментов. Автор ставит задачу более тщательно проанализировать соотношение психики и телесности, для чего намечает этапы генезиса становления человека. Он показывает, что необходимость адаптироваться к ком муникации, работать со знаками и орудиями, действовать совместно трансформируют биологическую субстанцию гоминид, создавая на ее основе, с одной стороны, психику человека, с другой ‒ «антропобиологическую организацию» его телесности. Эти стороны связывает принцип «психосоматического единства», в соответствии с которым всякий психический процесс требует своего соматического (физиологического) обеспечения (поддержки), и наоборот. В последней части статьи на основе получен ных теоретических представлений выдвигаются аргументы в поддержку позиции Дубровского. Стратегия выведения слепоглухих в мир нормальной жизнедеятельности и творчества сравнивается со стратегией психотерапевта Павла Волкова, позволяющей выводить клиентов из мира шизофрении.
Ключевые слова
Полный текст
Стоит сразу сделать два пояснения: что такое методология с ограниченной ответственностью, а также о чем шла полемика, начавшаяся еще в прошлом сто летии между профессором Давидом Израилевичем Дубровским и известным российским философом Эвальдом Васильевичем Ильенковым. Методология с ограниченной ответственностью ‒ это методология, которую развивает автор, ориентируясь на культурно-исторический подход и современные варианты се миотики, культурологии и персоналогии (см. в книге «Возобновление методологии» (Розин, 2017. с. 131-135)).
Суть спора четко изложил сам Дубровский в небольшой книге «Слепоглухонемота: исторические и методологические аспекты. Мифы и реальность». «Философы молодого поколения, во всяком случае многие из них, ‒ пишет Дубровский, ‒ уже, наверное, не знают, что в 70-х годах прошлого века не только философская литература, но и массовая пресса трубила на всю страну и била в фанфары о выдающихся достижениях советской науки: благодаря ее марксистским методам четверо слепоглухих от рождения смогли успешно за кончить психологический факультет МГУ… Столь впечатляющее достижение получило название «Загорского эксперимента»… <…> Ключевым пунктом «Загорского эксперимента», ‒ поясняет Дубровский позицию его сторонников, в частности, Ильенкова, ‒ служило именно то, что все четверо были слепыми и глухими от рождения, целиком изолированными от внешней социальной действительности: формирование личности началось с «нуля», с полного отсутствия у них человеческой психики». <…> «Исходное условие, ‒ цитирует Дубровский Ильенкова, ‒ жесткое: психики нет вообще, и «сама» она не возни кает. Ее надо сделать, сформировать, воспитать» … «Исходное условие ‒ то, что дано природой, биологией, ничтожно мало ‒ одни лишь простейшие органические нужды: в пище, воде да физических факторах известного диапазона. Больше ничего» (Ильенков, 1977, с. 71).
И вот, благодаря специальным методам воспитания, основанным на марксистской теории личности, они обрели развитую психику…
Но вскоре стали выясняться противоречащие факты. Оказалось, что никто из них не был слепым и глухим от рождения. Они утратили зрение и слух в позднем дошкольном или даже школьном возрасте, когда у них накопился большой психический опыт восприятия мира и сформировалась развитая речь. <…>
«Э.В. Ильенков, ‒ разъясняет дальше Дубровский теоретические основания полемики, ‒ категорически утверждал, что формирование личности зависит исключительно от социальных условий и средств. Я же настаивал на том, что в этом процессе существенную роль играют также и генетические факторы, которые необходимо учитывать в решении проблем воспитания и образования» (Дубровский, 2018. с. 7-9, 13).
Другими словами, помимо выяснения истины в вопросе о том, почему Ильенков скрыл от общественности реальные условия «Загорского эксперимента» («И об этом надо говорить прямо, без всякой философической политкоррекности…» (Там же, с. 32)). Речь идет о старой психофизиологической проблеме, правда, в ее современной форме ‒ взаимосвязях психики и мозга, а также вли янии на формирование индивида генетических факторов. Ильенков – твердый сторонник концепции, в соответствии с которой ведущими и, по сути, определяющими подобное формирование выступают социально-педагогические действия; роль же генома, мозга и других биологических структур (будем все это называть «антропобиологической организацией» человека) ничтожна.
Здесь я невольно вспомнил об известных экспериментах советского генетика Дмитрия Беляева, который смог диких серебристых лисиц превратить в домашних. Он, наоборот, считал, что ключ к механизму одомашнивания лежит не в принципах социального формирования, а именно «менделевского наследования». «Джейсон Голдман из Scientific American сказал: «Беляев выдвинул гипотезу, что анатомические и физиологические изменения, наблюдаемые у одомашненных животных, могли быть следствием результата отбора на основе поведенческих признаков. Более конкретно: он считал, что приручаемость была решающим фактором» (начали с 30 лисиц-самцов и 100 лисиц, большинство из них с коммерческой зверофермы в Эстонии). С самого начала Беляев выбирал лисиц исключительно из приручаемости, позволяя размножаться лишь крошечному проценту потомства мужского пола и чуть большему проценту самок. Лисиц не дрессировали, чтобы убедиться, что их приручаемость была результатом генетического отбора, а не влияния окружающей среды. По той же причине они проводили большую часть своей жизни в клетках, и им разрешались лишь кратковременные встречи с людьми… Единственным критерием для разрешения им размножаться была их терпимость к контакту с человеком… После более чем 40 поколений разведения Беляев произвел «группу дружелюбных одомашненных лисиц» … У многих одомашненных лисиц были висячие уши, короткие или вьющиеся хвосты, длительный репродуктивный сезон, изменения в окраске меха и форме черепов, челюстей и зубов. Они также потеряли свой «мускусный лисий запах» (Вместо собак: ..., 2022). «Внешне лисы тоже отличались от своих диких сородичей. Их окрас стал более пятнистым и светлым, а некоторые лисички и вовсе стали практически полностью белыми…На данный момент специалисты по одомашниванию лисиц констатируют, что их подопечные вполне могут проживать рядом с человеком, но не в квартирах или домах, а на подворьях. Питомцы из них своеобразные: с человеком уживаются, но не зависят от него и своевольны. К людям не агрессивны и поддаются дрессировке, но по чистоплотности оставляют желать лучшего. Живут около 10 лет, в то время как их дикие собратья – около 4. Лисы могут быть как помощниками при охоте, так и просто красивыми домашними животными» (Вместо собак: ..., 2022).
Прокомментирую. Как генетик Беляев был уверен, что эволюция животных определяется только генетическим отбором, а не факторами внешней среды. Но откуда, спрашивается, он брал для эксперимента лисиц? Со звероферм, где лисицы жили в искусственной среде (их выращивали, кормили, чистили, охраняли, и пр.), причем они общались с людьми, которые за ними ухаживали. То есть это были домашние животные в начальной стадии развития, а не чисто дикие животные; кстати, американские биологи Элинор Карлсон и Кэтрин Лорд тоже обратили внимание, что «эксперимент начался с разведения лисиц, которые не были дикими» (Bitttel, 2019). Отбирались для размножения только те лисицы, которые не боялись людей и тянулись к ним для общения. Нетрудно догадаться, что гены этих особей претерпели мутацию, которую Беляев на уровне поведения и назвал признаком «приручаемости» (желание общаться с людьми и отсутствие агрессии). Именно лисам из этой популяции разрешали размножение, что способствовало, с одной стороны, определенной направленности трансформа ции генов (на человека), с другой ‒ дальнейшим этапам становления домашних животных. То есть эволюция лис шла под влиянием двух факторов ‒ не только генетического отбора, но и воздействия среды, создаваемой человеком, среды, способствующей формированию домашних животных.
Таким образом, с одной стороны, налицо противоположность (в первом случае сводится на нет роль антропобиологической организации, во втором ‒ социально-педагогического формирования), с другой ‒ сходство (в обоих случаях фальсифицирована исходная реальность в пользу смысловой концепции их создателей). В полемике Дубровского и Ильенкова я на стороне первого, но его положение о роли генетических и биологических факторов сформулировано в общем виде, неконкретно. Понимая сложность этой проблемы, я ставлю себе задачу рассмотреть связь психики с антропобиологической организацией. Для этого в рамках методологии с ограниченной ответственностью показываю, что решение подобных задач предполагает генезис (в логике культурно-исторического подхода) происхождения человека.
Прежде чем изложить результат подобного генезиса, сделаю одно замечание. Беляев, скрещивая лис, способствовал превращению дикого животного в домашнее, но опять-таки получалось животное. Историческая эволюция на земле на основе животного «создала» человека. Вероятно, животное должно было исчезнуть (не вообще, а уйти на второй план, стать одной из «ипостасей человека» ‒ биологической, наряду с другими ипостасями, социальной, культурной, семиотической, духовной), и родиться должен был именно человек, на что в свое время косвенно указывал Б.Ф. Поршнев в своей книге «О начале человеческой истории» (Поршнев, 2007). Мои исследования показывают, что, как бы сказали алхимики, «трансмутация» животного в человека произошла на ос нове становления знаков и социальной коммуникации. В этом же контексте складывается антропобиологическая организация как результат преображения биологии под влиянием семиотики и социальности.
ДВА ЭТАПА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА (ДОИСТОРИЧЕСКИЙ И В АРХАИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ)
Возникшая на Земле жизнь в виде отдельных «индивидов» (т.е. уникальных, целостных образований) имела склонность к усложнению и, следовательно, развитию. Последнее происходило не только под влиянием дарвиновского закона борьбы за существование, но и космических катастроф, и «случайных факторов со стороны», и новой «информации», и «скачкообраз ной смены реальности». Эволюция биологической жизни на рубеже 10-1 миллионов лет до н.э. создала условия для становления новой целостности, которая в XVIII-XIX вв. получает название «антропологической» и «социальной» (Вместо собак: ..., 2022).
Ее можно охарактеризовать следующими двумя особенностями. Эта целостность наследует (включает в себя) развитые биологические индивиды (сообщество гоминид), кардинально меняя их телесность и организм (прямо- хождение, увеличение мозга, развитие моторики рук, и пр.). Вторая особенность, позволившая, собственно, образоваться новому целому, − использование знаков, обозначающих не наблюдаемые реалии, а нужные для управления «первичным коллективом» (семья, родовое объединение, племя), а также ис пользование орудий (Розин, 2016. с. 29-44). Техника выполняла две основные функции. Во-первых, она расширяла возможности гоминид в плане адаптации к окружающей среде и создания нужной среды (огонь, орудия, одежда, жили ще, и т.д.). Во-вторых, как бы подтверждала использование знаков, ведь с ее помощью создавалась реальность, соответствующая их значениям. Конкрет ный механизм, запустивший становление человека, был примерно следующий. На указанном выше историческом рубеже группы гоминид (человекообразных обезьян, предков человека) попадают в катастрофические условия жизни (вынуждены спуститься с деревьев и жить в саване среди хищников). Как я показываю, выживают лишь те группы, которые переходят к «парадоксальному поведению», т.е. начинают действовать по командам вожака, представляющим собой уже не сигналы (что характерно для животных), а знаки. Необходимое условие знакового поведения со стороны остальных членов коллектива ‒ строгое следование командам, что предполагает воссоздание воображаемых ситуаций, воспринимаемых, однако, как настоящие (в семиотике их можно истолковать как прототипы денотатов). Необычное (в биологическом отношении) поведение коллектива позволяет выживать. Поскольку подобное семиотическое поведение небиологическое и его эффектом выступает выживание, а также поскольку это поведение означено вожаком и понято (представлено) остальными членами коллектива, как обусловленное событиями настоящей реальности, постольку подобное поведение можно считать «прасоциальным».
В целом логика перехода и формирования человека в этот период была следующая: гоминиды все чаще прибегали к парадоксальному поведения, сигналы вытеснялись знаками, прасоциальное поведение превращалось в социальное, знаковое поведение трансформировало биологию гоминид. Что происходит с гоминидами, вставшими на путь парадоксального и знакового поведения? Они вынуждены адаптироваться к новым условиям, меняться. Выживают лишь те особи, которые начинают ориентироваться не на сигналы и события, а на знаки, те особи, для которых «временное помешательство» на знаковой почве (т.е. воображение и представление) становятся нормой жизни, те, которые научаются работать со знаками (создавать, понимать их смысл и т.д.).
Адаптация к новым условиям резко меняет естественные процессы развития гоминид как биологического вида. Формируются новые типы движений конечностей, новые типы ощущений, новые действия и операции в психике. При этом можно предположить, что биологическая эволюция и становление вида Homo sapiens должны были идти, как и у всех обитателей нашей планеты, то есть под влиянием обычных факторов микроэволюции: естественного отбора, мутаций генов, их комбинации, и т.п. Необходимость адаптировать ся к коммуникации, работать со знаками и орудиями, действовать совместно трансформирует биологическую субстанцию гоминид, создавая на ее основе «существо переходной формы». Это уже не человекообразная обезьяна, но еще и не человек, а особое меняющееся, адаптирующееся существо, претерпевающее метаморфозы. Судя по палеонтологическим исследованиям, к концу четвертичного периода адаптация существ переходной формы заканчивается, т.е. их телесность (физиология, геном, органы тела, внешний облик, действия органов чувств) теперь полностью отвечает коммуникации, требованиям совместной деятельности, знаковому поведению (эту телесность я и назвал антропобиологической организацией). Поведение «переходных существ» (теперь больше похожих на людей) становится полностью знаковым и социальным (Розин, 2019).
На основе понятия антропобиологической организации я, в частности, вводил принцип «психосоматического единства» (одно из решений психофизиологической проблемы). В соответствии с этим принципом всякий психический процесс требует своего соматического (физиологического) обеспечения (поддержки), и наоборот, соматический процесс не может развернуться, если он не поддержан на уровне психики с помощью определенных психических процессов, напряжений и событий (Розин, 1997. с. 171). Сделаю отступление и расскажу, каким образом я использовал этот принцип для объяснения гомеопатического лечения.
«Возьмем из «Гомеопатического вестника» статью Дмитрия Храмова об эффективном лечении простуды детей (Храмов, 2004). Соматические процессы известны – переохлаждение, температура, часто (но не всегда) насморк, кашель, обложенный язык, воспаленное горло и прочее. Заболевание как простуда на психологическом уровне должно быть поддержано таким процессами, как головная боль, отсутствие аппетита, слабость, тот же кашель (как психологическая реакция), затрудненное дыхание, боль в горле, и т.п. Запуская соответствующие психологические процессы, простуда как соматический процесс (процессы), как бы, информирует психику.
Если принцип психосоматического единства верен, то понятно, что реакция от действия гомеопатического лекарства тоже должна быть поддержана на психологическом уровне. Тем самым гомеопатическое лекарство, как бы, информирует психику. Продумаем теперь, что происходит, когда психологическая поддержка гомеопатической реакции по симптоматике совпадает с симптоматикой заболевания. В этом случае, как я предполагаю и специально разбирал на материале акупунктурного лечения алкогольной зависимости, бо лее сильное соматическое воздействие гомеопатического лекарства перетягивает на себя психологическую поддержку (Розин, 1997, с. 170-171). Дело в том, что наша психика может поддерживать только один четко выраженный «пакет соматических процессов». Именно поэтому, как показывает Ганеман, при одновременном развитии двух несходных заболеваний, «заболевание, которым вначале страдал пациент, как более слабое, будет с наступлением более сильного отстранено и подавлено до тех пор, пока последнее не завершит цикл сво его развития или будет вылечено, и тогда старое заболевание проявится вновь неизлеченным» (Ганиман, 1992. с. 61-62).
В данном случае процессы тоже несходные (естественное заболевание и реакция от гомеопатического лекарства), и соматическая основа у них общая (сходство симптомов). В результате теоретически возможны три случая: интерференция обоих процессов, их интеграция и усиление, наконец, вытеснение одного другим. Как я показываю, в случае акупунктурного и, вероятно, гомеопатического воздействия чаще всего имеет место третий случай (Розин, 1997. с. 171). Вообще же в человеческом организме, особенно старом, наблюдаются все три случая: как часто одни процессы усиливают другие (пришла беда – открывай ворота), накладываются друг на друга, вытесняют друг друга, и все это на фоне действия системных процессов; поэтому часто болезни сами собой, без всякого лечения проходят, но и появляются вновь.
Итак, при гомеопатическом лечении соматические процессы, образующие соматическую основу заболевания, лишаются психологической поддержки. Что это означает? Наверное, то, что они не могут более свободно протекать, реализовываться, а больной должен выздороветь?
Вряд ли. Во-первых, заболевание также, как и выздоровление – системные процессы (реакции) организма как целого. Уж если они начались, то идут сами собой, но при определенных условиях. Во-вторых, процесс выздоровления автоматически не запускается блокированием психологической поддержки процесса заболевания. Его еще нужно запустить и поддержать как на соматическом, так и психическом уровнях. Что мы и наблюдаем в реальности. Врач прописывает пациенту больничный режим (в данном случае тепло, которое было растрачено при переохлаждении, постель, специальное питание) и внушает ему, что лечение началось и скоро он поправится. Лишенный психологи ческой поддержки системный процесс заболевания начинает блокироваться, а на его место постепенно встает другой системный процесс (выздоровления), поддержанный на обоих уровнях. Интересно, что и в психотерапии можно наблюдать сходную закономерность: с одной стороны, нужно блокировать психическое заболевание, с другой – запустить и поддержать процесс выздоровления. При этом если методы блокирования в психотерапии, вообще-то, похожие (психолог уклоняется от общения на темы заболевания и старается перевести интерес больного на нормальную жизнь), то способы запуска и под держки выздоровления достаточно сложные и разные. Например, Г. Назлоян решает эту задачу методом портретирования своих пациентов, а П. Волков – подсовыванием им стратегии «троянского коня» (Розин, 2005. с. 234-255).
Теперь вторая трансмутация ‒ становление на основе первой трансмутации «архаической культуры». Здесь большую роль сыграли «семиотические схемы» (дальше, просто «схемы»), позволившие создать особую форму социальной жизни (назовем ее условно «антропосоциальной»). Например, архаическая культура была «построена» (естественно бессознательно) на основе трех типов схем: схем, описывающих уникальные ситуации (например, затмение), схемы «души» и схемы «архе». «На языке тупи, ‒ пишет Э. Тейлор, ‒ солнечное затмение выражается словами: “ягуар съел солнце”. Полный смысл этой фразы до сих пор подтверждается некоторыми племенами тем, что они стреляют горящими стрелами, чтобы отогнать свирепого зверя от его добычи. На северном материке некоторые дикари верили также в огромную пожирающую солнце собаку, а другие пускали стрелы в небо для защиты своих светил от воображаемых врагов, нападавших на них. Но рядом с этими преобладающими понятиями существуют еще и другие. Караибы, например, представляли себе затмившуюся луну голодной, больной или умирающей… Гуроны считали луну больной и совершали свое обычное шаривари со стрельбой и воем собак для ее исцеления» (Тейлор, 1939. с. 228).
Здесь нарратив «ягуар съел солнце» в рамках определенной реконструкции — пример схемы. Реконструкция схемы предполагает: «выделение проблемной ситуации» (в данном случае, страх перед затмением, непонимание, что происходит и что делать); описание «семиотического изобретения» (нарратива «ягуар съел солнце»), позволяющего эту проблему разрешить; характеристика «реальности», заданной схемой (ягуара, питающегося небесными светилами); создание условий для «нового действия» (заставляем ягуара отпустить солнце). То есть схема ‒ это не просто семиотическое построение, а структура, реконструируемая в соответствии с указанной логикой (Розин, 2011).
А вот один из вариантов архаического представления о душе: она понималась как живое существо, имеющее дом (тело человека), способное, как птица, выходить из него или входить в него; соответственно, смысл смерти понимался как уход души из тела человека навсегда, болезнь ‒ как временный выход, сновидение ‒ как путешествие души во время сна, наскальные изображения людей и животных ‒ как визуальное явления душ зрителям. Но были другие схемы и истолкования души, все зависело от проблем, которые нужно было разрешить (схемы, как я показываю, изобретаются и вводятся именно для разрешения «проблемных ситуаций»), условий жизни социальных коллективов (племен, родов), изобретательности шаманов и вождей.
Если первоначально схема души использовалась для разрешения указанных здесь, так сказать, антропологических проблем (понимание смерти, болезни, сновидений¸ наскальных изображений), то в дальнейшем эта схема со схемой архе (мы переводим как «начало», источник происхождения) стала ис пользоваться для разрешения еще трех типов проблем: для понимания природных стихий («жизни» солнца, луны, ветра, земли, и пр.), социальной жизни (рождение, смерть, брачные отношения, охота, и т.п.) и, как бы мы сказали сегодня, понимания событий, относящихся к воспроизводству культуры (обучение молодых членов коллектива, правила и обычаи).
Именно на основе этих трех типов схем и связанных с ними смыслов и техник (ритуалы, коллективные действия) и складывается архаическая культура как форма и организм антропосоциальной жизни. Отдельные социальные организмы архаической культуры отвечали уровню развития человека того времени и уникальным особенностям жизни социальных коллективов (климат, состав людей, условия для охоты, и пр.). И то и другое не совпадало в отдельных регионах Земли, поэтому и вариантов архаической культуры было много.
АРГУМЕНТЫ В ПОДДЕРЖКУ ПОЗИЦИИ ДУБРОВСКОГО
Давид Израилевич правильно утверждает, что если бы дети были слепоглухими от самого рождения, то их не удалось бы сделать нормальными людьми, поскольку не на что было бы опираться в плане биологических предпосылок (оснований). О том же пишут С.А. Сироткин (один из четверых слепоглухих выпускников МГУ) и Э.К. Шакенова. «Тотально слепоглухорожденные ‒ явление крайне редкое. Современные исследования показывают, что у таких слепоглухонемых обычно имеется врожденная органическая и мозговая патология; следовательно, их обучение и воспитание до высших форм человеческой психики вряд ли вообще возможно… Поэтому неправомерно категорически отвергать роль биологического и генетического факторов в психическом развитии человека, рассматривая слепоглухонемоту как средство доказательства всесильности социального фактора ‒ фактора педагогического воздействия ‒ в споре о соотношении социального и природного в развитии человека» (Слепоглухонемота, 2018. с. 55).
Со своей стороны, добавлю, что у тотально слепоглухорожденных антропобиологическая организация существует только на уровне генома; в плане, обеспечивающем семиотическое и социальное поведение, подобная организация сложиться не может, главным образом, в силу невозможности нормального общения и действия зрения и слуха. Чтобы это стало понятнее, рассмотрим два варианта развития человека: первый, когда он овладевает речью и общением, и только потом слепнет и глохнет, и второй, когда ребенок является слепоглухим от самого рождения. В первом случае у ребенка формируются смыслы и элементы опыта в психике, сложившиеся в общении с родителями и взрослыми. Здесь также большую роль играют семиотические схемы, позволяющие понять, что происходит, и начать видеть соответствующую реальность. Вот примеры из книги К. Чуковского «От двух до пяти».
«Машенька о радио:
- А как же туда дяди и тети с музыкой влезли? И о телефоне:
- Папа, когда я с тобой говорила по телефону, как же ты туда, в трубочку, забрался?»
Здесь схема такая: в радио и телефоне сидят люди, поэтому голоса и музыка.
«Моя шестилетняя Туська, ‒ пишет мне С.А. Богданович, ‒ увидела беременную и стала смеяться:
- У-у, какой живот! Я говорю ей:
- Не смейся над тетей: у нее в животе ребеночек.
Туська с ужасом:
- Съела ребенка?!»
Схема ‒ «съела ребенка», вот почему такой живот.
Теперь схемы второго типа, объясняющие не только, что происходит, но и что делать в трудных ситуациях.
«Гуляя с теткой по улице, мальчик двух с половиною лет останавливается у книжного киоска.
Продавец спрашивает:
- Умеешь читать?
- Умею.
Мальчику дают книгу:
- Читай.
Он, подражая бабушке, хватается внезапно за карман:
- Я забыл дома очки».
В данном случае схема: «Я забыл дома очки». И не стоит думать, что ребенок врет, он создает реальность, позволяющую уклониться от чтения.
«Папа, да сруби ты, пожалуйста, эту сосну... Она делает ветер; а если ты срубишь ее, станет тихо, и я пойду гулять».
Схема типичная, в том числе и для аборигенов: «деревья делают ветер». С одной стороны, она объясняет, почему деревья качаются (они машут верхушками, прогоняя ветер), с другой ‒ понятно, что делать: надо остановить деревья).
«Леночка Люляева попросила у бабушки китайский сервиз.
- Когда будешь выходить замуж ‒ подарю. Леночка сейчас же к отцу:
- Папочка, дорогой, давай с тобой поженимся, и тогда у нас будет китайский сервиз».
Схема понятная: «папа ‒ это потенциальный муж, а Леночка ‒ жена» (Чуковский, 2001).
Нетрудно заметить, что в детском дискурсе сходятся верные знания, полученные ребенком из опыта или от взрослых, и знания, которые он получает на схемах. Схема же строится таким образом, чтобы стало понятно, и ребенок смог себя реализовать. Схема может быть удачной, работающей, и неудачной, неработающей. Кроме того, нужно учесть, что взрослые заинтересованы, чтобы ребенок усваивал не любые схемы, а правильные, например, начал бы понимать, что ветер качает деревья, а не наоборот. В этом смысле взрослые способствуют усвоению таких схем, которые могут работать и как модели.
На основе общения и схем в психике детей складываются и соответствующие смыслы, а также элементы опыта, что ярко проявляется, например, в сновидениях. Детям вполне могут присниться: и радио, и папа, залезший в телефон, и ребенок в животе, и забытые очки, и деревья, погоняющие ветер. Присниться ярко, натурально, хотя они спят, ничего в данный момент не слышат и не видят. Другими словами, во сне актуализируются определенные элементы психического опыта (см. авторскую теорию сновидений (Розин, 2011), сложившиеся в период бодрствования.
Позднейшая потеря слуха и зрения не означает исчезновение сложившихся смыслов и элементов психического опыта. На них и начинают опираться тифлосурдопедагоги, изыскивая обходные пути (тактильные, изобретая новые графические схемы), чтобы добраться до сохранившихся смыслов и элементов опыта, актуализировать их и дальше на их основе создавать новые. А на что они могут опереться у тотально слепоглухорожденных? Только на геном, который представляет собой чисто биологическую структуру. Но как до него добраться и каким образом его задействовать, ведь ребенок не видит и не слышит? Сегодня, после расшифровки генома, правда, добраться можно, но заставить геном определять нужное поведение все равно невозможно. Тактильные контакты и общение для решения этой задачи явно недостаточны.
Стоит остановиться и на роли общения. «Еще в 20-е годы, ‒ пишут Сироткин и Шакенова, ‒ Л.С. Выготский прозорливо заметил, что специальная школа «создает отрезанный и замкнутый мирок, в котором все приноровлено и приспособлено к дефекту ребенка, все фиксирует его внимание на телесном недостатке и не вводит его в настоящую жизнь». Наша специальная школа вместо того, чтобы выводить ребенка из изолированного мира, обычно развивает в этом ребенке навыки, которые ведут его к еще большей изолированности и усиливают его сепаратизм» (Выготский, 1983. с. 50). С этой точки зрения следует критически отнестись к статусу строящегося в Загорске комплекса для слепоглухих, в котором явно воплощается глубоко порочная идея
«городка слепоглухих», чреватая опасностью воспроизведения старых и новых противоречий (в частности, расширения жестовой среды, иждивенческих настроений с соответствующей идеологией инвалидов) … Комплекс должен быть учебно-реабилитационным центром для слепоглухонемых детей и взрослых, с текучим контингентом. Кроме того, необходимо изыскивать возможности и формы совместного воспитания слепоглухих и зрячеслышащих детей, их общения и сотрудничества, создания сети групп слепоглухих в других учебных заведениях, формы организации труда и жизни взрослых слепоглухих среди людей с нормальной сенсорикой» (Слепоглухонемота, 2018. с. 146-147). Действительно, правильные смыслы, обеспечивающие эффективную жизнь в реальной жизненной среде, могут складываться только там, где слепоглухие могут общаться с обычными детьми и взрослыми.
Интересно, что подобную же стратегию общения с нормальными людьми предложил психотерапевт Павел Волков для выведения из шизофренического мира клиентов, вполне здоровых в плане зрения и слуха. Слепоглухие находятся в замкнутом ограниченном мире в силу болезни, а шизофреники ‒ в силу собственных мыслительных построений. Один из способов выведения их из этого мира ‒ общение с нормальными людьми. Вот пример.
Пациентку Волкова звали Света. «Уже в детстве, ‒ восстановил генезис ее заболевания Павел, ‒ отличалась своеобразием. Любимица матери, баловница, прелестная, с белокурыми красиво вьющимися волосами, милая, но с характером. Много читала, не стремилась в веселый и бездумный коллектив сверстников. Еще маленькая жила по своим принципам, требуя их признания у окружающих… С детства чувствовала свою исключительность, особенность…».
И вот она вышла из узкого семейного мирка в клокочущий большой мир. Хочется сказать свое слово, занять место в обществе в соответствии со своим «природным аристократизмом». В душе все чаще возникает чувство неподатливости мира, некоего сопротивления ее мечтам и желаниям. В мире обнаруживается что-то бездушное, холодное. Мир оказывается конъюктурным, пошлым, безразличным к ее тонкости и богатству самовыражения…
(Света, подобно детям у Чуковского, создает схему, позволяющую понять происходящее, она открывает, что существуют два типа людей – «удачники» и «неудачники». – В.Р.). Неудачник отличается патологической неспособностью приспосабливать свое «я» к чему-то выгодному, но антипатичному духовно. Удачник же, как раз наоборот, обладает этим наиважнейшим для жизни «талантом». Жизнеспособные приспособленцы добиваются успеха, а тот, кто ищет истину, должен уступить им место. Постепенно к людям, достигшим успеха, у Светы начинает формироваться воинственно-отрицательное отношение: ведь их успех стоит на костях неудачников, людей истинных…
Внутреннее отношение Светы к удачнику становится все агрессивней. Все больше и больше в отношениях с людьми дают о себе знать спрятанные, но готовые к нападению «клыки»… Больная до сих пор не знает, кто конкретно ее преследователи, многое неясно, но все-таки ей кажется, что «ситуация» связана с ее отношениями с удачниками. Наверное, им стало неприятно, когда она, неудачник по духу, вдруг добилась успехов и при этом не утратила своей индивидуальности, свободы. Видя, что неудачник выбился в удачники, кто-то не смог этого допустить и нанес ей сокрушительный удар. (Волков, 2000. с. 470-473).
В ответ на заговор удачников Света принимает контрмеры: начинает скрывать свои чувства и мысли, перестает общаться с окружающими. В свете нового понимания событий она пересматривает свою жизнь и убеждается, что да, дей ствительно, ей всегда завидовали удачники, а все ее проблемы на самом деле были связаны не с нею, а с кознями удачников. С каждым днем Света все яснее ощущала заговор, видела, как он растет, становится все более изощренным, уже близких людей, и поэтому все активнее она возводила стену между собой и людьми. Она принимает решение уйти с работы, перестает доверять своим близким. Заговорщики все больше лишают ее свободы, Света все больше изолирует от людей свою жизнь. Тогда удачники наносят ей окончательный удар: ее помещают в психиатрическую больницу. Света отчаянно сопротивляется, но снова и снова попадает в психушку.
Что же предложил ей Волков. «В обобщенном виде, ‒ рассказывает он, ‒ то, что я пытался донести до Светы, звучит примерно так: «Я знаю, что ваши действия понятны, но кому? Вам и мне. А окружающим? Согласитесь, что окружающие видят лишь ваше внешнее поведение, оценивают его стандартной меркой, по которой оно получается ненормальным…Для госпитализации нужен повод, и вы его давали…у вас есть выбор: либо продолжать жить по-прежнему и с прежними последствиями, либо вести себя, не нарушая писанных и неписанных договоров, тем самым избегая больниц…
Нельзя обменяться душами и личным опытом. У нас есть вариант. Первый: каждый старается доказать свою правоту, при этом никакая правда не торжествует, и между нами – конфликт. Второй: каждый соглашается, что все имеют право на свою правду и свой миф, при этом в глубине души считает правым себя, но в реальных отношениях корректен и строит эти отношения не на расхождениях, а на сходстве. Если люди не хотят конфликта, они должны строить свои отношения на общих или нейтральных точках соприкосновения, не претендуя на общепринятость своих мифов» (Там же. с.492-496).
Важными моментами помощи и исцеления Светы были также общение ее с Павлом, поддержка, культивирование всех положительных аспектов жизни. Чтобы пройти сквозь психоз, отмечает П. Волков, «нужно иметь направление и ориентир, нужно иметь непсихотические ценности и смыслы, которые сохраняются даже на высоте психоза. У моей больной такие ценности есть. Дочь Оля, работа, собственное творчество. Смысл, освещая жизнь, гонит вместе с душевным мраком все привидения» (Там же. с. 498).
«С началом нашей работы, ‒ пишет П. Волков, ‒ больная уже не попадает в больницы, через год снимает инвалидность и возобновляет работу по специальности ассистента режиссера, резко сокращает прием психотропных средств. В дальнейшем отмечается несколько тяжелых психотических обострений, но благодаря нашему контакту даже в эти периоды удается обойтись без госпитализаций и, продолжая работу, переносить обострения при минимуме лекарств… Успех психотерапии, быстро приведший к неожиданной социальной реабилитации, удивил всех, кто близко знал больную. Да и как не удив ляться, если психиатры считали Свету безнадежной. Например: “Да она же в доску сумасшедшая! Я ее отлично помню по предыдущему ВТЭКу, она там та кое несла”, – сказал по поводу нее председатель ВТЭКа» (Там же. с. 456, 478). Возможно, есть общие подходы к выведению человека из замкнутого мира, в который он попадает либо из-за болезни, либо из-за неправильных установок своего сознания. К их числу относятся как опора на социальные основания (среда жизнедеятельности, общение, воспитание, и пр.), так и на антропобиологические предпосылки (учет генетических предпосылок, нарушений здоровья, характер сил, энергии, эмоционального настроя, переживаний, и др.).
Об авторах
Вадим Маркович Розин
Институт философии Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: rozinvm@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-4025-2734
доктор философских наук, главный научный сотрудник
Россия, МоскваСписок литературы
- Вместо собак: успешный советский эксперимент по одомашниванию лисиц [Электронный ресурс] // 2022. URL: https://dzen.ru/a/YulIO3mBQhk1G02F (дата обращения: 01.01.2024).
- Волков П. Разнообразие человеческих миров: руководство по профилактике душевных расстройств: основы и нюансы характерологии, психология душевных болезней, поиск взаимопонимания и психотерапия. – М: Аграф, 2000. – 525с.
- Выготский Л.С. Собр. соч. в 6 т. Т 5. Основы дефектологии. – М.: Педагогика, 1983. – 369с.
- Дубровский Д.И. Еще раз о феномене слепоглухоты: исторические, философские вопросы и факты фальсификации // Слепоглухонемота: историче ские и методологические аспекты. Мифы и реальность. Изд. второе. – М.: Изд-во Интелл, 2018. – 5-35с.
- Ганеман С. Органон врачебного искусства. – М., 1992.
- Одомашненная серебристая лисица https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5fe69dba-6596e41b-cfa5b71e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Domesticated_silver_fox. 2022.
- Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. – СПб: Алетейя, 2007. – 714с.
- Розин В.М. Возобновление методологии: Открытые письма, адресованные последователям Московского методологического кружка / Предисл. В.Л. Даниловой. – М.: ЛЕНАНД, 2017. – 384с.
- Розин В.М. Техника и технология: от каменных орудий до Интернета и роботов. – Йошкар-Ола, ПГТУ, 2016. – 280с.
- Розин В.М. Человек культурный: Введение в антропологию URSS. 2019. – 240с.
- Розин В.М. Анализ метода Яценко, позволяющего оперативно снимать алкогольную зависимость // Мир психологии. 1997. – № 1.
- Розин В.М. Психология: наука и практика. – М., 2005.
- Розин В.М. Введение в схемологию: схемы в философии, культуре, науке, проектировании. – М.: URSS, 2011. – 256с.
- Розин В.М. Учение о сновидениях и психических реальностей ‒ одно из условий психологической интерпретации искусства \ Розин Природа и генезис европейского искусства (философский и культурно-исторический анализ). ИФРАН. – М.: Голос, 2011. – 350-397с.
- Слепоглухонемота: исторические и методологические аспекты. Мифы и реальность. Изд. второе. – М.: ИИнтелл, 2018. – 194с.
- Тейлор Э. Первобытная культура. – М.: Соцэкгиз, 1939. – 602c.
- Храмов Д. Записки начинающего гомеопата // Гомеопатический вестник. 2004. – № 11.
- Чуковский К. Собрание сочинений в 15 т. Т. 2: – От двух до пяти. – М., Терра - Книжный клуб, 2001. – 638с.
- Jason Bittel. Tame foxes taught us about animal domestication. But did we get the story wrong? (англ.). The Washington Post (3 декабря 2019). Дата обращения: 8 августа 2020. Архивировано 19 августа 2020 года.
Дополнительные файлы