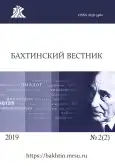Mikhail Bakhtin’s Heritage in the Contemporary Translation Studies: Intertextual correspondences as a problem of literary translation
- 作者: Denissova G.V.1,2
-
隶属关系:
- Pisa State University
- Lomonosov Moscow State University
- 期: 卷 1, 编号 2 (2019)
- 页面: 5-10
- 栏目: Theoretical research
- ##submission.dateSubmitted##: 19.09.2024
- ##submission.dateAccepted##: 19.09.2024
- ##submission.datePublished##: 15.12.2019
- URL: https://bakhtiniada.ru/2658-5480/article/view/264145
- ID: 264145
如何引用文章
全文:
详细
The present paper discusses some theoretical and practical problems of intertextuality as a specific textual category for the theory and practice of translation and factors that influence the comprehension of intertextual elements. The author is going to show that the translation strategies are aimed at generating a specific intertextual «third» space to facilitate in- tercultural communication. Material for the study has been supplied by the translations of Russian Literature into Italian and Italian Literature into Russian.
全文:
Несмотря на то что М.М. Бахтин в своей концепции специально не затрагивает вопросов перевода, его идеи по проблематике текста как высказывания необычайно важны для современного переводоведения. В частности, очень важна мысль ученого, что «прошлые смыслы» никогда не могут быть раз и навсегда конечными, они всегда будут меняться, обогащаясь новыми смыслами в ходе будущего развития диалога, при этом «в любой момент… они снова вспомнятся и оживут в обновленном (в новом контексте) виде» [1, с. 434–435].
Понимание перевода как интерлингвистического феномена в современной теории перевода сменилось его рассмотрением в качестве феномена интертекстуального. Особое внимание стало уделяться социальной и культурологической функциям переводческой деятельности [16, с. 110], а также той роли, которую играет переводной текст, вводя формальные и тематические новшества в принимающую культуру [12, с. 225].
Говоря о возможностях и способах передачи интертекстуальных знаков в «другую» лингвокультуру, необходимо исходить из того, что сама культура интертекстуальна, и переводческий процесс основывается на выявлении межтекстовых отношений как в рамках одной культуры, так и в межкультурном общении.
Традиционно при передаче интертекстуальных знаков в художественном переводе выбирается либо стратегия адаптации, либо метод «отчуждения», которые восходят к идеям Ф. Шлейермахера и были подробно описаны Л. Венути («domestication»/«foreignization» в терминологии последнего [19]).
В истории русской переводной литературы М.Л. Гаспаров выделяет пять периодов: XVIII в. (первый период) – эпоха вольного перевода, «склонявшего на русские нравы» как содержание, так и форму иностранных литературных произведений. Романтизм (второй период) – время точных переводов. Реализм XIX в. (третий период) – эпоха вольного, «приспособительного», перевода. Модернизм начала XX в. (четвертый период) – возвращение к программе точного перевода, ставящего целью обогатить привычки читателя применительно к иностранной литературе (все современники В.Я. Брюсова в поэзии от К.Д. Бальмонта до М.Л. Лозинского). Наконец, советский период (пятый) – реакция на буквализм со спросом на традиционные ценности русской культуры [3]. К выделенным М.Л. Гаспаровым периодам следует добавить еще один – период послеперестроечный. Б.В. Дубин рассматривает его как прямое следствие предыдущего: «В этом смысле сегодняшняя ситуация – не вывих, а прямой результат всей вчерашней системы, ее многолетней и ежедневной работы. Если ограничивать культуру задачами Наробраза, Минкульта и Госкомиздата, ничего другого и не получится. Последний реликт просвещенческой идеологии под нашими небесами, тогдашний расчет всех этих служб на читателя-дурака, которому-де нужно “попроще”, который, мол, “не поймет” и т. д., дал свои плоды, и винить тут, кроме себя, некого. Тот читатель вырос. Сегодня он взялся за перо» [6, с. 295].
Предложенная периодизация в целом соответствует этапам развития образования с чередованием распространения культуры «вширь» или «вглубь». «Вширь» означает, что культура захватывает новый слой общества быстро, в упрощенных формах, как общее знакомство, а не внутреннее усвоение. «Вглубь» подразумевает, что углубленное знакомство с культурой, ее усвоение творческое, а проявления более сложные [3, с. 129].
Основополагающим, таким образом, становится определение адресата переводного произведения. Перевод буквалистский ориентируется на узкий круг читателей и призван максимально точно воспроизводить особенности лингвокультуры исходного текста (примером может служить перевод В.В. Набокова на английский язык «Евгения Онегина»). В этом случае передача интертекстуальных знаков связана с их научным комментированием и имеет много общего с критическим изданием произведения.
Вопреки сложившемуся предопределению по отношению к термину «буквализм», М.Л. Гаспаров разрабатывает и использует его как научное понятие: «Буквализм – не бранное слово, а содержательное научное понятие. Перевод есть всегда равнодействующая между двумя крайностями – насилием над традициями своей литературы в угоду подлиннику и насилием над подлинником в угоду традициям своей литературы. Насилие первого рода обычно и называется буквализмом; насилие второго рода иногда пытается именоваться творческим переводом. <...> “Буквалистский” еще не значит “плохой”, “творческий” еще не значит “хороший”» [3, с. 126–127].
«Буквализм» видится М.Л. Гаспаровым как искусство взаимопонимания между людьми и общественными группами, как диалог, ведущий к образованию общего поля и к расширению возможности понимания другого как особой формы постижения мира, что перекликается с основными положениями философской герменевтики Х.-Г. Гадамера [2, с. 48; см. также: 18, с. 167].
Распространение культуры «вширь» в терминах теории перевода предполагает адаптацию исходного текста к семиотическому универсуму принимающей культуры, что предусматривает сокращение культурной дистанции и облегчение понимания исходного текста получателем. В данном случае передача интертекста имеет целью воссоздание новых интертекстуальных отношений, поскольку предполагается, что перевод функционирует в принимающей культуре в качестве самостоятельного произведения.
Попытка построения универсальной модели передачи интертекстуальных элементов была предпринята П. Торопом, который предложил включать в теоретический проект перевода следующие параметры: поэтику интертекста как системы разных типов представленности «чужих» текстов в творчестве переводимого писателя; поэтику интертекста как комбинации нескольких интертекстов; поэтику «своего-чужого», рассматриваемую на универсальном, национальном (социальном), индивидуальном (психологическом) уровнях; по- этику источников в том случае, если переводимый писатель строит иерархию «чужих» текстов [8, с. 138–142]. Исходя из того, что интертекстуальность поддается анализу как интертекстуальный семиозис, для передачи интертекстуальных элементов Тороп предложил два основных способа – «перекодировку» и «транспонирование»: доминантой перевода перекодирующего типа объявляется план выражения; доминантой транспонирующего перевода – план содержания [17, с. 345–362].
Схематично интертекстуальные трансформации при переводе могут быть представлены следующим образом: 1) притом что некая универсальная интертекстуальная энциклопедия требует разработки, в культурах может быть зафиксирован один и тот же интертекстуальный феномен (при этом важным оказывается степень тождественности восприятия интертекста); 2) одно и то же значение выражается в культурах при помощи разных интертекстов (при этом важным оказывается степень тождественности значения интертекста); 3) в одной из сопоставляемых культур эквивалентного по значению и по функционированию интертекста не существует (ниша интертекста существует, но не занята). На основе сказанного с теоретической точки зрения типология интертекстуальных переводных эквиваленций может быть представлена конгруэнтным переводом, когда интертекст присутствует одновременно в нескольких лингвокультурах: обычно это относится к интертекстам, входящим в универсальную энциклопедию (модель «КОНГР»); дивергентным переводом, при котором интертекст одной лингвокультуры передается в рамки другой лингвокультуры интертекстом, представляющим собой функционально-адекватный переводной эквивалент (модель «ДИВЕРГ»); дословным переводом (модель «ДОСЛ»), когда интертекст иноязычной культуры вводится в принимающую культуру с целью ее развития «вглубь»; описательным переводом (модель «ZERO»): интертекст при переводе утрачивается.
Модель «КОНГР» предполагает фиксацию отличий исходной культуры от культуры принимающей, которые могут объясняться в предисловии, послесловии или в примечаниях переводчика. Эта модель нашла широкое распространение в переводческой практике при передаче интертекстуальных знаков по схеме «дословный перевод + комментарий». В результате реализации этой модели, однако, маркированная как «чужое слово» часть текста превращается в нейтральный фон, что ведет к утрате семантической емкости высказывания и к отказу от диалектической игры, лежащей в основе функционирования интертекста.
Отчасти преодолеть, но не полностью аннулировать дистанцию между исходной культурой и культурой принимающей позволяет использование модели «КОНГР» с приемом компенсации. Например, в следующем отрывке из «Комромисса» С.Д. Довлатова содержится аллюзия на «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского:
«Люди начинали анализировать свое поведение. Лихорадочно придумывая спасительные ходы. Путаться в нагромождении бессмысленных уловок. Мучительно ожидание превращало их в дрожащих тварей. Этого-то генерал и дожидался» [5, с. 293].
В первом переводе «Компромисса» С.Д. Довлатова на итальянский язык, вышедшем в издательстве «Sellerio» в 1996 г., знаменитое выражение Раскольникова Л. Сальмон передала дословно (модель «КОНГР»):
«Cominciavano ad analizzare il proprio comportamento. A pensare febbrilmente a una mossa che potesse salvarli. A perdersi in un ammasso di sotterfugi insensati. La tormentosa attesa li trasformava in creature tremebonde. E queste erano le intenzioni del generale» [13, с. 166].
В переиздании же перевода при передаче интертекста прослеживается прием компенсации с целью его экспликации:
«Cominciavano ad analizzare il proprio comportamento. A pensare febbrilmente a una mossa che potesse salvarli. A perdersi in un ammasso di sotterfugi insensati. La tormentosa attesa li trasformava in personaggi da delitto e castigo (героев преступления и наказания. – Г.Д.). E queste erano le intenzioni del generale» [14, с. 192].
Наиболее дискуссионной представляется модель «ДИВЕРГ». Ее сторонником был У. Эко, который настаивал на замене адекватно-функциональным эквивалентом принимающей культуры широко известных в рамках исходной культуры интертекстуальных знаков. Например, в «Открытом письме переводчикам “Острова накануне”» писатель выразил следующее пожелание: «Я воспроизвел репертуар выражений европейского барокко <...> Важно одно – чтобы в собственной литературе вы нашли вдохновение для того, чтоб писать в стиле барокко» [9, с. 486].
Иллюстрацией модели «ДИВЕРГ», в основе которой лежит стратегии адаптации, может служить, например, следующий отрывок из перевода на русский язык «Маятника Фуко». Исходный текст содержит аллюзию на строчки из философского стихотворения итальянского поэта Дж. Леопарди «L’infinito» (1819) («Бесконечность»), которые являются сильным интертекстом для итальянской лингвокультуры1:
«Ma tra picco e picco si aprivano orizzonti interminati – al di là della siepe, come osservava Diotallevi, verbalizzando giudiziosamente le nostre scoperte» [11, с. 355].
Интертекст «al di là della siepe» (известная для итальянского читателя строчка «Изгородь, отнявшая у взгляда...») в переводе Е.А. Костюкович на русский язык заменяется на «прекрасное далеко», восходящее к рефрену из песни Е.П. Крылатова из фильма «Гостья из будущего», которое в данном контексте функционирует как псевдоинтертекст, создавая ассоциацию с поэтическим восприятием мира вообще:
«Дали между пиками казались неизмеримыми – прекрасное далеко, подытожил Диоталлеви, умевший находить формулировки для наших общих тем» [10, с. 397].
Интересную стратегию, объединяющую модели «КОНГР» и «ДИВЕРГ», описывает М.Л. Гаспаров [4, с. 322–323], анализируя собственный опыт работы над переводом центонов Авсония. Поскольку художественный эффект центонов построен на том, что одно и то же полустишие в новом контексте воспринималось римским читателем на фоне воспоминаний о старом контексте, предлагается переводить по несколько строчек из Вергилия к каждому полустишию центона с тем, чтобы полустишие звучало так же, но означало нечто иное. Описанная стратегия направлена на помощь читателю, но не в виде примечания или компенсации, а как намек, приглашающий к размышлению.
Mодель «ZERO» предполагает снятие слишком тесно связанного с определенной культурой интертекста. В своей английской версии автобиографии Набоков, например, жертвует хрестоматийной для русской национальной энциклопедии эксплицитной аллюзией:
«Пора моих онегинских забот длилась недолго, но живо помню, как было приятно открывать существование рубашек с пришитыми воротничками и необязательность подвязок» [7, c. 274].
«By that time my youthful preoccupation with clothes was on the wane, but it did seem rather a lark, after the formal fashions in Russia, to go about in slippers, eschew garters, and wear one’s collar sewn into one’s shirt – a daring innovation in those days» [15, c. 160].
Эта же модель реализуется при передаче в иноязычную лингвокультуру более сложных интертекстуальных явлений. Речь идет прежде всего о гипертекстуальности, понимаемой как пародирование одним текстом другого, при котором задействуются самые разные типы интертекстуальных знаков и связей. Большую сложность для перевода на итальянский язык представляют, например, произведения мастера имитации В.Г. Сорокина по причине базовой для концептуалистов стилистической интертекстуальности, которая в большинстве случаев не имеет эквивалента в принимающей культуре. Тем не менее манипулирование стереотипными ситуациями и расхожими выражениями, призванное раскрыть подсознание общества, достаточно актуально и для современной итальянской литературы, в частности для творчества таких писателей, как А. Нове, Т. Скарпа или Н. Амманнити, получивших название «Каннибалы». Поэтому описываемые в текстах Сорокина ситуации и произносимые в этих ситуациях типичные фразы в полной мере могут передаваться посредством итальянских речевых клише.
Проблему передачи отсутствующих в принимающей культуре стилей обозначил Гаспаров, исследуя сложную задачу создания нового русского стиля для передачи не имеющих аналогов стилей античной литературы. Как на возможность их передачи ученый указывает на необходимость обращения к сложившейся переводческой традиции. В работе, посвящен- ной В.Я. Брюсову как переводчику, Гаспаров отмечает, что титанический эксперимент поэта при переводе Вергилия не пропал даром и что «после него уже нельзя было переводить античный поэтов так, как до него, и пример его повлиял даже на практику таких переводчиков, которые вовсе не склонны к его (Брюсова. – Г.Д.) творческим крайностям» [3, с. 127].
Вопрос о переводческом каноне затрагивается здесь в связи с тем, что его принятие/не-принятие может радикальным образом сказаться при попытке передачи интертекстов, поскольку при обращении к «чужому» слову, заимствованному из уже существующего перевода, делается сознательный шаг в сторону интертекстуальности. Со сложившейся в рамках принимающей культуры переводческой традиции неразрывно связано и понятие поэтической парадигмы, которое в условиях отсутствия предыдущего литературного опыта просто теряет смысл.
С теоретической точки зрения интертекстуальные элементы в художественном переводе следует рассматривать как лингвоспецифичные единицы, которые могут передаваться 1) средствами принимающей лингвокультуры; 2) дословно с комментарием, в результате чего они, как правило, остаются «чуждыми» для принимающей лингвокультуры элементами; 3) дословно и без комментария: в этом случае интертексты переходят в принимающей лингвокультуре в нейтральный пласт и нарушается основной для интертекста критерий его перцептивной и продуктивной маркированности; 4) описательным способом с использованием приема компенсации; 5) путем обращения к сложившемуся в рамках принимающей культуры переводческому канону.
Переводческие стратегии зависят от особенностей исходного текста, ориентирующегося на «образцового читателя», от характера предполагаемого «эмпирического читателя», а также от общего состояния принимающей культуры и имеют целью порождение принципиально нового и непредсказуемого «третьего» интертекстуального пространства, способного в рамках иноязычного культурного сообщества становиться «генератором новых смыслов».
1 «Sempre caro mi fu quest’ermo colle, / E questa siepe, che da tanta parte/Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. / Ma sedendo e mirando, interminati / Spazi di là da quella, e sovrumani / Silenzi, e profondissima quiete/Io nel pensier mi fingo; ove per poco / il cor non si spaura <...>» (G. Leopardi «L’infinito». 1819) [«Всегда был мил мне этот холм пустынный / И изгородь, отнявшая у взгляда / Большую часть по краю горизонта. / Но, сидя здесь и глядя вдаль, пространства / Бескрайние за ними, и молчанье / Неведомое, и покой глубокий / Я представляю в мыслях; оттого / Почти в испуге сердце <...>»; Дж. Леопарди «Бесконечность»; пер. А.А. Ахматовой].
作者简介
Galina Denissova
Pisa State University; Lomonosov Moscow State University
编辑信件的主要联系方式.
Email: galina.denissova@unipi.it
PhD, Associate professor, the Department of Philology, Literature and Linguistics, associate professor, the Faculty of Psychology
意大利, Pisa; Moscow, Russia参考
- Bahtin M.M. Rabochie zapisi 60-h – nachala 70-h godov // Bahtin M.M. Sobranie sochinenij. T. 6. M., 2002. S. 371–438.
- Gadamer H.G. Yazyk i ponimanie. Aktual'nost' prekrasnogo. M.: Iskusstvo, 1991. 368 s.
- Gasparov M.L. O stihah. M.: Yazyki rus. kul'tury, 1997. 504 s.
- Gasparov M.L. Zapisi i vypiski. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2000. 388 s.
- Dovlatov S. Kompromiss // Sobranie prozy v trekh tomah. SPb: Limbus-press, 1993. T. 1. S. 175–324.
- Dubin B.V. Slovo-pis'mo-literatura. M.: Novoe lit. obozr., 2001. 416 s.
- Nabokov V.V. Drugie berega // Sobranie sochinenij: v 4 t. M.: Pravda, 1990. T. IV. S. 133–302.
- Torop P. Total'nyj perevod. Tartu: Tartus. un-t, 1995. 220 s.
- Eko U. Ostrov nakanune. SPb: Simpozium, 1999. 576 s.
- Eko U. Mayatnik Fuko. SPb: Simpozium, 2000. 832 s.
- Eco U. Il pendolo di Foucault. Milano: Bompiani, 1999. 704 r.
- Even-Zohar I. La posizione della letteratura tradotta all’interno del polisistema letterario // Teorie contemporanee della traduzione. Milano: Bompiani, 1995. P. 225–238.
- Dovlatov S. Compromesso. Palermo: Sellerio, 1996. 208 p.
- Dovlatov S. Compromesso. Palermo: Sellerio, 2000. 230 p.
- Nabokov V. Speak, Memory: An Autobiography Revisited. N.Y.: Vintage International, 1989. 158 p.
- Toury G. Comunicazione e traduzione. Un approccio semiotico // Teorie contemporanee della traduzione. Milano: Bompiani, 1995. P. 103–119.
- Torop P. Towards the semiotics of translation // Semiotica. 2000. № 3/4. P. 597–609.
- Vattimo G. Le avventure della differenza. Che cosa significa pensare dopo Nietzsche e Heidegger. Milano: Garzanti, 2001. 201 p.
- Venuti L. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. L.: Routledge, 1995. 246 p.
补充文件