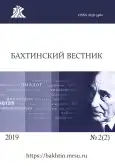“I and the Other” in the early works of Mikhail Bakhtin: a project of ethical literary criticism
- Authors: Zinc A.1
-
Affiliations:
- University of Innsbruck
- Issue: Vol 1, No 2 (2019)
- Pages: 11-14
- Section: Theoretical research
- Submitted: 19.09.2024
- Accepted: 19.09.2024
- Published: 15.12.2019
- URL: https://bakhtiniada.ru/2658-5480/article/view/264146
- ID: 264146
Cite item
Full Text
Abstract
In his early studies, M.M. Bakhtin developed the architectonic of the act, based on two pillars: I and the Other. In literary text, this architectonic is realized in the author’s appeal to his hero, as well as in the interdependence of the heroes. Bakhtin confirmed his philosophical and aesthetic theses on the ex- ample of only a few literary texts. By interpretating a short I.S. Turgenev’s story “Cabbage-soup” author of the article shows how Bakhtin’s early aesthetics can be used in literary criticism, namely in narratology.
Full Text
В одном из своих ранних исследований под названием «Автор и герой в эстетической деятельности» (1924) М.М. Бахтин, в отличие от более поздних своих работ, в том числе хрестоматийного труда «Проблемы творчества Достоевского» (1929), анализирует этически значимое отношение автора к своему герою. Это отношение он объясняет онтологической разницей между Я и Ты, то есть настаивает на абсолютно разных положениях Я и Ты, иными словами, Я и моим визави, Другим.
Уже в сочинении «К философии поступка», работе, написанной между 1918 и 1924 гг. и сохранившейся во фрагментах, Бахтин описывает экзистенциальную базовую ситуацию человека. Более радикальный, в отличие от многих своих современников, но в соответствии с общей этической направленностью философии, в том числе неокантианской теории познания, Бахтин рассматривает конкретного действующего человека как исходную точку своих философских размышлений. Он формулирует постулат об «архитектонике действительного мира поступка» [3, c. 67], в который человек с самого начала впущен, к которому он вынужден приспособиться и которым определяются его действия. Архитектоника, из которой исходит Бахтин, покоится на двух столпах: Я и Другой, из чего вытекают три основных возможных отношения: 1) Я по отношению к самому себе (я-для-себя); 2) Другой, могущий иметь отношение к Я (другой-для-меня); 3) Я, имеющий отношение к Другому, причем это послед- нее отношение (я-для-другого) является решающим для последующих действий [5, c. 49, 50].
Свои размышления об экзистенциальной ситуации человека Бахтин представляет несколько более подробно в работе «Автор и герой в эстетической деятельности». В то время как у Я, как показывает ход аргументации, есть кругозор, то есть Я видит перед собой совершенно открытый мир и потенциально бесконечное будущее, в котором он вынужден ориентироваться, у Другого – из перспективы Я – имеется окружение (он окружен Я). Глядя на Другого, Я может видеть то, что Другому недоступно (спину Другого, если приводить пространственный пример; смерть Другого, если приводить временной пример). Я, в отличие от Другого, снабжено избытком видения [1, c. 95, 104], знанием, но также и специфической эмоциональностью. Следовательно, это отношение не следует понимать как исключительно авторитарное, иерархическое, оно может проявиться и в любви. Бахтин использует образ объятия, чтобы подчеркнуть разницу между Я и Другим. Я всегда обнимаю Другого (Другую), но никогда не самого или саму себя – меня, в свою очередь, тоже обнимают.
Каким же образом художественно-эстетическая деятельность проявляет себя в отношении к архитектонике существования? Каким образом художник воплощает фундаментальное требование неравнодушного действия в жизни? Художественная деятельность, как весьма недвусмысленно отвечает Бахтин в работе «К философии поступка», оправдывает это требование к действию лишь отчасти. Художник действует как бы «вполсилы» или как минимум не напрямую, так как он скрывается за своим произведением, будь то картина или стихотворение. Мастер и его творческий поступок остаются в равной мере вне произведения, поэтому, по Бахтину, мир искусства не связан с миром поступков – Бахтин на этом этапе своего творчества едва ли думает об отношении художника к реципиенту, читателю.
Позиция художника, точнее говоря автора, характеризуется его вненаходимостью, определенным расстоянием от изображаемого. Поначалу Бахтин интерпретирует эту вненаходимость как недостаток, но в работе «Автор и герой…» уже явно подчеркиваются ее положительные стороны. Бахтин оставляет работу над своим проектом «Философия поступка» и вместо этого находит свою настоящую сферу исследования – в области этически обоснованной эстетики. Искусство, особенно художественная литература, служит ему в этом превосходным примером, так как она в состоянии создавать достоверные образы живых людей с их безграничными желаниями и стремлениями, с их заботами и конфликтами, то есть с их собственными кругозорами и поступками. Таким образом, писатель через свою деятельность хоть и не может воплотить архитектонику мира поступков, но может ее сконструировать, создать, представить. И в представлении, в форме произведения, не в последнюю очередь отражается один из ведущих постулатов онтологии Бахтина: отношения между Я и Другим (я-для-другого) как отношение автора к своему герою.
В работе «Автор и герой в эстетической деятельности» Бахтин детальнейшим образом описывает онтологическую разницу между Я и Другим вместе с их этическими импликация- ми; он приводит примеры и уделяет особое внимание феноменам тела и смерти, поскольку тело и смерть возможно зарегистрировать только относительно Другого (другого человека). Свою собственную смерть я не могу осознать, свое тело могу рассмотреть лишь отчасти и только используя вспомогательные средства. Онтологическая разница приносит с собой различные возможности перспектив и ограничений. Они становятся очевидными прежде всего в литературных текстах, так что раннюю эстетику Бахтина можно прочитывать как нарратологию, в которой именно перспектива играет решающую роль. Аргументы Бахтина отличаются от более поздней структуралистской позиции акцентом на оценивающем отношении автора к своим героям; кроме того, Бахтин впервые провозглашает игру перспектив между героями, обмен и конфронтацию фигур-кругозоров.
На примере лирического рассказа «Щи» (1878) из сборника «Стихотворений в прозе» И.С. Тургенева можно как минимум наметить некоторые интерпретационные стратегии, выводимые из ранней эстетики Бахтина. Это небольшое произведение будет процитировано здесь полностью.
«У бабы-вдовы умер ее единственный двадцатилетний сын, первый на селе работник.
Барыня, помещица того самого села, узнав о горе бабы, пошла навестить ее в самый день похорон.
Она застала ее дома.
Стоя посреди избы, перед столом, она, не спеша, ровным движеньем правой руки (левая висела плетью) черпала пустые щи со дна закоптелого горшка и глотала ложку за ложкой.
Лицо бабы осунулось и потемнело; глаза покраснели и опухли... но она держалась истово и прямо, как в церкви.
«Господи! — подумала барыня. — Она может есть в такую минуту... Какие, однако, у них у всех грубые чувства!»
И вспомнила тут барыня, как, потеряв несколько лет тому назад девятимесячную дочь, она с горя отказалась нанять прекрасную дачу под Петербургом и прожила целое лето в городе!
А баба продолжала хлебать щи. Барыня не вытерпела наконец.
Татьяна! — промолвила она. — Помилуй! Я удивляюсь! Неужели ты своего сына не любила? Как у тебя не пропал аппетит? Как можешь ты есть эти щи!
Вася мой помер, — тихо проговорила баба, и наболевшие слезы снова побежали по ее впалым щекам. — Значит, и мой пришел конец: с живой с меня сняли голову. А щам не пропадать же: ведь они посоленные.
Барыня только плечами пожала — и пошла вон. Ей-то соль доставалась дешево» [3, c. 174].
Пожалуй, не может быть сомнения в том, что текст с его заключительным предложением является моральным приговором. Хотя речь идет лишь о цене соли и о невозможности заплатить за нее, барыня – имплицитно – упрекается в отсутствии чуткости к другому человеку. Из экономического положения героинь следует определенный свойственный им кругозор, определенная эмоциональность и специфические ограничения, с которыми каждая из них воспринимает Другого или Другую.
Так, кругозор барыни может быть описан следующим образом: смерть ее ребенка связана для нее с горем; причем слово «горе» особо подчеркнуто посредством повтора в тексте. Для барыни горе выражается в необходимости отказаться от чего-то хорошего («с горя отказалась»): она отвергала поездку на дачу и вместо этого вынуждена была переносить неприятности, то есть «прожила целое лето» в Санкт-Петербурге. Кроме того, по ее представлению, горе сопровождается потерей аппетита. Других реакций на смерть ребенка барыня не знает и не рассматривает их в качестве возможных форм печали: она воспринимает бабу с осуждением, к тому же обобщенным («Какие, однако, у них у всех грубые чувства!»). Ко «всем этим» барыня в любом случае не хочет принадлежать.
В отличие от барыни, баба со смертью сына, как кажется, потеряла все возможные горизонты. Она приводит сравнение со смертной казнью («с живой с меня сняли голову»). Слово «горе» не представляется адекватным для описания ее эмоционального состояния, оно кажется слишком слабым для выражения того, что она переживает. В ее поступках выражается не только любовь к погибшему сыну, которого она ласково называет («Вася мой»), но и любовь и уважение сына к матери. Вася, как мы узнаем в начале текста, был «первым работником на селе»; с экономической точки зрения, он, скорее всего, отвечал за наличие соли в щах, ведь соль в описываемое Тургеневым время являлась ценным, дорогостоящим продуктом. На это обращает наше внимание и последнее предложение в тексте. Работая, Вася приносил деньги, сын и мать могли позволить себе соль, чем значительно улучшалось их питание. Механическое хлебание соленого супа видится в этой связи как последнее доказательство любви матери к сыну и наоборот: сына к матери.
Кругозоры героинь, уже в параллельности их описания различно оцененные, находятся, в свою очередь, «в объятиях автора». Обращает на себя внимание физическая характеристика вдовы: в трогательной манере, используя религиозные мотивы, рассказчик рисует глубокую скорбь матери. Он отмечает ее распухшее лицо, слезы, механические движения. Описание пронизано уважением и сочувствием наблюдателя.
Барыне же рассказчик, напротив, не уделяет никакого внимания. Эта героиня характеризует себя сама – через прямую речь. Несмотря на то, что ее внутренний мир, ее переживания показаны более подробно через несобственно-прямую речь («она... прожила целое лето в городе! А баба продолжала хлебать щи»), это производит неприятное впечатление: барыня вряд ли вызывает симпатию читателя. Техника персонального повествования, которая, как правило, ближе знакомит нас с героями, не может оставить незамеченным содержание – высокомерие барыни. Ее основная черта – эгоизм, она живет по принципу «я-для-себя». За это однобокое мировосприятие автор особо упрекает ее в конце текста. Его оценивающее окружение можно заметить в кратком телесном описании: «Барыня только плечами пожала – и пошла вон». Этим физически подчеркнутым непониманием барыни очень точно выражен ее ограниченный, сфокусированный на себе горизонт. Поэтому мы, читатели, не следуем за ней, а, напротив, солидаризируясь с Тургеневым, как будто «гоним» ее из дома и из текста.
Этическая эстетика Бахтина может адекватно описать наше настроение и оценку, возникающие после прочтения данного произведения Тургенева – по крайней мере, лучше, чем доминировавшие в 1920-е гг. формалистские литературные исследования, а также лучше, чем появившийся позже структурализм. В своих ранних работах Бахтин предвосхищает продуктивно ориентированную нарратологию, как ее, например, определил Уэйн Бут в «Риторике художественной литературы» (1961) [см.: 4].
Тот факт, что Бахтин с 1929 г. изменяет направление своих исследований и прощается с автором как центральной инстанцией литературного анализа, не умаляет заслуг ранних его работ. Этико-эстетические категории анализа, представленные, в частности, в работе «Автор и герой в эстетической деятельности» могут обогатить литературоведение в будущем.
About the authors
Andrea Zinc
University of Innsbruck
Author for correspondence.
Email: andrea.zink@uibk.ac.at
Ph.D., professor of Slavic literary criticism, Director of the Institute of Slavic Studies
Austria, InnsbruckReferences
- Bahtin M.M. Avtor i geroj v esteticheskoj deyatel'nosti // Bahtin M.M. Sobr. soch. T. 1. M. 2003. . 69–263.
- Bahtin M.M. K filosofii postupka // Bahtin M.M. Sobr. soch. T. 1. M. 2003. S. 7–68.
- Turgenev I.S. Shchi // Turgenev I.S. Poln. sobr. soch. i pisem: v 28 t. T. 13. M.; L. 1967. S. 174.
- Booth W. The Rhetoric of Fiction. Chicago, 1961.
- Heidegger M. Sein und Zeit (1927). Tübingen, 1984.
- Rickert H. Der Gegenstand der Erkenntnis. Tübingen, 1904.
Supplementary files