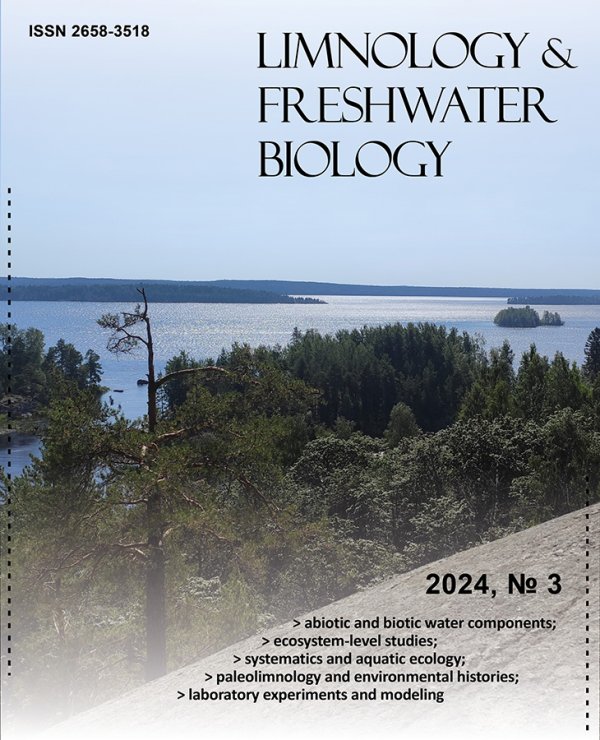Вертикальное распределение годовых максимумов температуры воды в южной прибрежной зоне озера Байкал
- Авторы: Науменко М.А.1, Гузиватый В.В.1, Ловцов С.В.2, Троицкая Е.С.3, Буднев Н.М.2
-
Учреждения:
- Институт озероведения, Российская академия наук – Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр Российской академии наук
- Научно-исследовательский институт прикладной физики, ФГБОУО Иркутский государственный университет
- Лимнологический институт, Сибирское отделение Российской академии наук
- Выпуск: № 3 (2024)
- Страницы: 157-170
- Раздел: Статьи
- URL: https://bakhtiniada.ru/2658-3518/article/view/282607
- DOI: https://doi.org/10.31951/2658-3518-2024-A-3-157
- ID: 282607
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Часто экстремальное событие, такое как температурный максимум, оказывает наибольшее влияние на экосистему озера, чем изменения средних условий. Впервые на основе in-situ измерений температуры воды с дискретностью 15 минут для периода устойчивой стратификации за одиннадцать лет (с 2005 по 2016 г., кроме 2009 г.) в южной прибрежной зоне озера Байкал с глубиной дна 550 м исследована вертикальная изменчивость годовых максимумов температуры воды (ГМТВ) и даты их наступления. Полученные статистические характеристики четко идентифицируют различные особенности вертикального распределения ГМТВ. Наблюдается значительный временной сдвиг (около 86 суток) между самым верхним горизонтом (около 15 м) и самым нижним 300-метровым горизонтом. Средние максимальные годовые температуры (15°С) снижаются от верхнего горизонта до температуры ~ 4°С на глубине 300 м. Для количественной оценки изменений годового максимума температуры воды были построены эмпирические функции для оценки зависимостей между ГМТВ, датами их наступления и глубиной. Эти зависимости не являются линейными и подтверждены независимыми данными. Они имеют достаточно высокие коэффициенты детерминации.
Ключевые слова
Полный текст
1. Введение
Для получения современных знаний о термической структуре и ее межгодовой изменчивости в крупном озере требуется гораздо больше модельных расчетов и наблюдений, чем имеется на сегодняшний день (Beletsky et al., 2006). Особенно это касается крупного димиктического озера Байкал, имеющего самую большую глубину и самый большой объем пресной воды среди озер мира (Minoura, 2000, Шерстянкин и др., 2006). По данным многих публикаций, известно, что озера мира подвержены изменению климата (Adrian et al., 2009; O’Reilly et al., 2015). Действительно, за последний 30-летний период температура поверхности воды в озерах мира повышается, сокращается период ледостава, изменяется дата начала и продолжительность периода стратификации. Экосистема озера Байкал претерпевает быстрые изменения в локальном и глобальном масштабах (Hampton et al., 2008; Izmest’eva et al., 2016). Вертикальный и горизонтальный обмен теплом и импульсом определяет распределение температуры воды от поверхности до дна. Количественная оценка гидрофизических процессов необходима для понимания изменений многих водных процессов. По этим причинам, а также для мониторинга климатических температурных условий в озерах, знание пространственного и временного распределения температуры озерной воды может быть чрезвычайно ценным (Carpenter et al., 2011).
Термический режим крупного димиктического озера определяется сезонным ходом поступления тепла к поверхности воды, взаимодействием движущегося слоя воздуха с водой и распространением тепла в глубь озера. Димиктизм озерной толщи проявляется в том, что озеро дважды в год перемешивается от поверхности до дна за счет аномалии плотности пресной воды при температуре 3.98°С на поверхности. Обычно между двумя основными событиями перемешивания озеро устойчиво стратифицировано в течение нескольких месяцев. Классическое трехслойное вертикальное распределение температуры формируется, а именно, 1) поверхностный перемешанный слой (эпилимнион), 2) средний слой с большими вертикальными градиентами температуры (металимнион) и 3) придонный слой, который холоднее и плотнее, чем все верхние слои (гиполимнион) (Boehrer and Schultze, 2008).
Обычно годовой максимум температуры поверхностного слоя воды приходится на середину лета. В Байкале, вследствие его огромных размеров, годовые максимумы температуры воды (ГМТВ) у берега наблюдается в конце июля – августе, в открытых частях озера в августе-сентябре. Наибольшие вертикальные градиенты температуры и плотности возникают в период прогрева в металимнионе, за 20–30 дней до достижения максимальной температуры воды на поверхности (Naumenko and Guzivaty, 2022). Затем начинается охлаждение, инициирующее конвективное перемешивание, которое ускоряет углубление эпилимниона, градиенты уменьшаются. Тепло распространяется на нижележащие горизонты, максимумы температуры смещаются на большую глубину, а их значения уменьшаются. В каждую дату проникновение тепла на нижележащие горизонты можно проследить как заглубление годовых максимумов температуры воды от поверхностного слоя до дна на определенной вертикали (Джеймс, 1971; Stepanenko et al., 2018). Осенью, когда тепло достигает дна, происходит переворот (то есть вертикальная изотермия), и температура у дна становится самой высокой за год в большом димиктическом озере.
Сезонные изменения термической стратификации могут влиять на динамику численности фитопланктона и зоопланктона (Eckert and Walz, 1998; Brandão et al., 2012). Вертикальная протяженность эпилимниона (т.е. глубина перемешанного слоя) и величина термического градиента в толще воды влияют на рост планктона и первичную продукцию (Vincent et al., 1984; O’Brien et al., 2003; Brighenti et al., 2015) и тем самым регулируют проникновение света и внутреннюю нагрузку питательных веществ. Таким образом, и время наступления годового пика на определенной глубине влияют на положение максимума концентрации хлорофилла в сезонном ходе параметров экосистемы озера. Поэтому заглубление температурного максимума в стратифицированных озерах можно рассматривать не только как важный гидрофизический процесс, но и как параметр, влияющий на структуру экосистемы. Более того, изменение климатических максимумов может влиять на популяции и сообщества рыб (Gillis et al., 2021).
Очевидно, что знание величины и даты наступления температурных максимумов на различных глубинах необходимо для понимания изменений многих водных процессов в разных типах озер. Существуют публикации о важности этих экстремальных событий (Sharma et al., 2008; Minns et al., 2018; Ptak et al., 2019; Dokulil et al., 2021) но, к сожалению, они практически касаются только температуры поверхностных вод, за исключением статьи Hondzo and Stefan, 1996, где рассматривается придонная температура.
Публикации о вертикальном распределении годовых максимальных температур в димиктических озерах, в частности в глубоководных районах озера Байкал, отсутствуют. Межгодовая изменчивость температуры и глубины залегания мезотермического максимума температуры в подледный период обсуждается в статье Aslamov et al. (2024). О распределении максимальных температур воды в прибрежной зоне Байкала на глубинах дна 15 м и менее существует только две работы (Россолимо, 1957; Fedotov and Khanaev, 2023). Поэтому целью настоящего исследования было впервые представить данные о годовых максимумах температуры воды с помощью стационарных многолетних высокоточных измерений температуры на разных горизонтах (с 2005 по 2016 г., кроме 2009 г.), относящихся к глубинам дна до 550 м в южной прибрежной зоне Байкала. После анализа массивов данных вертикальных профилей температуры была установлена эмпирическая зависимость между абсолютным годовым максимумом температуры и датой и глубиной его появления .
2. Исходные данные и район исследований
Озеро Байкал активно изучается с 1990 года, когда был создан Байкальский международный центр экологических исследований (БИЦЭР). Стационарные многолетние высокоточные измерения температуры проводятся с марта 1999 г. Институтом прикладной физики Иркутского государственного университета совместно со Швейцарским федеральным институтом экологических наук и технологий (EAWAG) и Лимнологическим институтом СО РАН на базе Байкальского нейтринного эксперимента (действующий Байкальский нейтринный телескоп NT200+) (Aynutdinov et al., 2009). Несколько станций были установлены в прибрежной зоне южной части озера.
Мы использовали данные с буйковой станции, расположенной ближе всего к берегу на расстоянии 1,0 км и глубиной дна 550 м (Рис. 1а). Семь температурных логгеров, распределенных между дном озера и глубиной 15 м, регистрировали температурный профиль в течение всего года с интервалом 15 мин на протяжении одиннадцати лет с 2005 по 2016 г. (кроме 2009 г.). Горизонты измерений: 1) от 14.7 до 26.5 м, 2) от 50 до 52.3 м, 3) от 100 до 102.3 м, 4) от 150 до 152.3 м, 5) от 200 до 202.3, 6) от 250 до 252.3, 7) от 300 до 302.3 м. Характеристики проведенных измерений приведены в Aslamov et al., 2024. Некоторое различие в глубине расположения логгеров из года в год связано с техническими трудностями при установке. На Рис. 1а показано расположение буйковой станции в Южном Байкале в районе мыса Ивановский с координатами 51°47′22.7″ с. ш., 104°24′53.4″ в. д.
Рис.1. Расположение буйковой станции в Южном Байкале (A) и сезонный ход температуры воды для двух различных по степени прогрева периодов летней стратификации – очень теплого (2005 г.) (Б) и очень холодного (2010 г.) (С).
Средний уклон дна в районе станции составляет 33° (Карта уклонов..., 2024), что превышает критическое значение для процессов скольжения (Hakanson and Jansson, 2002). Это означает, что на этом уклоне могут происходить как сползание водных масс, так и перемещение веществ.
Южная часть Байкала имеет ярко выраженные особенности, связанные с влиянием берегов различной высоты и действием ветра в полузамкнутой области озера. По данным Кожовой и Изместьевой (1998), в южной части Байкала сильные северо-западные ветры часто нарушают летнюю стратификацию, вызывая подъем холодных вод вдоль западного побережья и приводя к понижению температуры поверхностных вод до 4 °C с 14° - 16 °C в течение нескольких часов. Сильные ветры могут ускорить перемешивание, и некоторые теплые импульсы, за которыми следует возврат к 4 °C, приводят к исчезновению термоклина. Хорошо перемешанный поверхностный слой образуется в результате прибрежного даунвеллинга, вызванного прибрежным экмановским переносом, создаваемым ветром, дующим параллельно побережью.
3. Результаты и обсуждение
3.1. Основные особенности вертикального распределения годовых максимумов температуры воды в южной прибрежной зоне
Сроки наступления годового максимума поверхностной температуры являются наиболее активным периодом взаимодействия воздуха и поверхности озера (Naumenko and Guzivaty, 2022). Эти даты являются важными фенологическими индикаторами для оценки долговременных изменений термического режима крупных озер, в частности Байкала. Длительные круглогодичные измерения температуры на определенных горизонтах позволяют точно определить ключевые температуры термического цикла Байкала. Для каждого доступного горизонта (обычно от 15–19 м до 300 м) в южной прибрежной зоне Байкала на основе используемого набора данных были оценены как максимальная температура , так и ее дата . Это было сделано для периода устойчивой стратификации за одиннадцать лет с 2005 по 2016 год, за исключением 2009 года. На Рис. 1 показан сезонный ход температуры воды для двух лет, характеризующихся самым теплым и самым холодным летним периодом за исследуемый период наблюдений. С увеличением глубины измерений ясно видно изменение температуры от более высоких значений к более низким. Очевидно, что существуют значительные различия в температуре и времени наступления максимальных температур на двух верхних горизонтах, в то время как на нижних горизонтах эти различия гораздо меньше. Что касается апвеллингов, то их можно распознать по резкому снижению температуры в верхних горизонтах (Troitskaya et al., 2023).
В целом, в каждый год наиболее выраженная форма температурного графика для верхнего слоя озера имеет вид остроконечной вершины. Общеизвестно, что Байкал является типичным димиктическим озером до глубины деятельного слоя 200–300 м , в котором наблюдаются ежегодные сезонные колебания температуры (Шимараев, 1977; Shimaraev et al., 1994; Shimaraev et al., 2012).
Глубинная структура температуры демонстрирует более пологие кривые с коротким периодом максимума. На глубине более 100 м сезонные колебания незначительны (Рис. 1). Статистические характеристики параметров годовых температурных максимумов и даты их наступления для прибрежной части Южного Байкала приведены в Таблица 1.
Таблица 1. Статистические характеристики параметров годовых температурных максимумов и даты их наступления
Параметры | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 |
Годовая максимальная температура , °C | |||||||
Минимум | 10.87 | 8.39 | 6.93 | 5.49 | 4.41 | 3.94 | 3.84 |
Максимум | 18.15 | 16.04 | 10.35 | 7.29 | 6.11 | 5.37 | 4.18 |
Диапазон | 7.28 | 7.65 | 3.42 | 1.80 | 1.70 | 1.43 | 0.34 |
Среднее | 15.00 | 11.06 | 8.34 | 6.16 | 5.14 | 4.34 | 3.99 |
СКО | 2.64 | 2.20 | 1.32 | 0.56 | 0.55 | 0.41 | 0.11 |
Дата возникновения годового максимума температуры , сутки | |||||||
Минимум | Авг.6 | Авг.16 | Сент.23 | Окт.3 | Окт.12 | Окт.12 | Окт.12 |
Максимум | Сент.16 | Окт.8 | Нояб.2 | Нояб.19 | Нояб.24 | Нояб.25 | Дек.17 |
Диапазон | 41 | 54 | 40 | 46 | 44 | 44 | 66 |
Среднее | Авг.22 | Сент.19 | Окт.10 | Окт.28 | Нояб.5 | Нояб.10 | Нояб.16 |
СКО | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 19 |
Примечание: Z1 соответствует глубине измерения от 14.7 до 26.5 м, Z2 – от 50 до 52.3 м, Z3 – от 100 до 102.3 м, Z4 – от 150 до 152.3 м, Z5 – от 200 до 202.3 м, Z6 – от 250 до 252.3 м, Z7 – от 300 до 302.3 м.
На горизонте около 20 м, наиболее приближенном к поверхности озера, годовые максимальные температуры воды в 2005 – 2016 гг. изменялись от 10.9 °C в 2010 г. до 18.2 °C в 2005 г. (Рис.1). Средние максимальные годовые температуры снижаются от 15 °C для верхнего горизонта до 4 °C на глубине 300 м. На той же глубине наблюдалась наименьшая изменчивость максимальных температур воды. Межгодовой диапазон изменений температуры воды резко уменьшался с глубиной, примерно в 20 раз по сравнению с верхним горизонтом, так же как и стандартное отклонение СКО (Таблица 1).
Таблица 1 показывает, что дата годового температурного максимума на самом верхнем горизонте варьирует от 6 августа (2012 г.) до 16 сентября (2013 г.). Разница в датах составляет около полутора месяцев при средней дате 22 августа.
В среднем наступление максимумов от горизонта к горизонту варьировало от 28 дней между верхними горизонтами и уменьшалось до пяти дней от 250 до 300 м.
Однако в 2013 году разница между датами максимумов на соседних верхних горизонтах была наибольшей за весь одиннадцатилетний период и составила около 52 дней.
Разница между датами максимумов на самом верхнем и самом нижнем горизонтах составила в среднем 86 дней, с максимумом в 111 дней в 2016 году. Это явление подтверждает неравномерность поступления тепла на глубину от года к году, связанную с различиями погодных условий, интенсивностью процессов вертикального перемешивания, устойчивостью стратификации и степенью прогрева верхнего слоя воды.
Стандартные отклонения велики и почти одинаковы на всех горизонтах (13–19 дней), что указывает на большой разброс дат.
Семь наборов данных для каждого исследуемого горизонта за одиннадцать лет позволяют проиллюстрировать, как изменялась годовая максимальная температура воды в зависимости от дня года с линейной зависимостью для каждого горизонта (Рис. 2).
Рис.2. Годовые максимальные температуры воды в зависимости от дня года с линейной зависимостью для каждого горизонта.
Видно, что на трех верхних горизонтах (до 100м) наблюдается значимое снижение максимальной температуры с увеличением даты. Это означает, что чем позже наступает максимум температуры, тем его величина меньше. Начиная с горизонта 150 м, эта закономерность прекращается, и независимо от даты максимальная температура остается постоянной. Это подтверждает вывод о том, что на эти глубины проникает ничтожно малое количество тепла с поверхности. Очевидно, что изменение максимальной температуры с глубиной носит ярко выраженный нелинейный характер.
Что касается климатических тенденций, то за одиннадцатилетний период исследования мы не обнаружили существенных тенденций ни для одного из показателей: ни для , ни для .
3.2. Эмпирическая зависимость изменения максимальной температуры по времени и глубине
В южной части Байкала максимальная температура в верхнем слое достигается в июле-августе. На глубинах более 200 м максимум температуры приходится на октябрь-декабрь. Мы предполагаем, что для каждого конкретного димиктического озера (или некоторой его области) годовые экстремальные температуры могут быть функцией глубины. Очевидно, что если летнее вертикальное распределение температуры стабильно, то максимальная температура будет монотонно уменьшаться с глубиной за счет проникновения тепла с поверхности и горизонтального обмена (Naumenko and Guzivaty, 2022). Мы задаемся вопросом, с какой скоростью происходит это заглубление и есть ли корреляции между величиной максимума, его глубиной и временем возникновения. Для количественной оценки изменений ГМТВ использовались ранее разработанные аппроксимационные формы эмпирических функций, которые позволили найти три зависимости, а именно
где h – глубина, м, t – сутки от начала года.
Формы эмпирических зависимостей и коэффициенты детерминации R2 приведены в Таблице 2 и на Рис. 3.
Таблица 2. Эмпирические коэффициенты для зависимостей, разработанных для параметров годовых максимальных температур воды
Зависимости | Формула | Коэффициенты | |||
a | b | c | R2 | ||
6.91 | -0.72 | 2.11 | 0.87 | ||
5.47 | - | 0 | 0.66 | ||
351.46 | -0.67 | -1.12 | 0.87 | ||
Рис.3. Эмпирические зависимости для оценки величины годового максимума температуры воды, его глубины и времени наступления (левая панель). На правой панели показаны скорости изменения тех же параметров.
Очевидно, что каждая зависимость имеет нелинейный характер (Рис.3). Эмпирические зависимости описывают от 66 до 87% изменчивости исследуемых параметров.
Для построения эмпирических зависимостей мы использовали значения, найденные только для восьми лет (2005–2011, 2015–2016), что составило 54 значения для каждой выборки. На Рис. 3 оранжевым цветом выделены значения для трех оставшихся лет (2012–2014). Они были использованы для проверки зависимостей как независимые данные. Очевидно, что они лежат в тех же границах, что и данные, использованные для построения зависимостей. Независимые наблюдаемые данные сравнивались с данными, оцененными по трем эмпирическим зависимостям. Среднеквадратичные ошибки (RMSE) составили 1.3 °C, 49 м, 1.9 °C соответственно. Следует отметить, что ошибка по глубине довольно велика. Это связано с большим разбросом даты по исследуемым горизонтам.
Дифференцирование полученных зависимостей позволяет оценить скорости изменения изучаемых параметров. В связи с нелинейностью зависимостей для изучаемого периода сезонного охлаждения южной части Байкала наибольшая изменчивость максимальных годовых температур со временем наблюдалась в начале августа сразу после начала регулярного конвективного перемешивания на глубине до 50 м (Рис. 3, правый верхний и нижний графики). В это же время скорость углубления также максимальна.
На Рис.3, правый центральный график, показана скорость заглубления с течением времени. Минимальная скорость наблюдается в начале августа около 0.5 м/сут, затем она увеличивается до 6 м/сут в начале декабря.
Таким образом, впервые полученные эмпирические зависимости позволяют оценить фоновую сезонную эволюцию вертикального распределения величин ГМТВ южной части озера Байкал и скорость изменения этих параметров.
4. Заключение
Проанализированы натурные измерения температуры воды с дискретностью 15 минут для периода устойчивой стратификации в южной прибрежной зоне озера Байкал с глубиной дна 550 м за одиннадцать лет с 2005 по 2016 г., кроме 2009 г. Впервые на основе использованного набора данных определены абсолютные годовые максимумы температуры и время их наступления на семи горизонтах. Оценены статистические характеристики этих параметров. Следует отметить, что эти характеристики будут меняться в зависимости от глубины дна и удаленности от берега озера. на верхнем горизонте соответствует данным о максимальной температуре поверхности воды в Листвянке (Fedotov and Khanaev, 2023). В отличие от мелководной зоны Байкала максимальные температуры не наблюдаются одновременно на всех горизонтах. Между самым верхним горизонтом (~20 м) и самым нижним (~300 м) наблюдаются значительные временные сдвиги около 86 дней.
Годовой максимум температуры заглубляется, уменьшаясь по величине от поверхности до глубины 300 м, где достигает температуры ~4 °C. Были получены эмпирические уравнения для аппроксимации вертикального распределения годовых экстремальных температур воды с глубиной, которые можно использовать в качестве репера для анализа возможных климатических вариаций. Полученные зависимости являются нелинейными. Они проверены на независимых данных. Большая часть вариаций экстремальной температуры воды в озере может быть объяснена вертикальным теплообменом, который зависит от глубины.
Определены скорости изменения годового максимума температуры с глубиной. Максимальная скорость изменения наблюдается сразу после начала сезонного охлаждения поверхности воды и свободной вертикальной конвекции. Скорость заглубления максимума является мерой вертикального проникновения тепла на глубину и может служить гидрофизической характеристикой озера Байкал. Эти выводы соответствуют аналогичным результатам для Ладожского озера (Naumenko and Guzivaty, 2023). Dokulil et al. (2021) указывают на существенное увеличение годовых максимальных температур поверхности европейских озер. Полученные нами результаты являются подтверждением существования фоновых эмпирических зависимостей, необходимых для выявления особенностей региональных изменений климата.
Благодарности
Финансовое обеспечение исследований было осуществлено главным образом за счет средств федерального бюджета на выполнение государственного задания FFZF-2024-0001 «Экосистемы Ладожского озера, водоемов его бассейна и прилегающих территорий в условиях воздействия природных и антропогенных факторов на фоне климатических изменений». Исходные данные были предоставлены Лимнологическим институтом СО РАН в рамках госзадания ЛИН СО РАН (0279-2021-0004), а результаты были совместно обсуждены на основе государственного задания Минобрнауки FZZE-2023-0004.
Авторы благодарят коллег из EAWAG (Швейцария) за совместные полевые работы и сбор данных и членов коллаборации «Байкал» за помощь в проведении экспедиционных работ.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Об авторах
М. А. Науменко
Институт озероведения, Российская академия наук – Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: m.a.naumenko@mail.ru
Россия, ул. Севастьянова , 9, Санкт-Петербург, 196105
В. В. Гузиватый
Институт озероведения, Российская академия наук – Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр Российской академии наук
Email: m.a.naumenko@mail.ru
Россия, ул. Севастьянова , 9, Санкт-Петербург, 196105
С. В. Ловцов
Научно-исследовательский институт прикладной физики, ФГБОУО Иркутский государственный университет
Email: m.a.naumenko@mail.ru
Россия, б-р Гагарина, 20, Иркутск, 664033
Е. С. Троицкая
Лимнологический институт, Сибирское отделение Российской академии наук
Email: m.a.naumenko@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-6575-0465
Россия, Улан-Баторская, 3, Иркутск, 664033
Н. М. Буднев
Научно-исследовательский институт прикладной физики, ФГБОУО Иркутский государственный университет
Email: m.a.naumenko@mail.ru
Россия, б-р Гагарина, 20, Иркутск, 664033
Список литературы
- Adrian R., O’Reilly C.M., Zagarese H. et al. 2009. Lakes as sentinels of climate change. Limnology and Oceanography 54(6):2283–2297. doi: 10.4319/lo.2009.54.6_part_2.2283
- Aslamov I., Troitskaya E., Gnatovsky R. et al. 2024. Study of Interannual Variability of the Winter Mesothermal Temperature Maximum Layer in Southern Baikal. Water 16(1): 21. doi: 10.3390/w16010021
- Aynutdinov V., Avrorin A., Balkanov V. et al. 2009. Baikal neutrino telescope – an underwater laboratory for astroparticle physics and environmental studies. Nuclear Instruments and Methods A 598:282–288. doi: 10.1016/j.nima.2008.08.124
- Beletsky D., Schwab D., McCormick M. 2006. Modeling 1998–2003 summer circulation and thermal structure in Lake Michigan. Journal of Geophysical Research 111:C10010. doi: 10.1029/2005JC00322
- Boehrer B., Schultze M. 2008. Stratification of lakes. Reviews of Geophysics 46: RG2005. doi: 10.1029/2006RG000210
- Brandão L., Fajardo T., Eskinazi-Sant’Anna E. et al. 2012. Fluctuations of the population of Daphnia laevis Birge 1878: A six-year study in a tropical lake. Brazilian Journal of Biology 72: 479–487. doi: 10.1590/S1519-69842012000300010
- Brighenti L.S., Staehr P.A., Gagliardi L.M. et al. 2015. Seasonal Changes in Metabolic Rates of Two Tropical Lakes in the Atlantic Forest of Brazil. Ecosystems 18: 589–604. doi: 10.1007/S0021-015-9851-3
- Carpenter S.R., Stanley E.H., Vander Zanden M.J. 2011. State of the world’s freshwater ecosystems: physical, chemical, and biological changes. Annual Review of Environmental Resources 36: 5–99. doi: 10.1146/annurev-environ-021810-094524
- Dokulil M.T., de Eyto E., Maberly S.C. et al. 2021. Increasing maximum lake surface temperature under climate change. Climatic Change 165: 56. doi: 10.1007/S10584-021-03085-1
- Eckert B., Walz N. 1998. Zooplankton succession and thermal stratification in the polymictic shallow Müggelsee (Berlin, Germany): a case for the intermediate disturbance hypothesis? Hydrobiologia 387(0):199–206. doi: 10.1023/A:1017045927016
- Fedotov A.P., Khanaev I.V. 2023. Annual temperature regime of the shallow zone of Lake Baikal inferred from high resolution data from temperature loggers. Limnology and Freshwater Biology 4:119–125. doi: 10.31951/2658-3518-2023-A-4-119
- Gillis D.P., Minns C.K., Shuter B.J. 2021. Predicting open-water thermal regimes of temperate North American lakes. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 78(7): 820–840. doi: 10.1139/CJFAS-2020-0140
- Hakanson L., Jansson M. 2002. Principles of Lake Sedimentology. Blackburn: Blackburn Press. doi: 10.1007/978-3-642-69274-1
- Hampton S.E., Izmest’eva L.R., Moore M.V. et al. 2008. Sixty years of environmental change in the world’s largest freshwater lake–Lake Baikal, Siberia. Global Change Biology 14(8): 1947–1958. doi: 10.1111/j.1365-2486.2008.01616.x
- Hondzo M., Stefan H.G. 1996. Long-term lake water quality predictors. Water Research 30(12): 2835–2852. doi: 10.1016/0043-1354(95)00286-3
- Izmest’eva L.R., Moore M.V., Hampton S.E. et al. 2016. Lake-wide physical and biological trends associated with warming in Lake Baikal. Journal of Great Lakes Research 42(1): 6–17. doi: 10.1016/j.jglr.2015.11.006
- Lake Baikal. Evolution and Biodiversity. 1998. In: Kozhova O.M., Izmest’eva L.R. (ed.). Leiden: Backhuys Publisher. doi: 10.1002/iroh.199900053
- Minns C.K., Shuter B.J., Davidson A. et al. 2018. Factors influencing peak summer surface water temperature in Canadas large lakes. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 75(7): 1005–1018.
- Minoura K. 2000. Lake Baikal. A Mirror in Time and Space for Understanding Global Change Processes. Amsterdam: Elsevier Science. doi: 10.1016/B978-0-444-50434-0.X5000-8
- Naumenko M.A., Guzivaty V.V. 2022. Methodological Approaches and Results of an Analysis of the Climatic Seasonal Course of Stable Stratification Parameters of a Dimictic Lake (Case Study of the Central Part of Lake Ladoga). Izvestiya. Atmospheric and Oceanic Physics 58(1): 44–53. doi: 10.1134/S0001433822010108
- Naumenko M.A., Guzivaty V.V. 2023. Seasonal evolution of stable thermal stratification in central area of Lake Ladoga. Limnological Review 23(3): 177–189. doi: 10.3390/limnolrev23030011
- O’Brien K.R., Ivey G.N., Hamilton D.P. et al. 2003. Simple mixing criteria for the growth of negatively buoyant phytoplankton. Limnology and Oceanography 48(3): 1326–1337. doi: 10.4319/lo.2003.48.3.1326
- O’Reilly C.M., Sharma S., Gray D.K. et al. 2015. Rapid and highly variable warming of lake surface waters around the globe. Geophysical Research Letters 42(24): 10773–10781. doi: 10.1002/2015GL066235
- Ptak M., Sojka M., Kozłowski M. 2019. The increasing of maximum lake water temperature in lowland lakes of central Europe: case study of the Polish Lakeland. Annales De Limnologie-International Journal of Limnology 55(6): 1-11. doi: 10.1051/limn/2019005
- Sharma S., Walker S.C., Jackson D.A. 2008. Empirical modelling of lake water–temperature relationships: a comparison of approaches. Freshwater Biology 53: 897–911. doi: 10.1111/j.1365-2427.2008.01943.x
- Shimaraev M.N., Verbolov V.I., Granin N.G. et al. 1994. Physical limnology of Lake Baikal: a review: Irkutsk and Okayama. Irkutsk: BICER Publishers.
- Shimaraev M.N., Troitskaya E.S., Blinov V.V. et al. 2012. Upwellings in Lake Baikal. Doklady of Earth Sciences 442: 272–276. doi: 10.1134/S1028334X12020183
- Stepanenko V.M., Repina I.A., Artamonov A.Yu. et al. 2018. Mid-depth temperature maximum in an estuarine lake. Environmental Research Letters 13: 035006. doi: 10.1088/1748-9326/aaad75
- Troitskaya E.S., Shimaraev M.N., Aslamov I.A. 2023. Impact of climate change on occurrence and characteristics of coastal upwelling in Listvennichny Bay (Southern Baikal) from 1941 to 2023. Limnology and Freshwater Biology 6: 261–274. doi: 10.31951/2658-3518-2023-A-6-261
- Vincent W.F., Gibbs M.M., Dryden S.J. 1984. Accelerated eutrophication in a New Zealand lake: Lake Rotoiti, central North Island. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research 18(4): 431–440. doi: 10.1080/00288330.1984.9516064
- Джеймс Р. 1971. Прогноз термической структуры океана. Ленинград: Гидрометеоиздат.
- Карта уклонов озера Байкал. http://www.lin.irk.ru/intas/maps.htm (дата обращения 19.04.2024)
- Россолимо Л.Л. 1957. Температурный режим озера Байкал. Труды Байкальской лимнологической станции АН СССР, т. XVI. Москва: Изд-во АН СССР.
- Шерстянкин П.П., Алексеев С.П., Абрамов А.М. и др. 2006. Батиметрическая электронная карта озера Байкал. Доклады Академии Наук 408(1): 102–107.
- Шимараев М.Н. 1977. Элементы теплового режима озера Байкал. Новосибирск: Наука.
Дополнительные файлы