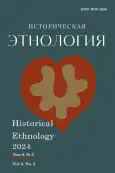Н.И. Воробьев и его роль в формировании академического татароведения в отечественной этнологии
- Авторы: Суслова С.В.1
-
Учреждения:
- Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан
- Выпуск: Том 9, № 5 (2024)
- Страницы: 741-758
- Раздел: Этнография поволжских тюрков в трудах Н.И. Воробьева: советская и современная рефлексия
- Статья опубликована: 14.10.2024
- URL: https://bakhtiniada.ru/2619-1636/article/view/270613
- DOI: https://doi.org/10.22378/he.2024-9-5.741-758
- EDN: https://elibrary.ru/DNPXOZ
- ID: 270613
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Важная роль в формировании академического татароведения принадлежит выдающемуся ученому начала-середины XX в. профессору Николаю Иосифовичу Воробьеву. Своими трудами он заложил основы системного подхода к изучению культуры и быта народа, особенно, референтной группы этноса – казанских татар. Использование данных смежных исторических и географических дисциплин позволило ему поставить и решить ряд важных вопросов этнокультурной истории народа. В знаковой его монографии «Казанские татары» (1953) особое внимание обращается на тесную корневую их связь с местной Булгарской цивилизацией – этнокультурной предысторией народа. Системность подхода заключалась в создании Н.И. Воробьевым первой этнокультурной дифференциации волго-уральских татар, в основу которой были положены изученные на тот период времени культурно-бытовые и языковые различия внутри этноса. Она проявилась в применении типологических подходов к классификации этнографического материала, что позволило исследователю рассмотреть в динамике устойчивые разновидности материальной культуры (типы), наметить аналоги им у других соседних и отдаленных этносов Евразии, выйти тем самым на решение вопросов, связанных с этно- и культурогенезом татарского народа. Системный подход Н.И. Воробьева был применен и усовершенствован в исследованиях и научно-организационной деятельности его учеников и последователей, в том числе авторами шеститомного академического издания «Историко-этнографический атлас татарского народа». Фундаментальные труды Н.И. Воробьева по этнографии волго-уральских татар заложили основу формирования тюрко-татарского вектора академической этнологии в Волго-Уральском регионе России. Они – бесценный источник для современных и будущих поколений исследователей.
Ключевые слова
Полный текст
Формирование этнографического татароведения как особого направления исторических исследований в России связано с открытием в 1804 г. Казанского Императорского университета, и особенно с созданием при нем в 1878 г. широко известного научного сообщества – «Общества археологии, истории и этнографии» (ОАИЭ). В «Известиях» этого общества регулярно появляются заметки и публикации, связанные с изучение культуры и быта различных этнографических групп татарского народа. Ведущая роль в становлении этой тематики принадлежала университетским ученым – профессорам Н. Катанову, К. Фуксу, работы которых исследователи совершенно справедливо относят к золотому фонду татарской историографии (Усманов, 1991: 10). В тесной связи с деятельностью ОАИЭ работали крупные татарские ученые и просветители Ш. Марджани К. Насыри, известные исследователи Х. Фаисханов, Г. Ахмаров, Г. Губайдуллин, в публикациях которых нашли отражение отдельные проблемы этнографии татар. Этот этап этнографического изучения татар характеризуется современными исследователями лишь как начальный (Мусина, Суслова, 2012: 299).
Важнейшая роль в формировании этнографического татароведения в статусе академического, безусловно, принадлежит трудам профессора Николая Иосифовича Воробьёва. В отличие от предшествующих исследователей, эпизодически и эмоционально обращавшихся к этнографии татар, он заложил основы системного подхода к изучению культуры и быта народа. Досконально с применением всех имеющихся на тот период времени данных различных областей исторической науки им была изучена референтная группа этноса – казанские татары.
Музейная и научно-организационная деятельность Н.И. Воробьева
Интерес к изучению этнографии тюркских народов и прежде всего татарского ярко проявился в период научной и административной деятельности Н.И. Воробьева в стенах Центрального музея Татарской АССР. При всей насыщенности и плодотворности музейный этап являлся вынужденным перерывом в активной академической и преподавательской деятельности ученого, связанным с возрастанием в те годы политического давления, обвинением отечественных этнографов в национализме (Решетов, 1994: 185–221).
Николай Иосифович приступил к работе в музее в 1921 г. в должности заведующего этнографическим и естественно-историческим отделом, а затем с 1923 по 1930 гг. его директором, связав свою научную карьеру с изучением этнографии татарского народа. Изначально его интересы склонялись к изучению народов Сибири, включая русских старожилов (Воробьев, 1926б: 59–112). Русская тематика, как известно, была успешно освоена его талантливыми учениками и коллегами – Е.П. Бусыгиным и Н.В. Зориным. Известный этнограф, доктор исторических наук В.И. Яковлев, сравнивая труды по этнографии татар Н.И. Воробьева и русских Е.П. Бусыгина, пишет: «По своему замыслу и научному содержанию монография Е.П. Бусыгина близка исследованиям Н.И. Воробьева … где красной нитью проходит методологически важная концептуальная идея мирного сосуществования … разных по языку, менталитету, культуре народов, живущих в Волго-Уральском природно-географическом ландшафте» (Яковлев, 2016: 8).
Центральный музей Татарской АССР к тому времени обладал богатейшими этнографическими материалами по народам Поволжья и, особенно, по татарам. Это уникальные коллекции А.Ф. Лихачева, Л.О. Сиклера по искусству казанских татар, которые нуждались в профессиональном изучении, систематизации и постоянном пополнении. Н.И. Воробьев безотлагательно организует экспедиции практически во все районы ТАССР и другие места компактного проживания татар. Первая крупная экспедиция состоялась в 1923 г. в Арский кантон. Её целью был сбор этнографического материала по казанским татарам – устных сведений, предметов быта и народного декоративно-прикладного искусства. Наблюдая заметные различия в городской и сельской культуре казанских татар, в маршрут экспедиции ученым намеренно были включены районы и поселения, где меньше всего сказывалось влияние городского быта. Николай Иосифович большое внимание уделял сельской архитектуре, интерьеру жилых помещений, сбору материалов по народной одежде, прикладному искусству казанских татар. Все это отразилось в уникальных фотоматериалах экспедиции (Синицына, 1970: 4). За 1924–1927 гг. им были обследованы селения Арского, Мамадышского, Мензелинского, Челнинского, Чистопольского и ряда других кантонов республики. Во время этих экспедиций был собран огромный материал по этнографии не только казанских татар, но и татар-мишарей и кряшен. Фактически была создана богатейшая источниковая база, на основе которой в 1926–1929 гг. публикуются многочисленные статьи в научных журналах, обобщенные позже в его фундаментальных трудах. Так, статьи, посвященные жилищу и поселениям татар Арского кантона (Воробьев, 1926а), ткачеству глазовских татар (Воробьев, 1930), быту крещеных татар Челнинского кантона ТАССР (Воробьев, 1927) публикуются в «Вестнике научного общества татароведения»; статьи по технике орнаментации тканей, искусству татарской вышивки – в «Материалах Центрального музея ТАССР» (Воробьев, 1928). В журнале «Труд и хозяйство» издается знаковая работа по сравнительной характеристике культуры и быта татар-мусульман и кряшен (Воробьев, 1929).
Первым обобщающим трудом, подготовленным в музейный период его деятельности, стала книга «Материальная культура казанских татар», опубликованная в 1930 г. (Воробьев, 1930). Спустя четверть века после её публикации М.Г. Сафаргалиев – автор известной монографии «Распад Золотой Орды», упоминая книгу в журнале «Советская этнография», писал: «Работа проф. Н.И. Воробьева «Материальная культура казанских татар», несомненно, сыграла положительную роль как единственный в этом роде образец изложения фактического материала, не утративший своего значения и в настоящее время» (Сафаргалиев, 1954: 171). Заметим, что не утратила она своего значения в качестве источника и сейчас, почти сто лет спустя. Музейный этап творчества В.И. Воробьева в целом можно охарактеризовать, как период накопления им историко-этнографических источников и формирования на этой основе идей, научных концепций, изложенных в основных трудах последующего, важнейшего этапа научной деятельности исследователя.
Н.И. Воробьев возобновляет «полноценные» исследования в области татарской этнографии в сотрудничестве с Татарским научно-исследовательским Институтом языка, литературы и истории, который с 1939 г. являлся основным центром исследований по культуре и быту татарского народа. В отделении (секторе) истории работала небольшая группа этнографов, в том числе Н.И. Воробьев и Г.М. Хисамутдинов; они и начали планомерные исследования по этнографии татар в послевоенные годы. В январе 1946 г. ИЯЛИ входит
в состав Казанского филиала Академии наук СССР (ИЯЛИ КФАН СССР).
Научно-исследовательскую деятельность в Институте и преподавательскую работу в высших учебных заведениях Казани (университет, педагогический институт) профессор Воробьев совмещал с административно-организационной работой, являясь одновременно заместителем директора ИЯЛИ КФАН СССР по научной работе. В мае-июне 1946 г. им была организована первая совместная с университетскими учеными этнографическая экспедиция. В состав экспедиции вошли научный сотрудник ИЯЛИ Г.М. Хисамутдинов и ассистенты Казанского университета Е.П. Бусыгин и Г.В. Юсупов: изучалось население закамских районов ТАССР – татары, русские и чуваши. Экспедиционная работа проводилась традиционными методами с помощью наблюдения, опроса информаторов, съёмки планов поселений и жилищ, различных хозяйственных сооружений, сбора иллюстративного материала (Бусыгин, Зорин, 2002: 109–110).
Спектр неизученных проблем зарождающегося академического направления татароведения был чрезвычайно широк: от вопросов этно- и культурогенеза до исследования современности, исходя из чего в Институте в 1961 г. было создано специальное подразделение – сектор археологии и этнографии. Его возглавил Н.И. Воробьев. Под его руководством впервые была сформирована группа ученых, непосредственно занимающихся проблемами татарской этнографии. Исследовательской работой занимались его ученики, ставшие впоследствии выдающимися ученые-татароведы. Это кандидат исторических наук Гумер Мухетдинович Хисамутдинов, который занимался современной этнографией колхозников и рабочих Татарской АССР и особенно семейно-общественными отношениями и духовной культурой казанских татар. Учеником профессора был и другой сотрудник сектора – Ахат Абдрахманович Загидуллин, защитивший в 1966 г. кандидатскую диссертацию в Московском государственном университете на тему «Семейный быт татарских крестьян северо-западных районов ТАССР», специализирующий впоследствии в области семейно-родственных отношений волго-уральских татар. С 1958 г. сотрудником ИЯЛИ КФАН СССР, коллегой и соратником Николая Иосифовича являлся Гарун Валеевич Юсупов – участник Великой Отечественной войны, выдающийся ученый-тюрколог, Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники (1994, удостоен посмертно). Его научная деятельность была связана с изучением и составлением свода булгаро-татарских эпиграфических памятников Поволжья и Предуралья XIII–XIV вв., которые представляют собой важный источник для изучения происхождения татарского народа (Юсупов, 1951; Юсупов, 1971). Эта проблема, как известно, глубоко интересовала и Н.И. Воробьева. В апреле 1946 г. в Москве на Научной сессии Академии наук СССР, посвященной вопросу происхождения казанских татар, он выступает с докладом «Происхождение татар по данным этнографии». Материалы выступления изданы в журнале «Советская этнография» (Воробьев, 1946: 75–86).
Заметным явлением в работе формирующегося научного подразделения ИЯЛИ КФАН СССР была возглавляемая профессором Воробьевым совместная с Г.В. Юсуповым и Г.М. Хисамутдиновым экспедиция в северо-западные районы Башкирии для сбора материала «по весьма слабо изученному…и несколько отличному этническому типу татар Приуралья». Итоги опубликованы в журнале «Советская этнография (Воробьев, Хисамутдинов, Юсупов, 1962: 124–129).
Учеником Николая Иосифовича был сотрудник сектора Ф.Х. Валеев – впоследствии доктор искусствоведения и знаковая фигура для тюрко-татарской ветви российского искусствознания. В соавторстве и под руководством профессора им были подготовлены первые научные доклады и исследования в области народного декоративно-прикладного искусства (доклад на Международном конгрессе антропологических и этнографических наук в Москве, 1964; раздел «Народное изобразительное искусство» в монографии «Татары», 1967). Именно это направление стало основным исследовательским полем последующей деятельности Ф.Х. Валеева, а позже и его дочери – Г.Ф. Валеевой-Сулеймановой.
На юбилейном вечере Н.И. Воробьева. 1964 г. Сидят – Н.И. Воробьев, Д.Г. Вазеева. Стоят – Р.Г. Мухамедова, Р.К. Уразманова, Н.В. Бикбулатов, А.И. Глуховцева, Г.Р. Ишмуратова, З.А. Акчурина.
Успешной ученицей и фактически преемницей профессора Воробьева являлась Р.Г. Мухамедова – известный исследователь этнографии татар-мишарей – субэтнической группы, проживающей на западе Волго-Уральского региона. После ухода Н.И. Воробьева она возглавила этнографическое направление, продолжая заложенные им основы формирования академических исследований в области этнографии татар. В 1971 г. Р.Г. Мухамедова стала руководителем фундаментального исследования – «Историко-этнографический атлас татарского народа», представляющего собой репрезентативный корпус этнорегиональных источников, необходимых для углубленного изучения этнической истории, этнографии и культурогенеза народа (Суслова, 2018: 361–374).
Одной из последних аспиранток Н.И. Воробьева стала Р.К. Уразманова – известный впоследствии исследователь духовной культуры татарского народа, автор нескольких монографий, в том числе и соответствующего тома историко-этнографического атласа (Уразманова, 2001). По окончанию в 1964 г. аспирантуры она становится активным сотрудником сектора археологии и этнографии ИЯЛИ КФАН СССР.
Под руководством Николая Иосифовича коллектив ученых сектора археологии и этнографии ИЯЛИ КФАН СССР осуществил колоссальную работу по созданию научной базы и подготовке к печати капитального труда, знаменитой «красной книги» – «Татары Среднего Поволжья и Приуралья», опубликованной под редакцией Н.И. Воробьева и Г.М. Хисамутдинова в Москве в издательстве «Наука» (Татары, 1967). В национальной историографии это был первый академический труд по этнографии татар, в котором наряду со сведениями о численности, территориальном размещении этнических и этнографических групп, были отражены разные стороны их материальной и духовной культуры, общественной жизни и бытового уклада. Книга представляла собой результат многолетних исследований не только этнографов ИЯЛИ КФАН СССР, но и фольклористов (Х.Х. Ярмухаметов, Ф.И. Урманчеев), музыковедов (М.Н. Нигметзянов), и в целом она являлась ярким событием в культурной жизни татарского народа.
Вклад Н.И. Воробьева в становление академического татароведения
Труды Н.И. Воробьева явились фундаментом для последующих этапов изучения культуры и быта татарского народа. Основным его трудом, до сих пор являющимся настольной книгой историков, этнологов, искусствоведов, соприкасающихся в своих исследованиях с научной литературой по этнографии татар, является монография “Казанские татары” (Воробьев, 1953). Исследование было выполнено на хронологически глубоком историческом фоне, включая археологические периоды предистории народа, вплоть до современности. В основе монографии лежат главы опубликованной ранее книги “Материальная культура казанских татар” (Воробьев, 1930), дополненные новыми фактическими и аналитическими материалами с критически пересмотренными выводами, и одноименной докторской диссертации. Диссертационная работа “Материальная культура казанских татар” была защищена в 1946 г. в Москве в Институте этнографии Академии наук СССР. «Это была первая в Поволжском регионе докторская диссертация представителя Казанской этнографической школы по специальности «этнография» (Яковлев, 2016: 3–9).
В монографии с исключительной тщательностью и системностью описываются и прослеживаются в динамике основные категории традиционной культуры и народного декоративно-прикладного творчества татар; в контексте историко-этнографического анализа приводятся разносторонние этнографические данные и о других народах Поволжья, с которыми этот народ находился в постоянных контактах и у которых этнография, как наука, на тот период была в зачаточном состоянии.
Основой материальной культуры казанских татар Н.И. Воробьев считал «сложный комплекс местных оседло-земледельческих и пришлых кочевнических культурных форм, которые слились настолько тесно, что их трудно отделить друг от друга» (Воробьев, 1953: 347).
Основными компонентами татарской культуры (по Н.И. Воробьёву) являются булгарский и алано-сарматский, сформировавшиеся на основе более ранних местных культур – срубной и андроновской. Исследователем подчеркнуты кочевнические вторжения на протяжении длительного периода, которые наложили отпечаток на культуру волжских булгар, а затем и казанских татар. По мнению современников профессора, особая ценность этого труда состоит в том, что в нем «на основе анализа богатейшего материала опровергнута существующая ранее теория, связывающая происхождение казанских татар с Золотой Ордой и доказана генетическая их связь с более древним местным населением – земледельческих и степных кочевых племен» (Бусыгин, Зорин, Терентьева, 1968: 204).
Книга вызвала большой интерес среди специалистов разных областей; появилось множество отзывов и рецензий, в том числе в центральных академических журналах, нередко и с критикой. Так, в журнале «Советская этнография» в разделе “Критика и библиография” были опубликованы сразу две такие рецензии – ведущего московского археолога-булгароведа А.П. Смирнова и историка из Саранска М.Г. Сафаргалиева, автора известной монографии “Распад Золотой Орды.” Последний, например, даже ставит вопрос о правомерности употребления Н.И. Воробьевым термина «татары» для народа с длительным бытованием самоназвания «булгары» (Сафаргалиев, 1954: 171–172). Заметим, что современный академический уровень татароведения, безусловно, внес заметные коррективы в теорию этнической и политической истории татар (Татары, 2001), но эти теоретические изыскания, так или иначе, начинают свой отсчет от «происхождения казанских татар» по Воробьеву – первого серьезного опыта такого рода исследований.
В своей обстоятельной рецензии А.П. Смирнов писал: «В книге поставлены и решены вопросы истории, в частности проблема этногенеза, при выяснении которых использованы смежные исторические дисциплины – археология, лингвистика, история письменных документов, антропология. Такая широта охвата источников придает построениям автора большую убедительность» (Смирнов, 1954: 168). Одновременно исследователь отметил некоторые, на его взгляд, неточности, например, в трактовке путей формирования национального орнамента. По мнению Н.И. Воробьева, у татар-мусульман не мог сохраниться противоречащий канонам ислама зооморфный орнамент, на что рецензент приводит примеры, свидетельствующие о наличии различных зооморфных мотивов даже в прикладном искусстве булгар. «Это дает основание утверждать, что изображения животных в прикладном искусстве казанских татар применялись еще в конце XIV – начале XV вв., хотя мусульманство неохотно допускало эти мотивы» (Смирнов, 1954: 170). Позднее мнение археолога было обосновано работами этнографов и искусствоведов: зооморфные мотивы в действительности редко встечаются в татарской традиции, в основном в резьбе по дереву, хотя они известны и в ювелирном искусстве, и в вышивке, и в золотном шитье. Это мотивы птиц, летучих мышей; схематические изображения парных коней, седоков, а также личин хищников (львов, тигров) и баранов. Не убедительным представляется профессору Смирнову и утверждение о том, что растительный орнамент, применявшийся в татарской вышивке, был занесен в Среднее Поволжье из степных районов от тюрок. «Растительный орнамент неодинаков по своему характеру. Наряду с восточным … у татар был широко распространен орнамент, воспринятый от русских еще в период ХII–XIII вв.» (Смирнов, 1954: 4) Справедливость этого замечания также подтверждаются работами современных исследователей: русский след в орнаменте и технологиях прослеживается, например, на материалах татарского золотного шитья (Фасхутдинова, 2011: 98–109; Фасхутдинова, 2015: 169–176), и ювелирного искусства (Донина, Суслова, 2018: 69–81). Эти и другие неточности были учтены позднее – при написании разделов монографии «Татары Среднего Поволжья и Приуралья».
Н.И. Воробьев является автором первой развернутой и достаточно обоснованной этнокультурной дифференциации волго-уральских татар. Впервые она была представлена на Итоговой сессии ИЯЛИ КФАН СССР в 1963 г. (Воробьев, 1964: 44–48), а в полном виде опубликована в книге «Татары Среднего Поволжья и Приуралья» (Татары, 1967: 38–56). Многие десятилетия, вплоть до публикации в 2002 г. этнографами Института истории им. Ш. Марджани АН РТ комплексных карт и обобщающих материалов Историко-этнографического атласа татарского народа (Этнотерриториальные…, 2002), она являлась настольным документом отечественных этнографов. По этой классификации, в основу которой были положены изученные на тот период языковые и культурно-бытовые различия, этноструктура народа выстраивалась следующим образом. Волго-уральские татары – этнос; основные его группы – казанские татары и мишари; крупные территориальные группы в составе основных групп, внутри которых обозначались подгруппы. В качестве своеобразной группы выделялась группа татар-христиан – крещенотатарская. У казанских татар было выделено семь территориальных групп: северо-западная, елабужская, юго-восточная, приуральская, пермская, чепецкая; к казанским татарам из-за недостатка фактического материала, но с определённым обоснованием, были отнесены касимовские, которых Н.И. Воробьев представлял «как бы переход от казанских татар к мишарям». Особенно четкое обоснование принадлежности к казанским татарам получили пермские и чепецкие татары. У мишарей были выделены четыре территориальные группы: окская, правобережная, левобережная (заволжская) и приуральская. Из-за слабой изученности к тому времени традиционной культуры и языка мишарей это внутреннее подразделение, по собственной оценке Н.И. Воробьева, было «до некоторой степени, условным и неокончательным» (Татары, 1967: 46). Позднее исследования этой группы волго-уральских татар Р.Г. Мухамедовой (Мухамедова, 1972) дополнили предложенную им этнокультурную дифференциацию. В среде крещенотатарской общности достаточно обоснованно были обозначены предкамская, восточно-закамская, елабужская, чистопольская, молькеевская, нагайбакская группы. Уточнить некоторые моменты классификации позволили исследования традиционной культуры кряшен, касимовских татар, предпринятые в 1980–1990-е годы прошлого века Ю.Г. Мухаметшиным (Мухаметшин, 1977) и Ф.Л. Шарифуллиной (Шарифуллина, 1991).
Особенно четко обозначить все достоинства и значимость этнокультурной дифференциации волго-уральских татар и внести в нее дополнительные коррективы позволило полномасштабное обследование в рамках «Историко-этнографического атласа татарского народа». В этнорегиональном аспекте были изучены и в разные годы опубликованы тома атласа: «Хозяйство» Н.А. Халиковым (Халиков, 1995), «Ткачество» Ф.Ш. Сафиной (Сафина, 1996), «Костюм» С.В. Сусловой и Р.Г. Мухамедовой (Суслова, Мухамедова, 2000), «Обряды и праздники» Р.К. Уразмановой (Уразманова, 2001), «Этнотерриториальные группы татар Поволжья и Урала» (Этнотерриториальные…, 2002), «Поселения и жилища» Ю.Г. Мухаметшиным и Н.А. Халиковым (Мухаметшин, Халиков, 2011). Авторы этого академического труда в 2003 г. были удостоены звания «Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники».
На основе томов атласа, детально отражающих материальную и духовную культуре этноса, в составе Волго-Уральской историко-этнографической области Д.М. Исхаковым были выделены этнокультурные общности татар различных таксономических рангов: субэтнического уровня, уровней этнографических групп и подгрупп (Исхаков, 2002а: 57). В преамбуле исследователь особо подчеркивает, что такое детальное обоснование этнокультурных таксонов всех уровней возможно лишь на основе картографирования элементов традиционной культуры. В составе этнокультурной области волго-уральских татар им выделяются подобласти – казанско-татарская, мишарская, касимовско-татарская, крещено-татарская и смешанная (с двумя подобластями). Первые три из них Д.М.Исхаков связывает с субэтносами волго-уральских татар, а крещенотатарскую – с субконфессиональной общностью кряшен. Первичными подобластями являются казанско-татарская и мишарская. Касимовско-татарская в эту группу относится лишь с оговорками. Остальные подобласти отнесены исследователем к числу вторичных. Особенностью крещено-татарской подобласти является отсутствие у нее сплошной территории, что связано с историей образования группы крещеных татар (Исхаков, 2002б: 63–69). В целом, было уточнено место татар-мишарей, касимовских татар и кряшен в структуре татарского этноса.
Казанская этнографическая семья. 2002 г. Сидят – Р.Н. Мусина, С.В. Суслова, Р.Г. Мухамедова, Р.К. Уразманова, Е.П. Бусыгин, З.Н. Сайдашева. Стоят – И.Р. Газизуллин, Н.А. Халиков, Ф.Л. Шарифуллина, Л.С. Токсубаева, Д.М. Исхаков, З.Н.Яруллина, Л.В. Сагитова, В.И. Яковлев, Ф.Ф. Гулова, Т.А. Титова, Р.Б. Тагиров, Г.Р. Столярова.
Лауреаты Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники. 2003 г. Сидят – Р.К. Уразманова, Р.Г. Мухамедова, С.В. Суслова. Стоят – Д.М. Исхаков, Р.Н. Мусина, Н.А. Халиков.
Исследования профессора Воробьева явились основой для будущего сравнительно-исторического изучения материальной культуры казанских татар и кряшен. Причину различий в комплексах их этнической культуры он видел не в «разном происхождении, а в различных культурных влияниях, связанных с разностью религий, под которыми находились эти группы в продолжение более трех столетий» (Воробьев, 1929: 16).
В своих исследованиях ученый вплотную подошел к пониманию важности изучения материальной культуры на базе типологической классификации элементов культуры, особенно таких важных категорий, как жилище, одежда, ткачество. Разработка и применение принципов типологической классификации становится методологической основой этнологических исследований значительно позднее (Чеснов, 1979: 195), особенно, при составлении историко-этнографических атласов. Использование типологических подходов к систематизации фактического материала позволяет исследователям показать устойчивые разновидности этнической культуры в динамике, наметить истоки и аналоги им у других народов и тем самым выйти на решение вопросов, связанных с генезисом традиционных культур.
Типологические наработки Н.И. Воробьева явились отправными при изучении важной категории, связанной с исследованием усадьбы, жилища, его внешнего оформления и внутреннего интерьера. Его статья, посвященная вопросам типологии сельских жилищ, была опубликована в «Вестнике научного общества татароведения» еще в 1926 г. (Воробьев, 1926). На рубеже веков появляется серия фундаментальных работ по этнографии татарского жилища с применением его наработок, в том числе упомянутый выше том атласа (Мухаметшин, Халиков, 2011) и кандидатская диссертация Д.Н. Сулеймановой «Интерьер жилища волго-уральских татар: развитие и этнокультурная специфика» (Сулейманова, 2007).
Труды Н.И. Воробьева явились основополагающими в деле типологического изучения ткачества волго-уральских татар. В 30-е годы XX столетия в статье по ткачеству чепецких татар (Воробьев, 1930: 181–183) он впервые описал древний «примитивный», практически вышедший из употребления тип горизонтального стана с неразвитой рамой. Фиксация этого типа в бытовой культуре татар – заслуга Николая Иосифовича. Позднее в соответствующих разделах его основных монографий были даны описания трех типов ткацких станов, бытующих у татар Заказанья, причем типологическое описание традиционного татарского стана стало первым; большое внимание уделилось технике и инструментарию прядения, приемам обработки волокон, орудиям ткачества (Воробьев, 1953: 112–117). Ф.Ш. Сафина – автор тома «Ткачество» отмечала, что «важной заслугой Н.И. Воробьева был примененный им метод сравнительно-исторического анализа компонентов ткачества» (Сафина, 1996: 11), то есть типологический метод.
Указанные подходы Н.И. Воробьева четко просматриваются в главах его трудов, посвященных изучению традиционной одежды и украшений татарского народа – важнейшей символически-знаковой категории этнических культур. На обширном фактическом материале он не просто описывает предметы костюма, а систематизирует их, выделяя типичные элементы. Исследователь стремится преподнести устойчивые элементы (типы) в динамике, проследить эволюцию их форм и конструкций, наметить истоки и аналоги им у соседних и отдаленных народов Евразии. Так он определяет круг вопросов, связанных с выявлением и изучением векторов этно- и культурогенеза татарского народа. Эта работа была затруднена в силу недостаточной на тот период изученности костюма волго-уральских татар, особенно, с точки зрения его этнолокальных и региональных особенностей. Все важнейшие идеи и практические наработки Николая Иосифовича в области типологии татарского костюма использованы в трудах его учеников и последователей, в том числе, в томе атласа «Народный костюм» (Мухамедова, 1972; Суслова, 1980; Суслова, Мухамедова, 2000).
Труды Николая Иосифовича являются отправными для исследований самых различных видов народного декоративно-прикладного творчества (ткачества, вышивки, ювелирного дела и др.). Знаковой в этом отношении представляется его совместная с Е.П. Бусыгиным работа «Художественные промыслы Татарии в прошлом и настоящем» (Воробьев, Бусыгин, 1957), инициирующая начало подобных изысканий в разных районах Среднего Поволжья.
* * *
Важнейшая роль в формировании академического татароведения в отечественной этнологии принадлежит выдающемуся ученому начала-середины XX в. профессору Н.И. Воробьёву. Своими трудами он заложил основы системного подхода к изучению культуры и быта народа, особенно, референтной группы этноса – казанских татар. Использование данных смежных исторических и географических дисциплин позволило исследователю поставить и решить ряд важных вопросов этнокультурной истории татарского народа. В знаковой его монографии «Казанские татары» (1953) особое внимание обращается на тесную корневую их связь с местной Булгарской цивилизацией – этнокультурной предысторией народа. Системность подхода заключалась в создании Н.И. Воробьевым первой обоснованной этнокультурной дифференциации волго-уральских татар, в основу которой были положены изученные на тот период времени культурно-бытовые и языковые различия внутри татарского этноса. Она проявилась и в применении типологических подходов к классификации этнографического материала, что позволяло ученому рассмотреть устойчивые разновидности материальной культуры (типы) в динамике, наметить аналоги им у других соседних и отдаленных этносов Евразии и выйти тем самым на решение вопросов, связанных с этно- и культурогенезом татар. Системный подход Н.И. Воробьева впоследствии был применен и усовершенствован в исследованиях и научно-организационной деятельности его учеников и последователей. Его фундаментальные труды по этнографии волго-уральских татар заложили основу формирования тюрко-татарского вектора академической этнологии в Волго-Уральском регионе России. Они – бесценный источник для современных и будущих поколений исследователей.
Конфликт интересов
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests
The author declares no relevant conflict of interests.
Об авторах
Светлана Владимировна Суслова
Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан
Автор, ответственный за переписку.
Email: sv_suslova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5950-8576
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнологических исследований
Россия, КазаньСписок литературы
- Бусыгин Е.П., Зорин Н.В. Этнография в Казанском университете. Казань: Изд-во КГУ, 2002.
- Бусыгин Е.П., Зорин Н.В., Терентьева Л.Н. Николай Иосифович Воробьев // Советская этнография. 1968. №1. С. 203–205.
- Воробьев Н.И. Жилища и поселения казанских татар Арского кантона ТАССР // Вестник научного общества татароведения. 1926а. №4. С. 17–35.
- Воробьев Н.И. Казанские татары (этнографическое исследование материальной культуры дооктябрьского периода). Казань, 1953.
- Воробьев Н.И. Некоторые данные по быту крещеных татар (кряшен) Челнинского кантона ТАССР // Вестник научного общества татароведения. 1927. № 7. С. 160–168.
- Воробьев Н.И. Некоторые данные о технике вышивок казанских татар // Материалы Центрального музея ТАССР. 1928. №2. Казань.
- Воробьев Н.И. Кряшены и татары (некоторые данные по сравнительной характеристике быта) // Труд и хозяйство. 1929. №5. С. 12–24.
- Воробьев Н.И. Материалы по быту русского старожильческого населения Восточной Сибири: Население Причунского края (Енисейск. губ.) // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском Императорском университете. Т. 33. Вып. 2–3. Казань, 1926б. С. 59–112.
- Воробьев Н.И. Материальная культура казанских татар: опыт этнографического исследования. Т. 2. Казань: Издание Дома татарской культуры, 1930.
- Воробьев Н.И. Происхождение казанских татар по данным этнографии // Советская этнография. 1946. № 3. С. 75– 86.
- Воробьев Н.И. Ткачество у глазовских татар // Вестник научного общества татароведения. 1930. № 9–10. С. 181–183.
- Воробьёв Н.И. Этнические группы татар Среднего Поволжья и Приуралья // Итоговая сессия Казанского ИЯЛИ АН СССР за 1963 г. Краткое содержание докладов. Казань,1964. С. 44–48.
- Воробьев Н.И., Бусыгин Е.П. Художественные промыслы Татарии в прошлом и настоящем. Казань: Гос. Музей Татар. АССР, 1957.
- Воробьев Н.И., Хисамутдинов Г.М., Юсупов Г.В. Историко-этнографические исследования населения северо-западных районов Башкирии // Советская этнография. 1962. № 6. С. 124–129.
- Донина Л.Н., Суслова С.В. Татарское ювелирное искусство: о проявлениях татаро-русской синкретичности в ремесленных традициях Казанского Поволжья // Историческая этнология. 2018. Т. 3. №1. С. 69–80. https://orcid.org/10.22378/he.2018-3-1.69-80
- Исхаков Д.М. Общие методологические аспекты проблемы структуры этноса // Этнотерриториальные группы татар Поволжья и Урала и вопросы их формирования. Казань, 2002а. С. 52–62.
- Исхаков Д.М. Проблемы этнокультурной дифференциации волго-уральских татар // Этнотерриториальные группы татар Поволжья и Урала и вопросы их формирования. Казань, 2002б. С. 63–69.
- Мусина Р.Н. Суслова С.В. Н.И. Воробьев и его вклад в этнографию татарского народа // Этнос. Общество. Цивилизация: Кузеевские чтения. Материалы Всероссийской научной конференции. Уфа, 2012. С. 299–302.
- Мухамедова Р.Г. Татары-мишари. Историко-этнографическое исследование. М.: Наука,1972.
- Мухаметшин Ю.Г. Татары-кряшены. Историко-этнографическое исследование материальной культуры (середина Х1Х – начало ХХ в.). М.: Наука,1977.
- Мухаметшин Ю.Г., Халиков Н.А. Усадьба тюркских народов: сельское жилище татар Поволжья и Урала (конец XIX – начало XX вв.). Историко-этнографический атлас татарского народа. Серия «Современная тюркология». Астана: Полиграфия, 2011.
- Решетов А.М. Репрессированная этнография: люди и судьбы // Кунсткамера. Этнографические тетради. Вып. 4. СПб: 1994. С. 185–221.
- Сафаргалиев М.Г. О книге Н.И. Воробьева «Казанские татары» // Советская этнография. 1954. № 3. С. 171–172.
- Сафина Ф.Ш. Ткачество татар Поволжья и Урала (конец XIX– начало XX вв.). Историко-этнографический атлас татарского народа. Казань: «Фән», 1996.
- Синицына К.Р. Музейное строительство в Татарской АССР (1917–1967): Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата исторических наук: Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина. Казань, 1970.
- Смирнов А.П. Н.И. Воробьев. Казанские татары // Советская этнография. 1954. № 3. С. 168–171.
- Сулейманова Д.Н. Интерьер жилища волго-уральских татар: развитие и этнокультурная специфика : автореферат дисс. кандидата исторических наук. Чебоксары. 2007.
- Суслова С.В. Женские украшения казанских татар середины XIX – начала XX в. Историко-этнографическое исследование. М.: Наука, 1980.
- Суслова С.В. К 95-летию Рамзии Гиниатовны Мухамедовой // Историческая этнология. 2018. Т.3. № 2. С. 361–374.
- Суслова С.В. Мухамедова Р.Г. Народный костюм татар Поволжья и Урала (середина XIX – начало XX вв.). Историко-этнографический атлас татарского народа. Казань: «Фән», 2000.
- Татары Среднего Поволжья и Приуралья / Отв. ред. Н.И. Воробьев, Г.М. Хисамутдинов. М.: Наука, 1967.
- Татары. Серия «Народы и культуры» / Отв. ред. Р.К. Уразманова, С.В. Чещко. М.: Наука, 2001.
- Уразманова Р.К. Обряды и праздники татар Поволжья и Урала (Годовой цикл XIX-XX вв.). Историографический атлас татарского народа. Казань: Изд-во ПИК «Дом печати», 2001.
- Усманов М.А. Несколько слов об историко-этнографических трудах Карла Фукса (предисловие) // Казанские татары. Репринтное воспроизведение трудов К. Фукса. Казань, 1991. С. 5–10.
- Фасхутдинова Л.Ф. Золотное шитьё татар-мишарей: особенности техники и орнамента // Этнографическое обозрение. 2015. №4. С. 169–176.
- Фасхутдинова Л.Ф. К вопросу об этнокультурных параллелях в татарском и русском золотном шитье // Этнологические исследования в Татарстане. Вып. V. Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2011. С. 98–109.
- Чеснов Я.В. О принципах типологии традиционно-бытовой культуры // Проблемы типологии в этнографии. М.: Наука, 1979. С. 189–203.
- Шарифуллина Ф.Л. Касимовские татары. Казань: Татарское кн. изд-во, 1991.
- Этнотерриториальные группы татар Поволжья и Урала и вопросы их формирования. Историко-этнографический атлас татарского народа. Казань: ПИК «Дом печати», 2002.
- Юсупов Г.В. Булгаро-татарская эпиграфика и топонимика как источник исследования этногенеза казанских татар // Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. Казань, 1971. С. 217–232.
- Юсупов Г.В. Татарские эпиграфические памятники XV в. (к вопросу о происхождении казанских татар) // Эпиграфика Востока. Вып. V. М., 1951. С. 78–94.
- Яковлев В.И. Казанская этнографическая школа: историографический контекст // Бусыгинские чтения. Вып. 9. Народы в поликультурном взаимодействии. Материалы Международной научно-практической конференции. 5 декабря 2016 года. Казань, 2016. С. 3–9.
Дополнительные файлы