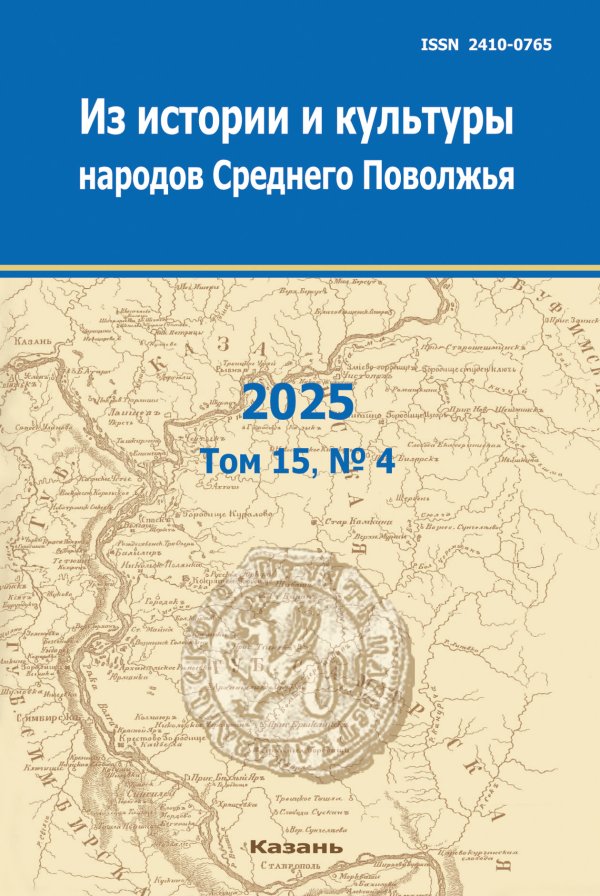Татарское крестьянство Башкирской АССР в 1920–1950-е годы
- Авторы: Галлямова А.Г.1
-
Учреждения:
- Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
- Выпуск: Том 13, № 2 (2023)
- Страницы: 83-94
- Раздел: Статьи
- Статья опубликована: 05.07.2023
- URL: https://bakhtiniada.ru/2410-0765/article/view/349534
- DOI: https://doi.org/10.22378/2410-0765.2023-13-2.83-94
- EDN: https://elibrary.ru/QKUPIM
- ID: 349534
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье показаны тенденции, факторы изменений в численности, жизнедеятельности сельских татар БАССР в 1920-е–1950-е гг. История татарского крестьянства Башкортостана в советский период неотделима от истории крестьян России в целом. В результате сложных, неоднозначно трактуемых этногенетических процессов к началу ХХ в. демографическое большинство северо-запада и запада современного Башкортостана составляли татары. По переписи 1926 г. было зафиксировано значительное число башкир, считавших своим родным языком татарский язык. Перепись 1939 г. зафиксировала очень маленький прирост башкирского населения, при том, что показатели роста численности татар были выше средних показателей роста общей численности населения по республике. Количественный состав татарских крестьян этого региона за освещаемый период уменьшался более низкими темпами относительно селян других национальностей этого региона. К концу 1950-х гг. главную тенденцию в изменении демографической картины татарского сельского населения в Башкирской АССР определяли миграция и сокращение численности. Они были обусловлены высокими темпами индустриализации экономики республики и второстепенным отношением государства к развитию аграрной отрасли. По степени урбанизированности татары занимали промежуточное положение между русскими и башкирами.
Полный текст
История татарского крестьянства Башкортостана неотделима от истории крестьян России в целом. Особенно это утверждение справедливо в отношении советского периода, когда на всей территории огромной страны утвердилась единая система тотального огосударствления в аграрной отрасли, мелочной регламентации всех сторон жизни деревенских жителей. К началу 1980-х гг. около половины населения республики жило в сельской местности. Более того, если по численности населения Башкирская АССР (БАССР) занимала шестое место среди областей, краев и автономных республик России, то по количеству сельских жителей – второе, уступая лишь Краснодарскому краю [5, с.57].
К концу советского периода в сельском населении Башкирской АССР третью часть составляли татары (33,2% в 1989 г.), это чуть меньше доли башкир (34,9% в 1989 г.) и намного больше удельного веса русских (18,4% в соответственный период) [8, с.16]. Весомость сельских татар Башкортостана была вполне зрима с учетом их представленности в общей численности татарского народа. Из татар, живших за пределами Татарской автономной республики, наибольшая часть их была сосредоточена в Башкирской АССР. В 1989 г. их здесь насчитывалось 1120,7 тыс. человек, в то время как башкир – 863,8. В процентном отношении это составляло соответственно – 28,4% и 21,9% [3, с.26]. Около полумиллиона татар БАССР являлись сельскими жителями.
Заселение татарами территории, принадлежащей сегодня Башкортостану, началось еще в средние века. Значительную динамику этот процесс приобрел в XVII–XIX вв. В результате сложных, неоднозначно трактуемых этногенетических процессов к началу ХХ в. демографическое большинство северо-запада и запада современного Башкортостана составляли татары (34% – в северо-западном Башкортостане и 44% – в западном). В сельской местности преобладание татарского населения было еще более выраженным (соответственно 33 и 53%) [4, с.23].
Образование Башкирской (1919 г.) и Татарской автономных республик (1920 г.), резкое изменение социально-экономических условий, связанное с Великой российской революцией 1917 г., являлись важными политическими факторами этногенетических процессов в развитии приуральских татар. По переписи 1926 г. было зафиксировано значительное число башкир, считавших своим родным языком татарский язык. Так, из общей численности башкир в 626 тыс. человек (округлено мною. – А.Г.) 137 тыс. мужчин и 150 тыс. женщин в качестве родного назвали татарский язык. В то время как среди 462 тыс. татар башкирский в качестве родного признавали всего 360 мужчин и 734 женщины. В переписи 1926 г. отдельно выделялись этнографические группы мишарей и тептярей. Самая большая группа, признававшая в качестве родного башкирский язык, была среди мишарей. Из их общего количества в 136 тыс. человек таких насчитывалось 3,2 тыс. мужчин и 3,6 тыс. женщин. Но это было намного меньше, чем тех мишарей, которые своим родным языком признавали татарский: соответственно 61 тыс. мужчин и 68 тыс. женщин [2, с.11].
Перепись 1939 г. зафиксировала очень маленький прирост башкирского населения, при том, что показатели роста татарского населения были выше средних показателей общего роста численности по республике. Так, если рост всего населения составил 118%, то башкир – 107%, а татар – 125% [1, с.70].
Большое число башкир с татарским родным языком в середине
1920-х гг. и низкий по сравнению с общей численностью прирост башкир являются достаточными основаниями признания незавершенности процесса этногенеза татар в этом регионе в тот период. Однако в 1930-е гг. вполне четко определялся регион Башкортостана, в котором преобладало татарское население. Это Кушнаренковский, Аургазинский, Чекмагушевский, Буздякский, Кармаскалинский, Туймазинский, Миякинский, Балтачевский, Чишминский, Топорнинский, Нуримановский районы. Географически все они находились на северо-западе и западе Башкирской АССР.
К началу 1940-х гг. в социальной структуре татар республики по-прежнему преобладали крестьяне, они составляли 74% от их общей численности. Примерно такая же картина была и у других народов Башкирии: 77% – у башкир, 82% – у марийцев, 80% – у чувашей. То обстоятельство, что доля крестьян среди татар была все-таки ниже по сравнению с другими этносами, отчасти объясняется тем, что, как выявили башкирские ученые, коллективизация в татарских селениях осуществлялась более низкими темпами по сравнению с регионами проживания других этносов. Так, к ноябрю 1932 г. во всех районах с преобладанием башкирского населения в колхозах состояло 70,5% крестьянских хозяйств, в татарских районах – 56,8%, в русских – 62,9%.
Эту особенность башкирские ученые объясняют рядом причин:
- сравнительно большим удельным весом бедноты среди башкирских крестьян и относительной малочисленностью зажиточных слоев среди них;
- совпадением коллективизации с продолжавшейся хозяйственной реорганизацией башкир (переходом от скотоводства и кустарных промыслов к земледелию);
- большей материально-технической помощью государства башкирской бедноте в период становления колхозной системы и наибольшим развитием совхозной системы в Зауралье [1, с.81].
В послевоенный период вычленить и охарактеризовать особенности жизни татарских крестьян Башкирской АССР представляется почти невозможным. Повсеместно российская деревня пребывала в состоянии крайней нищеты, производство сельскохозяйственной продукции топталось на месте. Первые 5–7 лет мирного времени, приходившиеся на последний период сталинского правления, по сути дела представляли собой ту же модель развития, что и в 1930-е гг. Предпринимавшиеся государством меры по ужесточению контроля над деятельностью колхозов и совхозов если и приносили, то лишь кратковременный эффект. Антикрестьянская политика не способствовала прогрессу в аграрной экономике.
В октябре 1946 г. Башкирская автономия была подвергнута критике на страницах газеты «Правда» за «нетерпимое отставание в хлебосдаче». На 10 сентября план хлебозаготовок республикой был выполнен только на 35,6%, что означало разницу от плановых цифр почти в 1,5 раза. Интересно отметить такую деталь. В принятом в связи с недостатками, отмеченными в статье, Постановлении Башкирского бюро обкома ВКП(б) и Совета Министров БАССР, среди названных особенно неблагополучных 14 районов только один являлся с преобладающим татарским населением – Буздякский район. Основная часть районов относилась к региону преобладающего проживания русских1.
В послевоенные 1940-е гг. крестьянство Башкирии, как и России в целом, тяготело к самостоятельному хозяйствованию. В нем оживилась надежда, что власти ответят благодарностью за их неимоверный труд в годы войны. В чрезвычайно усложнившихся условиях военного лихолетья власти вынуждены были закрывать глаза на то, как организован труд крестьян, лишь бы они справлялись со своей основной задачей – производством продовольствия. Это проявилось в том, что колхозная система тогда отчасти была дезавуирована такими мероприятиями, как раздача колхозной собственности. В первые послевоенные годы крестьяне не спешили возвращать в колхозы земельные участки и скот.
Но, избавившись от внешнего врага, сталинское руководство с новой силой взялось за «наведение порядка» в деревне. В фондах архива Башкирского обкома ВКП(б) за 1946–1950-е гг. довольно часто встречаются материалы, касающиеся административных мер по изъятию земли и скота в пользу колхозов2. Все они возникли в ходе выполнения постановления ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельхозартели». Стремление к самостоятельному хозяйствованию на земле было столь живуче, что и в начале 1950-х гг. отмечались случаи невозвращения в колхозы общественной собственности. Так, в Башкирской АССР в 1950 г. в 1676 колхозах 50 районов было выявлено 7730 случаев захвата колхозных земель на площади 1500 га. Особо отличившимися в этом отношении оказались Балтачевский, Калтасинский, Аургазинский, Шаранский районы. В колхозах Благоварского, Балтачевского, Альшеевского и Шаранского районов были вскрыты многочисленные факты, когда крестьянские дворы расширяли свои приусадебные участки за счет земель колхозов3. В большинстве из этих районов преобладающим было татарское крестьянство.
Селяне всячески сопротивлялись внеэкономическим методам принуждения к колхозному труду. Так, в 1949 г. в Башкирской АССР более 72 тыс. трудоспособных колхозников (13,4% к их наличию) не выработали установленного минимума трудодней, в то время как колхозы израсходовали 2,8 млн руб. на оплату наемной рабочей силы4. На примере Дюртюлинского района, большинство населения которого составляли татары, наглядно видно, что в начале 1950-х гг. колхозная система организации труда была непопулярна. В 1949 г. в указанном районе было выявлено 804 случая самовольного захвата общественных земель колхозов на площади 49,5 га. В то же время 1688 трудоспособных колхозника и 511 подростков не выработали установленного минимума трудодней, а более 1 тыс. трудоспособных колхозников и подростков не выработали ни одного трудодня. Вследствие неудовлетворительного участия колхозников в общественном труде средняя выработка на одного трудоспособного составила всего лишь 201 трудодень. Во многих колхозах района существовала практика авансирования колхозников натурой и деньгами без учета выработанных ими трудодней, что, в частности в 1949 г. привело к задолженности колхозниками 6,4 тыс. зерна, 106 тыс. рублей. Это было закономерным следствием дестимулирующего характера труда в колхозах. В том же 1949 г. в Дюртюлинском районе колхозникам не было своевременно выплачено 5155 ц хлеба и 183 тыс. руб.5
Отсутствие экономического интереса крестьян к общественному труду привело сельскохозяйственное производство в колхозах и совхозах страны к критическому состоянию. В Башкирской республике даже к 1953 г. довоенный уровень по посевным площадям, валовому сбору зерна и поголовью скота еще не был достигнут [10, с.197]. Тщетность насильственных методов управления аграрной сферой, массовое бегство крестьян из деревни заставили власти сменить модель отношения к крестьянам.
В первые годы хрущевского правления наметились определенные положительные изменения в сельскохозяйственном производстве. Хотя по-прежнему предпочтение отдавалось крупным коллективным хозяйствам, государственная политика была направлена на некоторое расширение их самостоятельности, попытки внедрения некоторых экономических рычагов управления. На основании решений сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС, который рекомендовал выдавать колхозникам авансом 25% денежных средств, поступающих от реализации скота и продуктов животноводства, многие колхозы ввели дополнительную оплату работникам животноводства. Насколько можно судить по имеющимся источникам, ежемесячное авансирование успешно применяли колхозы им. Чапаева Кармаскалинского, «Урал» Дюртюлинского, «Коммуна», им. Фрунзе, им. Тимирязева Буздякского [6, с.86]. Все они относились к районам компактного проживания татар. Чишминский район, где преобладало татарское население, выступил в 1950-е гг. с обращением колхозников ко всем работникам животноводства, специалистам сельского хозяйства и заготовительных организаций Башкирии развернуть социалистическое соревнование за увеличение производства мяса, молока и в других районах [6, с.89].
К концу 1950-х – началу 1960–х гг. по всей стране ощутимо замедлился наметившийся было рост сельскохозяйственного производства. С целью прорыва в животноводческой отрасли в конце 1950-х гг. в аграрной политике СССР был провозглашен лозунг «Догоним и перегоним Америку по производству мяса и молока». В Башкирской АССР, так же, как и по всей стране, начались шумные кампании по достижению нереально высоких темпов наращивания валовых показателей по мясопоставкам. Инициировавшаяся сверху гонка за валовыми показателями приводила к вопиющей бесхозяйственности, граничившей с безнравственностью. К примеру, ради перевыполнения плана колхозы Балтачевского района сдали на Янаульский мясокомбинат 10 коров, пригодных к воспроизводству, более того, 2 из которых отелились прямо у ворот мясокомбината6. Не претендуя на абсолютную точность, отметим, что косвенные свидетельства показывают, что данное явление наблюдалось большей частью в районах наименее компактного проживания татар. Так, в постановлении бюро Башкирского обкома КПСС и Совета Министров Башкирской АССР от 9 мая 1960 г. отмечались следующие районы, допустившие большой падеж скота: Кугарчинский, Хайбулинский, Покровский, Бирский, Федоровский, Абзелиловский, Благовещенский, Баймакский, Мелеузовский, Юмагузинский, Стерлитамакский7. Все эти районы являлись территорией преобладающего проживания русских или башкир. Эти же районы в другом постановлении обкома фигурируют в качестве нарушителей порядка закупок у населения личного скота, т. е. закупая у населения молодняк, они, чтобы рассчитаться с государством, сразу сдавали его на мясокомбинат вместо того, чтобы оставлять его на доращивание8.
В связи с анализируемым вопросом любопытно привести фрагмент выступления на ХI Пленуме Татарского обкома КПСС Первого секретаря С.Д. Игнатьева, проходившем в январе 1960 г. Говоря о выполнении плана мясопоставок в Татарской АССР, Игнатьев предостерегал: «Сегодня товарищи рассказывают, что в наших восточных районах – Мензелинском, Актанышском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском и немного глубже – в Сармановском уже появились башкирские лазутчики, ищут где плохо лежит или стоит, нельзя ли купить и через Ик переправить. Будете моргать, не только без телят, без штанов останетесь. Я знаю, какой там народ, они могут и штаны спустить, если будете плохо себя вести. Это очень настойчивый и активный народ»9.
В 1950-е гг. деревня не обеспечивала идентичных с городскими условий жизни, сокращались ее продовольственные ресурсы, порождая серьезную проблему обеспечения ими населения. Вот несколько примеров писем в республиканскую газету «Советская Башкирия» из районов преобладающего проживания татар. Читатель Г.Юзыкаев сообщает: «В Калтасях, чтобы купить один килограмм хлеба, надо простоять не менее одного часа в очереди. Хлеба выпекают очень мало, только одного сорта, его всегда не хватает. К концу рабочего дня хлеба уже не купишь. Бывают дни, когда совсем нет в продаже хлеба. Даже клиенты чайной не могли получить хлеб к обеду». Другой читатель из Чишмов сообщает: «У нас неблагополучно с продажей печеного хлеба. Целыми часами приходится стоять в очереди, а временами уходишь и без хлеба. Хлебного магазина в поселке нет. Имеются лишь хлебные отделы в продовольственных лавках. Хлеб в продаже некачественный, пресный, свежего не бывает и нет плановых поставок хлеба в магазины. То один день торгуют лишь черным хлебом, а другой день – только белым. Хлебобулочные изделия бывают только по большим праздникам и то некачественные. Большинство жителей берет хлеб после рабочего дня, а в этот момент его не бывает. Руководителей района это не беспокоит, ибо совсем не приходится стоять в очереди за хлебом»10.
Анализ архивных материалов показывает, что существовала большая неудовлетворенность не только низким уровнем продовольственного обеспечения, но и промышленными товарами. Так, читатель Р. Булатов из Ермекеевского района сетует: «Кто часто ездит в Уфу или в другие города, тот одевает своего ребенка нормально. А мы не имеем такой возможности. В местном магазине нет почти товаров для детей. …Вот год, как я жду, когда в магазин привезут мужские теплые боты»11.
Все это наряду с экстенсивным наращиванием форсированными темпами индустриальной мощи в городах, обеспечивающим много рабочих мест на промышленных предприятиях, определяло характер урбанизационных процессов в целом по стране. На Западе из деревни в город «выталкивалась» лишняя рабочая сила в результате естественного прироста населения и, главным образом, за счет повышения производительности аграрного труда. В результате в сельской местности оставались наиболее крепкие крестьяне, выдерживавшие жесткую конкуренцию в системе сельскохозяйственного производства. В СССР же конкуренция существовала в борьбе за право местожительства в городе. Она приводила к тому, что на селе оставались, так сказать, побежденные, а не победители.
Татарские крестьяне проявили достаточно высокие адаптационные способности к городской среде обитания. За 1939–1959 гг. доля татар среди городского населения БАССР выросла в 3,3 раза. Это было меньше, чем у марийцев (4,2 раза), но чуть больше, чем у чувашей (3,2 раза) и заметно выше, чем у башкир (2,3 раза) и мордвы (2,1 раза). В результате высоких темпов миграции нерусских селян в города в 1940–1950-е гг. среди горожан Башкирии была существенно снижена доля русских (с 70,9% в 1939 г. до 63,8% в 1959 г.) и значительно выросла доля татар (соответственно с 13,5% до 19%). Доля башкир среди горожан в указанный период изменилась в меньшей степени (соответственно с 7,2% до 7,9%) [2, с.18].
В целом к концу 1950-х гг. по-прежнему в социальной структуре Башкирии преобладало колхозное крестьянство, но за 1940–1950-е гг. наметились четкие различия по отдельным национальностям. Если в 1939 г. удельный вес селян по всем этносам был приблизительно на одинаковом уровне (74% – у татар, 77% – у башкир, 80% – у чувашей, 82% – у марийцев), то в 1959 г. разброс относительно среднего показателя стал более заметным. У башкир доля сельского населения сократилась на 15%, составив около 62% в 1959 г., у татар она снизилась на 25%, сблизившись со средним показателем по республике, которые соответственно составляли 48,8% и 41%.
Башкирское крестьянство в 1959 г. в общей численности крестьянства республики составляло 32%, татарское – 28%, в то время как в общей численности населения их представительство выглядело: 22%, 23% [Подсчитано нами: 2, с.18–19]. Разница относительно среднего показателя доли крестьян в социальной структуре республики у башкир составляла 21%, у татар – 8% с плюсовым показателем, у русских же оказалась на 21% ниже среднего уровня.
Наиболее высокие темпы урбанизации среди русских легко объяснимы. Русским при переезде в город не приходилось менять этническую среду общения, остальным же народам нужно было выбирать между лучшими социально-бытовыми условиями в городе и привычными социально-культурными условиями на селе. Сдерживающим фактором при смене местожительства для татар, так же, как и других нерусских народов, был фактор качества знания ими русского языка. Хорошее владение им давало преимущества в получении образования, которое в свою очередь предоставляло лучшие перспективы в приобретении более высокого социального статуса.
Это подтверждается статистическими данными. По данным переписи 1959 г. в национальном составе городских служащих превалировали русские. Если в среднем они составили 58% всех служащих, то в промышленности – 74%, строительстве – 69%, транспорте – 73%, науке – 71%. Среди же работников умственного труда на селе их доля была значительно ниже среднего уровня – соответственно 36%, в то время как у татар и башкир значительно выше. Так, если в среднем татары составили 18% всех служащих, то в колхозах их было 27%, просвещении – 22%, также их доля превзошла средний показатель в торговле (24%), управлении (23,5%). Все эти показатели у татар были выше, чем у служащих среди башкир: в целом по народному хозяйству – 11%, в колхозах – 23%, в просвещении – 22%, управлении – 17,6% [1, с.160].
В профессиональном отношении татарское крестьянство Башкирской автономии представляло в конце 1950-х гг. типичную для республики картину: большинство занятого в сельском хозяйстве населения не имело никакой кадровой подготовки. У татарских крестьян показатель неквалифицированной рабочей силы в общественном производстве точно совпадал со среднереспубликанским – 76%. Такой же показатель был у чувашей. Данный показатель был чуть лучше у русских – 73%, у башкир чуть хуже – 79% [1, с.165].
Численность жителей русских, татарских и башкирских сел и деревень в 1940–1950-е гг. по территории Башкирской автономной республики изменялась неравномерно. Численность русских крестьян сократилась во всех без исключения северных, центральных, западных и юго-западных районах республики. Причем в некоторых из них суммарное сокращение численности русских сел и деревень составило 40–50 и более процентов. На северо-востоке и юго-востоке Башкортостана это сокращение было менее значительным, а в некоторых районах (Мечетлинский, Абзелиловский, Баймакский) наблюдался даже рост численности русского населения, что было связано с организацией здесь в 1939–1959 гг. значительного числа зерносовхозов на целинных и залежных землях [7, с.113]. Щедрое субсидирование этих районов привлекало русских и не только крестьян, но и жителей городов, хотя активные миграционные потоки увлекали за собой представителей и других народов, в том числе и татар. Численность башкир в западных и центральных районах сократилась на 20%, хотя в целом по республике наблюдался ее рост.
Общая численность татарских крестьян Башкирии за период с 1939 по 1959 г. уменьшалась более низкими относительно селян других национальностей темпами в северо-западных, западных и юго-западных районах Башкирской АССР. Если в 25 районах республики число жителей в деревнях с русским, украинским, белорусским и мордовским населением сократилось в среднем на 35–40%, то в деревнях с татарским и чувашским населением – на 25–30%. Максимальный прирост населения (14,8%) был отмечен в Буздякском районе (преобладающее население – татарское), а максимальная убыль в Стерлитамакском районе (преобладающее население – русское) [7, с.119].
До конца 1950-х гг. в Башкирской АССР в связи с бурным ростом промышленности село являлось как бы источником кадрового обеспечения индустриального развития и строительства. В этот период сеть городских поселений вызвала наиболее высокие темпы сокращения сельского населения в первую очередь непосредственно в районах, подвергшихся урбанизации. В Башкирии это были, прежде всего, районы с преобладанием русского крестьянства, хотя сюда же попадали и районы компактного проживания татарских крестьян: Чишминский, Кушнаренковский, Буздякский, Благоварский, Ермекеевский и ряд других [9, с.68].
Таким образом, к концу 1950-х гг. главную тенденцию в изменении демографической картины татарского сельского населения в Башкирской АССР определяли миграция и сокращение численности. Они были обусловлены высокими темпами индустриализации экономики республики и второстепенным отношением государства к развитию аграрной отрасли. По степени урбанизированности татары занимали промежуточное положение между русскими и башкирами.
1 Центральный государственный архив общественных объединений Республики Башкортостан (ЦГАОО РБ). Ф.122. Оп.27. Д.223. Л.24–25.
2 ЦГАОО РБ. Ф.122. Оп.27. Д.178. Л.26; Оп.26. Д.64а. Л.33; Оп.30. Д.93. Л.22, 31, 32, 40.
3 ЦГАОО РБ. Ф.122. Оп.30. Д.146. Л.72–73.
4 ЦГАОО РБ. Ф.122. Оп.30. Д.146. Л.74.
5 ЦГАОО РБ. Ф.122. Оп.30. Д.121. Л.32.
6 ЦГАОО РБ. Ф.122. Оп.47. Д.184. Л.32.
7 ЦГАОО РБ. Ф.122. Оп.47. Д.74. Л.32.
8 ЦГАОО РБ. Ф.122. Оп.47. Д.76. Л.9.
9 Государственный архив Республики Татарстан (ГА РТ). П-Ф.15. Оп.41. Д.121. Л.244.
10 ЦГАОО РБ. Ф.122. Оп.47. Д.184. Л.24–25.
11 ЦГАОО РБ. Ф.122. Оп.47. Д.184. Л.27.
Об авторах
Альфия Габдульнуровна Галлямова
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ
Автор, ответственный за переписку.
Email: alfiya1955@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-4344-902X
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела новейшей истории
Россия, КазаньСписок литературы
- Аллагулова Е.М. Социальная структура Башкортостана в 1930–50-е годы: Дисс. … канд. ист. наук. Уфа, 1994. 225 с.
- Башкортостан и башкиры в зеркале статистики [Сб. стат. сведений]. Уфа: ИИЯЛ, 1995. 183 с.
- Башкортостан. Краткая энциклопедия. Уфа: «Башкирская энциклопедия», 1996. 672 с.
- Габдрафиков И. Этнокультурные результаты миграционных процессов в северо-западной Башкирии (конец ХVI – начало ХХ вв.) // Этнологические исследования в Башкортостане: сб. ст. Уфа: УНЦ РАН, 1994. С.22–28.
- География Башкирии. Уфа, 1979.
- Илишев Г.Ш. Деятельность Башкирской партийной организации по развитию сельского хозяйства (1946–1970 гг.). Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1982. 176 с.
- Максимов В.А. География сельской местности (проблемы и методы исследования). Уфа: Изд-во Башкир. ун-та, 1992. 129 с.
- Национальный состав населения Башкирской АССР по результатам Всесоюзной переписи населения 1989 г. Уфа: Республиканский информационно-издательский центр, 1990. 194 с.
- Шеин Ю.П. Тенденции социально-демографических и расселенческих процессов в Республике Башкортостан: Дисс. … канд. социол. наук. Уфа, 1994. 166 с.
- Юлдашбаев Б.Х. Новейшая история Башкортостана. Уфа: «Китап», 1995. 286 с.
Дополнительные файлы