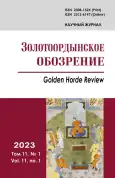Сведения о Крымском ханстве в трактате Адриана де Верди дю Вернуа
- Авторы: Храпунов Н.И.1
-
Учреждения:
- Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
- Выпуск: Том 11, № 1 (2023)
- Страницы: 109-122
- Раздел: Оригинальные статьи
- Статья опубликована: 29.03.2023
- URL: https://bakhtiniada.ru/2308-152X/article/view/349826
- DOI: https://doi.org/10.22378/2313-6197.2023-11-1.109-122
- EDN: https://elibrary.ru/JCUQNK
- ID: 349826
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Целью статьи стало изучение сведений о Крымском ханстве в малоизвестном источнике – сочинении французского «кабинетного» автора Адриана-Мари-Франсуа де Верди дю Вернуа, собравшего и обобщившего различные материалы по истории региона.
Материалом исследования были посвященные Крыму отрывки из трактата «Очерки географии, политики и истории владений императора турок в Европе», опубликованного дважды, в 1784 и 1785 гг. В отечественной историографии данный текст прежде не изучался.
В результате исследования раскрыты подробности творческой биографии де Верди дю Вернуа, свидетельствующие о разнообразии его научных интересов. Установлено, что в работе над анализируемым трактатом француз использовал широкий набор источников – сочинения французских дипломатов и писателей, энциклопедические труды «кабинетных» авторов, карты Северного Причерноморья и государственные документы. Выявлен информационный потенциал французского трактата, рассказывающего о географическом положении и об истории Крымского ханства, его взаимоотношениях с османским султаном и об обстоятельствах, при которых Крым попал под турецкий протекторат, этнической структуре государства, подчиненных хану городских центрах, а также о тех городах, которые принадлежали правителю Турции, об интересах России в Причерноморье и о ходе русско-турецкой войны 1768–1774 гг. Показано место анализируемой книги среди представлений западных интеллектуалов о Крыме, выявлены ошибочные и стереотипные представления.
Полный текст
Введение
В 1784 г. в швейцарском Нёвшателе вышла книга на французском языке под названием «Очерки географии, политики и истории владений императора турок в Европе» [28]. Её автор скрыл своё имя за инициалами, но французские библиографы установили, что им был Адриан-Мари-Франсуа де Верди дю Вернуа (1738–1814). Через год появилось второе издание, почти идентичное первому и даже сохранившее нумерацию страниц. Правда, теперь на титульном листе был указан другой издатель, находившийся в Лондоне и Париже [29]. Здесь же появился подзаголовок: «В качестве продолжения “Мемуаров” барона де Тотта». Имелись в виду записки дипломата и авантюриста Франсуа де Тотта (1733–1793), который несколько лет провел в Турции, а в 1767–1769 гг. был французским консулом в Крымском ханстве. Его воспоминания, впервые опубликованные в 1784 г. [39] и впоследствии не раз переиздававшиеся, произвели сенсацию и завоевали огромную популярность – среди их читателей были, например, Екатерина II [24, р. 156] и Наполеон Бонапарт [40, p. 241–248]. Очевидно, издатель трактата де Верди дю Вернуа хотел привлечь к нему внимание, используя имя де Тотта. Среди прочего, автор изложил краткие, но достаточно информативные сведения о Крыме и его жителях на финальном этапе существования ханства. Однако в историографии данный источник практически не используется. Материалы де Верди дю Вернуа важны не только для изучения истории Крымского ханства, но и для понимания того, как люди Запада, и прежде всего французы, воспринимали Крым и, следовательно, чем могла руководствоваться политическая элита европейских держав в процессе принятия внешнеполитических решений. Цель настоящей статьи заключается во введении в научный оборот соответствующих материалов и их первичном анализе.
Шевалье де Верди дю Вернуа и его трактат
Об авторе трактата известно немногое. Выходец из Франции, он в 1780 г. перебрался в Пруссию, где пользовался покровительством представителей правящей династии и вскоре стал членом Королевской академии наук. Де Верди дю Вернуа опубликовал несколько книг на разные темы, в том числе посвященные военной истории [32], истории конных игр [44], медицинскому значению бань [26] и генеалогии европейских королевских домов [38; 31]. Некоторые из них изданы анонимно. В других, как и в случае с анализируемым трактатом, имя автора скрывают инициалы. Как видно, это был человек самых разнообразных интересов. Его внуком был Юлиус Верди де Вернуа (1832–1810), прусский генерал, военный министр, преподаватель военной академии и автор многочисленных сочинений о военном деле [2, с. 317–318].
Появление анализируемой книги вовсе не удивительно, как и интерес соотечественников автора к Высокой Порте. Начиная с XVI в. Франция рассматривала государство Османов как своего потенциального союзника, поскольку у них был общий враг – державы Габсбургов. Следствием этого стали интенсивные дипломатические контакты, проходившие не только в Константинополе, но и в Бахчисарае, где французские консулы обосновались с начала XVIII в. [20, с. 406–408]. Де Верди дю Вернуа, насколько позволяют судить источники, никогда не был в Крыму. Анализируемый трактат можно отнести к группе сочинений «кабинетных» авторов эпохи Просвещения, в которых собраны разнообразные сведения о Крымском ханстве. Среди последних выделяются труды Иоганна Хюбнера (Гюбнера) [33, S. 337–341], Жозефа Дегиня [25, р. 390–417], Иоганна-Эриха Тунманна [45; ср.: 16] и Йохана-Георга Крюница [36, S. 409–487]. По-видимому, де Верди дю Вернуа использовал если не все, то большую часть этих сочинений, а также читал упомянутый выше травелог де Тотта и труды еще одного французского консула в Крыму – Шарля де Пейссоннеля [42, р. 81–107; 43; ср.: 12]. Судя по тексту, в его распоряжении были какие-то европейские карты Причерноморья. Очевидно, он использовал и другие источники, но весь набор определить достаточно сложно.
Трактат де Верди дю Вернуа об Османской империи состоит из трех частей. В первой описывается география турецкого государства, во второй – военное дело османов, а в третьей – перипетии русско-турецкой войны 1768–1774 гг. Сведения о Крымском ханстве собраны, главным образом, в специальном разделе III.I первой части книги [28, p. 4–17]. Этот раздел в значительной мере написан по материалам Хюбнера: несмотря на то, что те излагали сведения полувековой давности, французскому ученому они казались актуальными. Возможно дело в предубеждении: представителям европейского Запада Восток (Азия) казался местом неподвижным и неизменным во времени [13, с. 322].
Крымское ханство французский ученый назвал «Малой Татарией» (Petite-Tartarie), протянувшейся от Дуная на западе до Дона на востоке и от Крыма на юге до границ Молдавии, Польши и России. Эту страну он противопоставил «Великой Татарии» (Grande-Tartarie) [28, р. 4], которая, по представлениям той эпохи, занимала большую (северную и центральную) часть Азии [18, с. 144–145]. Малую Татарию французский автор разделил на два субрегиона. В северном жили кочевники-ногаи, разделенные на орды, состоявшие из племен, во главе которых стояли мурзы. Границы этой территории определил Белградский договор, завершивший русско-османскую войну 1735–1739 гг. «Согласно этому договору, она простирается от устья Борисфена, или Днепра до устья Дона, или Танаиса, вдоль границ Украины на севере и Черного моря на юге» [28, р. 5, 9]. Южный субрегион включал непосредственно Крымский полуостров, население которого вело оседлый образ жизни [28, р. 5].
Согласно традиции, возникшей на Западе еще во время монгольских завоеваний XIII в., название страны и народа писалось с лишней буквой «р» (Tartarie, Tartares), чтобы подчеркнуть их «связь с преисподней», Тартаром древнегреческих мифов. Фобия оказалась долгоживущей – жертвой ее стали даже многие философы Просвещения. В результате, эта воображаемая Татария в сознании Запада стала своего «миром наизнанку», полной противоположностью «европейской цивилизации» [18, с. 144–146; 21, с. 822–823]. Лишь немногие современники француза понимали ошибочность этой интерпретации названий, – среди них, например, британский купец и авантюрист Уильям Итон, несколько раз бывавший в Крыму в последние годы существования ханства [19, с. 570]. Титул правителя Крыма де Верди дю Вернуа воспроизвел как «кан» (kan) – это также достаточно типично для его соотечественников. Например, в знаменитой «Энциклопедии» этот титул передан как kam [27, р. 470]. Язвительный Итон по этому поводу заметил, что «французы, которые не отличают звук м от н, если за ним не следует гласная, обычно пишут его как кам или хам…» [19, с. 582].
По словам де Верди дю Вернуа, земли Малой Татарии, за редким исключением, бесплодны, а воздух там холодный и нездоровый. Тем не менее, эта страна перенаселена, «поскольку изнеженность и роскошь еще не истощили ее жителей» [28, р. 8; ср.: 33, S. 338]. Здесь очевидно влияние Монтескьё, считавшего, что развитие народов зависит от природных условий и противопоставлявшего трудолюбивый север изнеженному югу. Кроме того, французский философ считал, что для Азии вообще характерно отсутствие умеренного климата, в результате чего «сильные» жители Великой Татарии успешно покоряют «слабых» жителей теплого юга [10, с. 235–237, 295–296].
Де Верди дю Вернуа считал татар потомками скифов [28, р. 8]. Этот вывод типичен для эпохи Просвещения; точно также думал, например, Вольтер [4, с. 48; 18, с. 151–153]. Впрочем, он мог назвать «скифами» и русских, имея в виду придуманную для них «роль» варваров, желавших приобщиться к европейской цивилизации [11, с. 119–120]. Подобным рассуждениям авторов XVIII в. свойственны два характерных мотива. Во-первых, в их трудах зачастую сложно отделить метафору (скифскость = варварство = неевропейскость) от «научных» идей. Во-вторых, современных представлений об этнических процессах и языковых классификаций еще не существовало, а потому предполагалось, что древние народы продолжают жить в тех же местах, где их поместили античные и средневековые авторы. Нужно было просто подобрать соответствия древним среди современных этносов – по созвучию названия, совпадению ареала, воображаемому сходству культуры и пр. [5, с. 422–428; 14, с. 124–144].
По мнению французского писателя, холодный климат закалил характер татар в прямом и переносном смысле. Детей купали в холодной воде сразу после рождения – но такие испытания делали их стойкими: «Ни один народ не переносит усталость так, как татары». Даже жестокие зимние морозы не мешали им вплавь преодолевать реки, притом, что одежду, оружие и снаряжение перевозили на примитивных плотах. Татарская пища была скудна – деликатесом считалась конина, пареная под седлом. «Много молочных продуктов и немного овощей, немного гречневой или просяной муки – вот их самая обычная еда». При этом татары, которых писатель назвал людьми «нецивилизованными», отличались слепым следованием предрассудкам и крайне жестоким отношением ко всему, что казалось им немусульманским [28, р. 8–9]. Описание татар вообще и крымских татар в частности как архетипичных варваров, новых скифов и «угрозы цивилизации» было типичным для западной традиции [21, с. 822–825].
В книге имеется краткий экскурс в историю Крымского ханства. По словам автора, в конце XII в. татары «перешли Танаис и Волгу, заняли берега Черного моря, захватили Херсонес», то есть Крымский полуостров [28, р. 5]. До XVI в. они сохраняли независимость, которую утратили в результате гражданской войны между ханом Махмет-Кираем (Machmet-Kiray) и его братьями. Эту ситуацию использовал османский султан Амурат (Amurath) III, сделавший ставку на некого Оссана (Ossan). Последний при поддержке османов победил и убил Махмета и двух его сыновей, после чего, выполняя договор с Амуратом, «он признал себя его вассалом. Татары, до тех пор независимые, признали султана своим повелителем» [28, р. 6–7]. Хотя имена участников драмы переданы не вполне корректно, что довольно характерно для европейских писателей той эпохи, их можно установить с высокой степенью достоверности. Амурат – это султан Мурад III, Махмет-Кирай – Мухаммед-Гирай II, Оссан – Ислям-Гирай II. В описанной французом истории угадывается рассказ о противоборстве братьев, закончившейся гибелью первого и воцарением второго в 1584 г., в котором искажены некоторые детали [15, с. 327–330]. В реальности, как хорошо известно, османский протекторат над Крымом был установлен на век раньше, по итогам похода турок на Крым в 1475 г. [15, с. 223; 8, с. 162].
Де Верди дю Вернуа назвал крымского хана «вассалом Порты». Он сообщил, что «турецкий император» мог менять хана по собственной прихоти при том условии, что преемник будет избран из дома Гераев. Далее он уточнил, что эта семья унаследует «Турецкую империю в том случае, если пресечется род Османов» [28, р. 5]. Впоследствии он еще раз вспомнил о том, что есть «древняя традиция, гарантирующая хану наследование османского трона, если род султанов придет к концу» [28, р. 15]. Эта мысль была очень популярной в Крыму и возникла, по-видимому, в среде местных жителей. Во всяком случае, ее неоднократно повторяли путешественники даже много лет спустя после падения ханства [6, с. 297; 46, р. 849; 19, с. 572; 22, с. 418; 30, р. 297; 17, с. 386]. В реальности, однако, это поверье не имело под собой оснований [12, с. 12; 15, с. 237–238].
Французский «кабинетный» писатель уделил немалое место городам и крепостям Малой Татарии. Этот раздел в значительной степени основан на сочинении Хюбнера, точнее, на его позднем и изрядно переработанном издании, вышедшем через много лет после смерти автора [34, S. 373]. Итак, в тех местах, где жили ногайцы, то есть к северу от Крыма, городов и крепостей было немного. Все они «принадлежат туркам, которые держат там гарнизоны или склады для торговли» [28, р. 9]. К их числу относился Кинбурн (Kimbourn) в устье Днепра. А вот сведения о других центрах не вполне точны. Так, среди них фигурирует Черная долина (Tzornaja-Dolina), расположенная «на берегу Черного моря, недалеко от реки Каланчак», которая, будучи местом не слишком значительным, стала известной «благодаря битве между русскими и татарами, которая произошла там в 1736 г.» [28, р. 9–10]. Ясно, что писатель не разобрался в топографии, ведь Черная долина – это не крепость, а урочище, близ которого стояло войско крымского хана и где произошли первые столкновения с российской армией Буркхарда-Кристофа фон Миниха при начале похода на Крым 1736 г. [7, с. 59–60]. Об этом событии писал в мемуарах адъютант Миниха Кристоф-Герман фон Манштейн [37, p. 170–173]. Оттуда, вероятно, эти сведения и попали в книгу Хюбнера, а затем – в трактат французского ученого.
Еще одна османская крепость в ногайских степях, по мнению француза, называлась Павлов, Павловский (форт? редут?) или Паульсбург (Pawlow, Pawlowki, Paulsbourg). Ее местоположение он определил как «на реке Миус, в шести льё от одноименного города, принадлежащего русским» [28, р. 10; ср.: 34, S. 373]. Льё – старинная французская мера длины: сухопутное льё равнялось 4444 м., морское – 5556 м. Российский шанец Павловский (Павловская крепость) был построен в начале XVIII в. вблизи Таганрога, в верховьях Миусского лимана – ныне это территории хутора Гаевка Ростовской области России [1]. Но вот османских крепостей в тех краях не было. Создается впечатление, что де Верди дю Вернуа видел какую-то карту, но не разобрался в том, где проходит граница между державами. Другой крепостью, принадлежность которой перепутана в его труде, оказался Азов (Asoph, Asoff), «или Адзак (Adsack) на языке этой страны». Француз не понял, что Азов отошел России, а потому привел его в списке османских городов. Он сообщил, что по Белградскому мирному договору 1739 г., завершившему русско-турецкую войну, Азов стал границей между Крымским ханством («Татарией») и Россией, причем крепостные сооружения нужно было разрушить [28, р. 10].
Отдельно в трактате описаны города и крепости в Крыму, которые также делились на ханские и османские. В отличие от ногайских земель, на полуострове было «великое множество городов, местечек и селений; но тем не менее, главные центры не принадлежат правителю страны: большая их часть находится под властью Великого сеньора», то есть османского султана [28, р. 10–11]. В описания обеих групп автор характерным образом внес не только крымские, но и те пункты, что находятся за пределами полуострова. Этот фрагмент основан на позднем издании трактата Хюбнера, где информации больше, чем в раннем [34, S. 370–372; ср.: 33, S. 340–341], причем к нему добавлены некоторые новые данные, взятые из иных источников. Среди тех центров, что принадлежат хану, француз назвал Старый Крым (Crim, Cremes, «или Benderkremenda на языке этой страны») – некогда очень большой город, ныне утративший всякое значение; Ор или Перекоп (Or, Prékop, Pérekop), центр линии обороны на одноименном перешейке – во время войны 1735–1739 гг. русские трижды занимали его, разрушив и сам город, и окружающие укрепления; Геническ (Genitzi) – «укрепление, которое сами русские соорудили берегу Черного моря, когда они вошли в Крым в 1736 г.»; Бахчисарай (Backaseray, Backsiseray, Baciesaray) – ханскую резиденцию, «которую русские разрушили в 1736 г. Они также сожгли великолепный дворец этого князя, построенный в китайском стиле»; Акмечеть (Achmetzet, Achmetschet), или Султан-Сарай (Sultan-Saray) – место жительства калги-султана и главных мурз; Мангуп (Mackupa), «где кан хранит свои сокровища во время войны»; Кёзлев (Kosloff) – «богатый торговый порт, окруженный весьма мощной стеной, фланкированной башнями, перед которой проходит широкий и глубокий ров, вырубленный в скале»; Карасубазар (Karasbasar) – «большой город, который до 1737 г. вел обширную торговлю» силами греков, евреев и армян, однако русские учинили разгром, от которого он так и не оправился; Керчь (Kertz, Kersch) – порт на Черном море, обнесенный стеной высотой в 22 фута, причем гавань защищает семибашенная цитадель: «Его местоположение настолько выгодно, что всякий, желающий сделаться хозяином торговли на Черном море, должен сначала овладеть этим портом» [28, р. 11–12].
По словам де Верди дю Вернуа, среди тех городов, которыми «в Крыму» (то есть на окраинах Крымского ханства) владел османский султан, были: Балаклава (Baluclawa, Balacklava) или Ямболь (Jambol), портовый город, «защищенный мощным замком. Это место, где обычно строят корабли для Великого сеньора» (османского султана); Ени-Кале (Genicala, Ygnicale) – «укрепление, построенное турками на морском берегу»; Каффа (Caffa), которую раньше называли Феодосия (Théodosie) – ее порт «один из лучших и безопаснейших на этих берегах», а сам город окружают волы с укреплениями и отличными бастионами, где расставлены многочисленные пушки [28, р. 12–13; 34, S. 372–373]. Из сопоставления текста с другими источниками ясно, что здесь использованы как материалы Хюбнера, так и Тунманна [ср.: 45, S. 1914–1915, 1917–1918; 16, с. 40–41]. Интересно, что Керченский пролив француз, вслед за Хюбнером, назвал «одноименным городу», то есть Кафским проливом – хотя на самом деле город находится примерно в 85 км по прямой к западу [ср.: 34, S. 373]. Но так как в XIV–XVIII вв. Каффа была крупнейшим торговым центром в Причерноморье, ее название было перенесено на Керченский пролив на европейских картах [9, с. 26]. Отсюда этот топоним попал в сочинения «кабинетных» авторов, например, Вольтера [4, с. 98]. Последний пункт в указанном списке требует пояснений. Здесь де Верди дю Вернуа, вновь используя данные Хюбнера, отметил крепости Ладда (Ladda) и Тамань (Taman), «расположенные на острове Тамань (Tammerow), возле пролива, который соединяется с Черным морем и называется Кафинский проход или устье Св. Иоанна. Этот пролив – тот самый, который древние называли Киммерийским Боспором» [28, р. 13; 34, S. 373]. Именно у Хюбнера взято необычное название Таманского полуострова («Таммеров»), разительно отличающееся от одноименной крепости. Полуостров Тамань зачастую называли островом, вероятно, воспринимая устья реки Кубань как проливы, отделяющие его от материка. Если название османской крепости Тамань источники передали точно, то Ладда – это, очевидно, Адда (Адахун) в северной части современного Таманского полуострова [3, с. 46–48; 23, с. 24–26].
Последняя часть анализируемого раздела в книге де Верди дю Вернуа излагает соображения о том, что в интересах России было бы «овладеть Татарией или добиться ее независимости от Порты». При этом в примечании оговаривается, что эта часть написана несколько лет назад, то есть до событий 1783 г., которые побудили «редакторов» добавить последний абзац. По мнению автора, Петр I рассчитывал сделать Россию важным центром международной торговли. Этому препятствовало географическое положение его державы, отделенной от стран Востока пустынями Великой Татарии, тогда как Крымское ханство не давало возможности использовать Черное море для коммуникации со средиземноморскими портами. «Поэтому необходимо было либо отделить татар от союза с турками, либо завоевать их. <…> [М]ожно полагать, что, если бы смерть не забрала Петра Великого из России слишком рано, он бы предпринял это завоевание». Неудачный Прутский поход Петра I автор рассматривает как этап этого grand projet. Наследники первого русского императора не смогли реализовать его планы, поскольку были лишены дарований, необходимых для настоящих правителей. В последнем абзаце говорится, что «блистательная» Екатерина II стала продолжателем дел Петра I, сначала в результате войны с Турцией добившись независимости «Татарии» от Высокой Порты, а затем и «добившись от нынешнего хана полного отказа от суверенитета Крыма в обмен на пенсион, который ему будет выплачивать Россия» [28, р. 14–17].
Создается впечатление, что эти рассуждения навеяны сочинением Вольтера «История Российской империи при Петре Великом» (1759). Французский философ, рисуя образ Петра I как идеального монарха эпохи Просвещения, утверждал, что его герой стремился к завоеваниям в Северном Причерноморье для того, чтобы «возобновить» международную торговлю, некогда процветавшую в этих краях во времена древних греков. Этим и объяснялись Азовские походы царя как первый этап для реализации задуманного. «Намерение состояло в том, чтобы выгнать навсегда татар и турок из Крыма, после чего восстановить обильную торговлю, которую бы можно удобно и свободно отправлять с Персией через Грузию» [4, с. 98–99]. Вольтер, возможно, опирался на размышления французского писателя и историка, члена Российской академии наук Жана Руссе де Мисси (1686–1762). В биографии Петра I, опубликованной им под «русским» псевдонимом, Руссе де Мисси писал, что царь собирался «учредить большую торговлю», для чего ему требовался порт. К тому же воинственные татары были постоянной угрозой его владениям. В итоге Петр I принял решение завоевать крепость и порт Азов, который «был необходим царю как для того, чтобы держать малых (т.е. крымских. – Н.Х.) татар в узде, так и для торговли, которую Его Вел[ичество] пожелал учредить, и для связи между Доном и Волгой» [41, p. 119–124]. Вне зависимости от того, насколько точно Руссе де Мисси и Вольтер воспроизвели логику и мотивацию российского монарха, нужно отметить, что планы по присоединению Крыма к России довольно широко обсуждались на Западе в XVII–XVIII вв., причем делали это самые люди, представлявшие разные государства и руководствовавшиеся очень разными соображениями [35].
В третьей – и самой пространной – части трактата де Верди дю Вернуа описываются события русско-турецкой войны 1768–1774 гг. [28, р. 151–315]. Это текст весьма осведомленного автора, имевшего доступ к разного рода документом. «Крымских» сюжетов здесь не так много – например, рассказывается о действиях ханского войска в молдавской компании 1769 г. [28, р. 177–181] или о вторжении русской армии на Крымский полуостров в 1771 г. [28, р. 252–261]. Завершается сочинение французским переводом манифеста Екатерины II о присоединении Крыма к России [28, р. 311–315].
Выводы
Исходя из изложенного выше, следует заключить, что де Верди дю Вернуа удалось создать последовательный и связный, пусть и несколько поверхностный образ Крымского ханства. Будучи «кабинетным» автором, он опирался не на собственные наблюдения, а на сочинения других, в том числе де Тотта и Хюбнера, Вольтера и Тунманна, имел доступ к картам Северного Причерноморья и документам, связанные с войной 1768–1774 гг. и присоединением Крыма к России. Тем не менее, некоторые приведенные французским ученым сведения не вполне точны – к таковым относится, например, представление о крымских Гираях как гипотетических наследниках османского трона. В европейской традиции было глубоко укоренено транслируемое автором анализируемого трактата представление о татарах как архетипичных варварах-кочевниках, представлявших экзистенциальную угрозу для Запада. Вполне в духе эпохи и рассуждения о возможных мотивах российской военной политики в Северном Причерноморье. Два издания этой книги показывают, что она пользовалась определенной популярностью и потому могла оказать влияния на суждения и действия читателей, а также на историографическую традицию. Именно поэтому проанализированный источник интересен как характерный индикатор тех представлений о Крыме, которые существовали в Западной и Центральной Европе во второй половине XVIII в. Это продукт вполне оригинального анализа, который произвёл франко-прусский интеллектуал эпохи Просвещения, использовавший достижения подходы к источникам, свойственные его эпохе. Как представляется, труд де Верди дю Вернуа может иметь особую ценность для имагологических исследований, изучающих образы, представления и стереотипы, которые культура Запада вырабатывала в отношении Северного Причерноморья и его жителей.
Об авторах
Никита Игоревич Храпунов
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Автор, ответственный за переписку.
Email: khrapunovn@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-6141-9487
ResearcherId: Q-8101-2017
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории «Византийский Крым» Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма
Россия, 295007, пр. Вернадского, 4, СимферопольСписок литературы
- Аваков П.А. Троицкая линия на Миусском полуострове (1702–1711 гг.) // Новые материалы по истории фортификации. Вып. 2. Архангельск: Новодвинка, 2016. С. 239–250.
- Военная энциклопедия [Т. 5]. СПб.: Т-во И.Д. Сытина, 1911. 320 с.
- Волков И.В. Таманские острова в «Книге путешествия» Эвлии Челеби // Древности Кубани. 1999. Вып. 15. С. 40–61.
- Вольтер. История Российской империи в царствование Петра Великого / пер. с фр. СПб.: Ленинград, 2012. 352 с.
- Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения / пер. с англ. И.И. Федюкина. М.: НЛО, 2003. 560 с.
- Выписка из путешественных записок Василья Зуева, касающихся до полуострова Крыма. 1782 года // Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы. [Часть 5] СПб.: Императорская академия наук, 1790. С. 265–303.
- Журналы Крымских походов российской армии 1735–1738 гг. Сборник документов / сост. П.А. Аваков. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2017. 484 с.
- Зайцев И.В. Османский протекторат над Крымом // История крымских татар. Т. III. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2021. С. 162–167.
- Колли Л. Из средневековой географии // Известия Таврической ученой архивной комиссии. 1910. № 44. С. 24–29.
- Монтескье Ш.Л. О духе законов / пер. с фр. А.В. Матешука. М.: Мысль, 1999. 674 с.
- Нойманн И.Б. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей / пер. с англ. В.Б. Литвинова, И.А. Пильщикова. М.: Новое издательство, 2004. 336 с.
- Пейссонель Ш. де. Записка о Малой Татарии / пер. с фр. В. Лотошниковой. Днепропетровск: Герда, 2009. 80 с.
- Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока / пер. с англ. А.В. Говорунова. М.: Русский Мiръ, 2006. 638 с.
- Слёзкин Ю. Естествоиспытатели и нации: русские ученые XVIII века и проблема этнического многообразия // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет. М.: Новое издательство, 2005. С. 120–154.
- Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты. Т. 1. М.: Рубежи XXI, 2005. 540 с.
- Тунманн [И.-Э.]. Крымское ханство / пер. с нем. Н.Л. Эрнста, С.Л. Белявской. Симферополь: Государственное издательство Крым. АССР, 1936. 109 с.
- Храпунов Н.И. Путешествие в Крым Джеймса Уэбстера и его товарищей (1827 г.) // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2014. Вып. XIX. С. 379–426.
- Храпунов Н.И. Центральная Азия в воображении Запада в XVIII в. // Центральная Азия на перекрестке европейских и азиатских политических интересов: XVIII–XIX вв. М.: ОнтоПринт, 2020. С. 143–163.
- Храпунов Н.И. Уильям Итон и его описание Крыма накануне присоединения к России // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2020. Вып. XXV. С. 560–588.
- Храпунов Н.И. Дипломатические отношения Крыма с Францией, Пруссией, Швецией в XVIII в. // История крымских татар. Т. III. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2021. С. 403–408.
- Храпунов Н.И. Представления о Крымском ханстве в Западной и Центральной Европе в середине XV – третьей четверти XVIII вв. // История крымских татар. Т. III. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2021. С. 822–828.
- Храпунов Н.И., Гинькут Н.В. Крым в 1784 г. по свидетельству французского путешественника барона де Бара // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2015. Вып. ХХ. С. 395–430.
- Шаповалов С.Н. Турецкие крепости на территории Кубани в XV–XVII вв. // Общество: философия, история, культура. 2013. № 3. С. 23–27.
- Aragon [A.] d’. Un paladin au XVIIIe siècle. Le prince Charles de Nassau-Siegen d’après sa correspondance originale inédite de 1784 à 1789. Paris: E. Plon, Nourrit et Cie, 1893. 396 p.
- Deguignes [J.]. Histoire générale des Huns, des Turcs, des Mogols, et des autres Tartares occidentaux, & c. Т. 3. Paris: Chez Desaint & Saillant, 1757. 542 p.
- Description des bains de Geismar, en Hesse. À Berlin: [sans éd.], 1787. 115 p.
- Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers / éd. D. Diderot, J. d’Alembert. T. 4. Paris: Briasson; David; Le Breton; Durand, [1751]. 1098 p.
- Essais de géographie, de politique et d’histoire, sur les possessions de l’Empereur des Turcs en Europe. Neuchâtel: De l’Imprimerie de la Société Typographique, 1784. 319 р.
- Essais de géographie, de politique et d’histoire, sur les possessions de l’Empereur des Turcs en Europe. Londres; Paris: Chez Poinçot, Libraire, 1785. 319 р.
- Henderson E. Biblical Researches and Travels in Russia, Including a Tour in the Crimea, and the Passage of the Caucasus. London: James Nisbet, 1836. 538 p.
- Histoire généalogique et chronologique de la sérénissime maison de Hesse-Hombourg, pour servir de suite à l’histoire de Hesse par M. Mallet, composée d’après les titres et manuscrits des archives de cette maison. Berlin: De l’Imprimerie de P. Bourdeaux, 1791. 307 p.
- Hommage à la vertu guerrière, ou Éloges de quelques-uns des plus célèbres officiers françois qui ont vécu et qui sont morts sous le règne de Louis XV. Hombourg-ez Monts: Henri Pierre Wolff, Imprimeur, 1779. 204 р.
- Hübner J. Vollständige Geographie. T. 2: Dänemarck, Norwegen, Schweden, Preußen, Polen, Rußland, Ungarn, Türckey, Asia, Africa, America, und von den unbekannten Ländern. Hamburg: bei König und Richter, 1730. 797 S.
- Hübner J. Vollständige Geographie. T. 2: Dänemarck, Norwegen, Schweden, Preußen, Polen, Rußland, Ungarn, Türckey, Asia, Africa, America, und von den unbekannten Ländern. [N. p.]: Giebente und verbesserte Auflage 1763. 826 s.
- Khrapunov N.I. The Crimea Question in “Western” Projects, Political Treatises, and Correspondence from the Mid-sixteenth Century to 1783 // Золотоордынское обозрение. 2021. Т. 9, № 4. С. 857–877. doi: 10.22378/2313-6197.2021-9-4.857-877
- Krünitz J.G. Oeconomische Encyclopädie, oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- u. Landwirthschaft, in alphabetischer Ordnung. T. 53. Berlin: Joachim Pauli, 1791. 842 S.
- Manstein [Ch.H.] de. Mémoires historiques, politiques et militaires sur la Russie. T. 1. Lyon: Chez Jean-Marie Bruyset, Impr. Libraire, 1772. 366 p.
- Manuel chronologique et généalogique des dynasties souveraines de l’Europe. Ouvrage élémentaire pour servir à l’étude et à la rédaction de l’histoire moderne. Berlin: De l’Imprimerie des Frères Wegenter, 1797. 390 р.
- Mémoires du Baron de Tott, sur les Turcs et les tartares. T. 1–2 (Pt. 1–4). Amsterdam: [sans éd.], 1785. 273 + 264 p.
- Napoléon. Manuscrits inédits, 1786–1791 / publ. par Fr. Masson, G. Biagi. Paris: Société d’editions littéraires et artistiques, 1907. 580 p.
- Nestesuranoi I. Mémoires du règne de Pierre le Grand, Empereur de Russie, Père de la Patrie & c. & c. & c. Т. 2. La Haye: Chez R.S. Alberts; Amsterdam: Chez Her. Uytwerf, 1725. 608 p.
- Peyssonnel [Ch.] de. Observations historiques et géographiques, sur les peuples barbares qui ont habité les bords du Danube & du Pont-Euxin. Paris: Chez N.M. Tilliard, Libraire, 1765. 364 р.
- Peyssonnel [Ch.] de. Traité sur le commerce de la Mer Noire. T. 1–2. Paris: Chez Couchet, Libraire, 1787. 340 + 377 p.
- Recherches sur les carrousels anciens et modernes. Suivies d’un Projet de Jeux équestres à l’imitation des tournoys de l’ancienne Chevalerie. Dans lequel, on démontre l’utilité que la Noblesse retirerait du rétablissement de ces jeux, autrefois l’école de l’adresse & de la valeur. – [Cassel], 1784. 155 p.
- Thunmann [J.E.]. Der Krimische Staat // Neue Erdbeschreibung. 7. Aus. Th. 1. Bd. 2. Hamburg: Carl Ernst Bohn, 1777. S. 1881–1974.
- [Tooke W. Original Correspondence from Russia] // The Gentleman’s Magazine: and Historical Chronicle. 1786. Vol. 56. No. 2. Р. 547–552, 643–648, 846–851.
Дополнительные файлы

Примечание
Финансирование: Статья подготовлена в рамках проекта, поддержанного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Мегагрант № 075-15-2022-1119. Я признателен В.Н. Чхаидзе (Москва) за ценную консультацию во время работы над текстом.