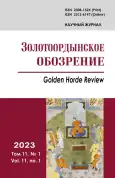An Episode from the History of Crimean Musical Folklore: a Collection of Crimean Tatar Songs by N. Borovko and M. Krasev
- Authors: Lobkov A.E.1
-
Affiliations:
- Sevastopol State University
- Issue: Vol 11, No 1 (2023)
- Pages: 123-142
- Section: Original papers
- Published: 29.03.2023
- URL: https://bakhtiniada.ru/2308-152X/article/view/349834
- DOI: https://doi.org/10.22378/2313-6197.2023-11-1.123-142
- EDN: https://elibrary.ru/KLAOSV
- ID: 349834
Cite item
Full Text
Abstract
Research objectives: To outline the activities of Nina Borovko-Langlet as a collector and performer of folk songs of the Crimean Tatars and to introduce into scientific use a collection of Crimean Tatar songs and dances, prepared by her in collaboration with the composer M.I. Krasev.
Research materials: The collection of Nina Borovko and Mikhail Krasev “Crimean Tatar Songs,” published in Stockholm in 1925, and little-known Russian and foreign journal articles served as additional material. As comparative material, the publications of Crimean folklore texts of the 1920s and 1930s were used.
Results and novelty of the research: For many decades, the name of Nina Borovko-Langlet was forgotten in the history of Russian musical folklore. The materials presented in the article highlight the role of N. N. Borovko-Langlet in Crimean folklore studies of the 1920s and 1930s. She contributed largely to the popularization of Crimean Tatar music, and her concerts introduced Swedish audiences to the originality of Crimean Tatar folk songs and dances. The article reveals the existence of the collection “Crimean Tatar Songs,” containing six Crimean Tatar songs with translations into Russian, Swedish, and German, as well as a musical notation of two dance songs. It can serve as a valuable source for further comparative study of variants of Crimean songs. The paper also touches on some aspects of N.N. Borovko-Langlet’s collaboration with M.I. Krasev and describes the range of musical publications of the Soviet composer related to the Crimean theme.
Full Text
Введение
Включение Крыма в середине XIII века в состав Золотой Орды положило начало тюркизации полуострова. За время более чем трехвекового существования Крымского ханства, считавшего себя главным наследником Золотой Орды, придворная культура и искусство достигают высокого расцвета. Об этом свидетельствует развитая жанровая система письменной литературы (испытавшая, конечно, сильное влияние османской культурной традиции). С вхождением Крыма в 1783 году в состав Российской империи культура придворной литературы пресеклась, чего нельзя сказать об устной поэтической традиции, продолжавшей бытовать в среде крымских татар вплоть до 20–30-х гг. ХХ века. Именно в эти годы осуществлялась целенаправленная письменная фиксация крымского фольклора, широко представленного героическим эпосом («Эдиге», «Чора-батыр»), песнями, сказками, легендами, загадками, пословицами и поговорками. К сожалению, фольклорные материалы, собранные в довоенные годы, в подавляющем большинстве были утрачены, а многие материалы продолжают оставаться достоянием архивов и все еще ждут ввода в научный оборот.
История собирательства крымского фольклора в первой половине ХХ века полна белых пятен. Его сбором занимались как профессиональные фольклористы, так и этнографы-любители. Ценность собранного ими материала различна, но всех их без исключения объединяла любовь к народному творчеству многочисленных народов Крыма, в котором скрестились разные традиции и влиянии. При этом наибольшее внимание ученые уделяли изучению языка, этнографии и истории коренного татарского населения. Обособленное положение татар в Крыму и их неоднородность, конечно, во многом определили своеобразие народной культуры; вместе с тем они являются частью большого татарского этноса. Поэтому изучение устно-поэтического творчества в комплексе с музыкальным и танцевальным искусством крымских татар дает ключ к раскрытию разных сторон истории и особенностей материальной и духовной культуры татарского народа.
Одним из забытых имен крымской фольклористики является имя Нины Николаевны Боровко-Лангле (Nina Borovko-Langlet; 25 августа 1896, Санкт-Петербург – 3 сентября 1988, Стокгольм). Конечно, специалисты по истории Крыма знают о существовании «сборника татарских песен», изданных Н.Н. Боровко в Стокгольме в 1925 г. и, как правило, даже ссылаются на него в своих работах. Только глядя на эти ссылки, почему-то думается, что вряд ли кто-либо из них держал этот сборник в руках (о чем свидетельствует и незнание выходных данных и точного названия книги – «Крымские татарские песни»), да и вклад Н.Н. Боровко в крымскую фольклористику еще не был никем обозначен и оценен.
При этом нельзя сказать, что о Н.Н. Боровко-Лангле совсем уж ничего не известно. Она памятна своей ролью в деле спасения евреев в оккупированной гитлеровскими войсками Венгрии. Вместе со своим мужем – Вальдемаром Лангле (Valdemar Langlet, 1872–1960), преподавателем шведского языка и литературы в Будапештском университете, а с 1944 г. руководителем шведского Красного креста, они спасли множество жизней, выдавая преследуемым евреям шведские документы [4]. Об этом Нина Николаевна рассказала в своей книге «Хаос в Будапеште» с подзаголовком: «история о том, как швед Вальдемар Лангле спас десятки тысяч людей от нацистов в Венгрии» [31]. В знак благодарности в 1965 г. Яд Вашем присвоил супругам Лангле, рисковавшим своей жизнью ради спасения евреев во время Холокоста, звание Праведника народов мира и увековечил их имена на Горе Памяти в Иерусалиме [37].
Результаты исследования
Нина Николаевна родилась в семье Николая Африкановича Боровко (1863–1913) и Антонины Юстиновны Чайковской (1872–1948), стоявших у истоков русского эсперантизма. Общее увлечение «международным языком общения» сблизило супругов с молодым шведским эсперантистом Вальдемаром Лангле, неоднократно приезжавшим в России. О своих впечатлениях от первой поездки он рассказал в книге «Верхом по России», вышедшей в Стокгольме в 1898 г. [32]. России он посвятил и ряд других своих статей и книг, в частности, он издал хронику революционного движения в России [33]. Знакомство Лангле с супругами Боровко со временем превратилось в тесную дружбу и позже сыграло судьбоносную роль в жизни Нины Николаевны.
Жизнь семьи Боровко представляла типичный образец жизни разночинной интеллигенции того времени, зарабатывавшей хлеб собственным трудом. Чтение запрещенной литературы поставило крест на военной карьере Н.А. Боровко, попытки достичь материального достатка в гражданской жизни в Одессе и Санкт-Петербурге также были не слишком успешными. В 1902 г. семья переехала в Ялту, где Н.А. Боровко устроился на работу в Городскую общественную библиотеку им. В.А. Жуковского. Однако в 1906 г. он был выслан из Ялты за политическую неблагонадежность. Многодетная семья вынуждена была переехать в Симферополь, где Н.А. Боровко с трудом устроился в городскую библиотеку и стал активным членом Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы [5; 34; 35].
После смерти отца в 1913 г. Нину Николаевну, на собранные друзьями семьи деньги, отправили на учебу в Елизаветинский институт благородных девиц в Москву. Серьезное воспаление легких заставило ее вернуться в 1917 г. в Ялту. В 1917–1918 гг. Нина жила в Алупке. Здесь она работала и восстанавливалась после тяжелой болезни. В конце 1918 г. она поступила на учебу в Харьковскую консерваторию, где проучилась один или два года. Затем она снова вернулась в Крым, подрабатывала музыкальными выступлениями. В 1921 г., спасаясь от страшного голода, Нина приехала в Москву и поступила в Институт ритмического воспитания. В 1922 г. к ней переехала и мать (а позже и другие родственники). В 1923 г. в Москве их разыскал старый знакомый Вальдемар Лангле. Чтобы получить для Нины разрешение на поездку на год для продолжения музыкальных занятий в Стокгольме, он формально ее удочеряет. Осенью 1923 г. она уехала в Швецию, как потом оказалась, навсегда. А 10 марта 1925 г. Нина и Вальдемар поженились.
С детских лет Нина Боровко слышала крымские легенды и сказки, которые ей рассказывала мать, происходившая по бабушкиной линии из рода балаклавских греков. Были ей знакомы и песни южнобережных татар. Кроме того мать Нины Боровко была музыкально одаренной, играла на фортепьяно, организовывала домашние концерты и сыграла, по воспоминаниям дочери, решающую роль в ее увлечении музыкой.
Впервые имя Н.Н. Боровко в связи с крымским фольклором встретилось нам среди информантов известного этнографа-любителя Аркадия Карловича Кончевского (1883–1969) [12]. В подготовленных им сборниках «Песни Крыма» (1924) и «Песни Востока» (1925) трижды упоминается имя Боровко: «Ой обана, обана» («Не выдавай дочь за чабана...») от Боровко и Бекира Абдушева, «Аглактан» («От рыданий глаза полны слез...») от Боровко (Ялта) и «Гидене бак гидене» («Много встречал красавиц на свете...») от Боровко (Ялта) [15; 16].
В другой раз оно промелькнуло в библиографическом списке книг по Крыму за 1925–1926 гг., опубликованных в девятом томе трудов Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы: «Боровко Н. Сборник татарских песен. Стокгольм, 1925» [1, с. 134] и в «Библиографии по крымоведению» В.В. Симоновского: «Сборник татарских песен. Собраны Ниной Боровко. Гармонизация М. Красева. Стокгольм, 1925» [21, с. 532].
Третий раз имя Боровко было упомянуто в статье Сергея Алексеевича Бугославского (1888–1945), посвященной музыке в быту народов СССР. В разделе о музыке крымских татар он приводит имеющуюся по данному вопросу литературу, в том числе информирует, что «Музсектором Гиза напечатаны два выпуска «Песен крымских татар» в записи и обработке М. Красева (М., 1926) и небольшой сборник записей Н. Боровко в обработках того же Красева (напечатан в Стокгольме)» [3, с. 153].
О работе Михаила Ивановича Красева (1897–1954) по гармонизации крымско-татарских песен, собранных алупкинским школьным учителем Кязимом Усеиновичем Усеиновым (1886–1938) и литературно обработанных поэтом Тихоном Чурилиным (1885–1946), хотя и известно, но сама связь Красева с Крымом, в котором он находился в годы Гражданской войны, и его вклад в изучение и популяризацию крымского музыкального фольклора практически не изучены [17; 18]. Также практически ничего не известно о сотрудничестве композитора с Ниной Боровко. Известно только, что музыкальную обработку песенного материала М. Красев сделал до отъезда Н. Боровко в Швецию.
О том, что сборник Н. Боровко был известен широким кругам музыкальной общественности, свидетельствует следующий отрывок из статьи П.С. Когана об искусстве народов СССР: «“Открытие” песен крымских татар (сборники Кончевского, Красева, Боровко) – настоящий курьез. Ведь, кто только не бывал на крымских курортах, а песен татар не знали, не слушали. Ныне же они стали боевыми номерами эстрады» [7, с. 104].
Любопытство и желание разобраться в запутанной истории с Н. Боровко стали причиной наших долгих и увлекательных поисков сведений о таинственной собирательнице крымского фольклора. Их результатом стала находка двух журнальных заметок и самого сборника крымских татарских песен.
Первый документ – это письмо Н. Боровко-Лангле из Стокгольма, опубликованное под заголовком «Песни крымских татар – в Швеции» во втором номере журнала «Музыка и революция» за 1926 г. Оно свидетельствует о публикации сборника и о концертных выступлениях Н. Боровко в Швеции с исполнением песен крымских татар, получивших теплый прием публики и прессы. Приведем текст письма полностью.
«В 1923 г. я привезла в Швецию, собранные и записанные мною (в Крыму) и гармонизованные Михаилом Красевым татарские песни.
Несколько месяцев ушло на переводы песен на немецкий и шведский языки и на печатанье их. Обложку к ним рисовал молодой художник Hans Langlet; он сделал ее в персидском стиле. Текст на обложке написал турецкий chargé d’affaires Мукбим-Бей.
Первый раз пела я свои татарские песни в немецком посольстве. Публика удивительно тепло принимала их. Рецензия в газете, вернее отчет вечера, так как это был частный концерт, была очень хорошая и вызвала интерес. На другой же день газета “Idun” просила меня дать интервью и мою фотографию в татарском костюме.
Кроме посольства я пела их в Стокгольме 5, 6 раз в различных концертах. Всюду песни слушались с большим интересом. Особенно в клубе Публицистов, где Свен Гедин читал доклад об Азии, а я пела татарские песни. Некоторые из песен пела я по-немецки и по-шведски, остальные на татарском языке.
В октябре 1924 г. я совершила концертную поездку по Швеции, с этими песнями. Пела их в: Borås, Örebro, Fjugesta, Göteborg, Garleg, Smedjebacken, Avesta-“Kloster” и т.д.
Критика как столичная, так и провинциальная очень тепло приняла их. “Эти песни – драгоценность, которую должен иметь всякий любящий или интересующийся музыкой”, пишет одна из газет (“Östergötlands Dagblad”). Подобного характера рецензии появились и в финляндских газетах; напр., “Åbo Underrätelser” пишет: “Эти народные песни – прекрасный образец оригинальной народной музыки (в смысле мелодии и ритма). В этих песнях лежит экзотичная захватывающая красота”.
Нина Боровко-Лангле. Стокгольм 26/XII 25 г.» [2, c. 49].
Концерт в стокгольмском Клубе публицистов (Publicistklubben), упоминаемый в письме, состоялся 22 марта 1924 г. Знаменитый исследователь Центральной Азии Свен Гедин (Sven Hedin, 1865–1952), находившийся в 1923 г. с лекциями в Америке, свой обратный путь на родину совершил через Японию, Китай, Монголию и СССР. Вернувшись домой, он рассказал о своих впечатлениях от поездки на выступлении в Клубе публицистов, а также в книге «От Пекина до Москвы» («Från Peking till Moskva», Стокгольм, 1924 г.).
Свидетельством концертной поездки Нины Боровко по городам Швеции является афиша с указанием мест и дат выступлений, а также фотографией певицы в татарском платье (илл. 1). Из афиши следует, что 3 октября концерт Н. Боровко состоялся в Оребро, 4 октября в Фьюгесте, 7 октября в Буросе, 10 октября в Гётеборге [5].
Илл. 1
Илл. 2
Упоминаемое в письме интервью для шведского журнала «Идун» указало место поиска следующего документа. В 1924 г. в апрельском номере журнала была опубликована статья «Любовь к русской музыке» и фотография Н. Боровко в праздничном татарском одеянии. К сожалению, качество сохранившегося фото позволяет создать лишь общее впечатление от внешнего вида исполнительницы крымских татарских песен (илл. 2). Приводим журнальную статью в переводе со шведского языка:
«Приемная дочь писателя и редактора Вальдемара Лангле, фрёкен Нина Боровко, русская по рождению, провела свое детство в Крыму, где она близко соприкоснулась с татарской музыкой, а впоследствии собрала и записала ряд оригинальных и увлекательных песен и танцев.
Татары прибыли в Крым только около 700 лет назад и со временем составили основную часть смешанного населения полуострова. Одновременно с ними значительный и важный вклад в формировании населения сыграли и итальянские колонисты, преимущественно купцы из Генуэзской республики, прибывшие в Крым и выстроившие для себя крепости, о былом величии которых еще и сегодня свидетельствуют длинные стены и мощные башни.
Встреча восточной культуры с итальянской должна была оставить свой след и в духовной жизни, и, конечно, не в последнюю очередь в области музыки. Это, с одной стороны, какие-то ярко выраженные восточные черты, включая ту особенность, что в мелодиях часто слышны не только примы или терции, но и квинты, а с другой стороны, музыка полностью построена на нашей западной мажорно-минорной гамме, в основном в минорном ключе, а тональность нередко напоминает звучание итальянских песен.
Фрёкен Боровко, заметив, какую важную роль играет песня в повседневной жизни татар, и пройдя обучение в консерватории в Харькове, решила взяться за запись их песен и танцев. И хотя сами народные исполнители не знают нотной грамоты, мелодии сохраняются в своем первоначальном, зачастую очень древнем виде: с этой целью обычно организуются своеобразные соревнования мастеров, на которых старики, знающие, как правильно должна звучать мелодия, судят выступления молодых и решают, кто поет не только лучше, но и более правильно в соответствии с традицией.
Записанные песни и танцы были гармонизированы молодым русским композитором Михаилом Красевым, учеником знаменитого Гречанинова. Предполагается, что они будут изданы в сопровождении русского, немецкого и, конечно, татарского текстов. На немецкий и шведский языки их переводит редактор Вальдемар Лангле. Мы приводим одну из песен с татарским названием “Yskydara gider iken” (“По дороге в Ускюдар”), что по-шведски означает: “I Skutari” (“В Скутари”).
Идя по дороге в Скутари, я нашла красивый платок,
Кто может объяснить его любовь ко мне, ко мне и никому другому.
Он принадлежит мне, а я – ему, и пусть другие не вмешиваются.
Идя по дороге в Скутари в другой раз,
Я наполнила платок сахаром и принесла его моему милому.
Он принадлежит мне, а я – ему, и пусть другие не вмешиваются.
Теперь в Скутари мне больше нечего искать,
Ведь мой возлюбленный богат и у него красивое кольцо.
Он принадлежит мне, а я – ему, и пусть другие не вмешиваются.
Недавно фрёкен Боровко исполнила несколько своих песен на званом вечере в доме немецкого посла Надольного под фортепианный аккомпанемент Марты аф Клинтберг, который дополняла скрипка в исполнении концертмейстера Стокгольмского концертного общества господина Баркеля, под бурные аплодисменты слушателей. Не исключено, что в ближайшее время она выступит с концертами на публике» [30, c. 327].
В письме и в журнальной статье в качестве места первого концерта Нины Боровко в Швеции называется резиденция немецкого посла Рудольфа Надольного (Rudolf Nadolny, 1873–1953), работавшего в Стокгольме с 1920 по 1924 гг. Р. Надольный, начинавший свою дипломатическую деятельность в России, в начале 1924 г. был назначен послом в Турцию (1924–1933 гг.). Очевидно, концерт русской певицы, исполнившей крымские татарские песни, мог быть тематически связан с новым назначением Р. Надольного.
Музыкальное сопровождение крымских песен и танцев обеспечили пианистка Марта аф Клинтберг (Märta av Klintberg, 1880–1940) и скрипач Чарльз Баркел (Charles Barkel, 1896–1973), игравшие видную роль в музыкальной культуре Швеции того времени.
Перевод песни «По дороге в Скутари» на шведский язык, очевидно, выполнил В. Лангле. Эта песня широко известна своим любовным сюжетом. Она есть среди турецких песен, записанных Б.В. Миллером в Сочи летом 1901 г. у странствующего армянского певца из Стамбула. Ученый отмечает, что «писарская» песня пользуется большой популярностью и «распространена, по-видимому, по всему побережью Черного моря; по крайней мере мне приходилось ее слышать и в Крыму и на Кавказе, а кроме того, даже на берегах Каспия среди азербайджанского населения; разумеется, и в Константинополе она – из чрезвычайно распространенных» [13, с. 115].
Связь между вариантами песен в записях Боровко и Миллер очевидна. Приведем для сравнения текст песни в буквальном русском переводе Миллера:
Идя в Скутари, я нашла платок, Платок я наполнила сахаром, Ища своего милого, я его нашла у себя на груди. Писарь принадлежит мнe, а я – писарю, Чего же вмешиваются посторонние? Как хорошо идет к моему писарю Алмазное кольцо! Писарь принадлежит мнe, а я – писарю, Чего же вмешиваются посторонние?
| Писарь в лавке портного кроит пальто, В руке он держит закуску и пьет ракию, Ах, что только не происходит в сердце писаря! Писарь принадлежит мнe, а я – писарю, Чего же вмешиваются посторонние? Когда я шла в Скутари, пошел дождь, Писарь проснулся, глаза у него томные, У писаря сюртук длинный, а воротник соболий. Писарь принадлежит мнe, а я – писарю, Чего же вмешиваются посторонние? [13, c. 142–143]
|
И, наконец, сам сборник «Крымские татарские песни». Его удалось обнаружить в фонде Ф.Ф. Эккерта в Российском национальном музее музыки1. Появление книги в фонде Эккерта объясняет дарственная надпись на обложке: «Глубокоуважаемому Фердинанду Фердинандовичу Эккерту на память от автора» с подписью – М. Красев и датой – 11 декабря 1926, Москва.
Красочную обложку к книге выполнил Ганс Лангле (Hans Langlet), родственник Вольдемара Лангле, позднее более известный как журналист и переводчик. Вероятно, что на ней в стилизованном под восточную девушку изображена сама Нина Боровко, так как изображенные художником платье и головной убор очень походят на одеяние Нины на сохранившихся фотографиях (илл. 3).
Илл. 3
Надписи на обложке на османском языке красивой персидской вязью выполнил Лаик Мукбил-бей (Laik Mukbil Bey), в 1923–1926 гг. временный поверенный в делах Турции в Швеции, очевидно, присутствовавший на концерте Нины Боровко в доме немецкого посла.
Верхняя строка гласит – «Хвала Аллаху, сотворившему Крым и вдохновившему крымские песни», строка справа – «На ноты для фортепиано переложил Михаил Красев», строка слева – «Эти татарские песни собраны и записаны Ниной Боровко», нижняя строка – «Издательство братьев Лагерстрём. Стокгольм, 1925». Под миниатюрой указано имя художника – «Ганс Лангле».
Сборник включает в себя шесть песен, записанных Н. Боровко на крымско-татарском языке – «Агламактан», «Гиденэ, бак гиденэ», «Дертли кавал», «Татар барма», «Обана» и «Айда ийлда бир Байрам» и переведенных на русский (Н. Боровко), а также шведский и немецкий (В. Лангле) языки. Также сборник включает нотную запись двух танцевальных песен – «Хайтарма» и «Чобан». Все песни гармонизированы М.И. Красевым.
Популяризация песен крымских татар была бы немыслима без их переводов, дававшим слушателю некое представление о содержании песни. Как можно видеть, в сборнике Боровко имеются переводы на русский, шведский и немецкий языки. Но перевод народных песен нередко сопряжен с утратой заданного размера и ритмики, искажением смысла и разрушением характерной образности, депоэтизацией. Размышляя над проблемой переводимости, А.А. Потебня в статье «Язык и народность» (1895) приводит анекдот, заимствованный им у В.И. Даля и изображающий «невозможность высказать на одном языке то, что высказывается на другом»: «заезжий грек сидел у моря, что-то напевал про себя, и потом слезно заплакал. Случившийся при этом русский попросил перевести песню. Грек перевел: «Сидела птица, не знаю, как ее звать по-русски, сидела она на горе, долго сидела, махнула крылом, полетела далеко, далеко, через лес, далеко полетела». И все тут. По-русски не выходит ничего, а по-гречески очень жалко!» [20, с. 264].
Этот анекдот стал классикой в учении о переводе и всегда рассказывается в связи с проблемой непереводимости. Он, как нельзя лучше, относится и к русским переводам песен татар Крыма, которые правильнее было бы назвать не переводом, а, скорее, передачей содержания.
Кратко рассмотрим некоторые особенности приведенных в сборнике Н.Н. Боровко крымских татарских песен. Первая песня – «Агламактан» («Плачу») тематически относится к традиционным песням о несчастной любви.
Aglamaktan gözüm doldu jaschile,
Netschare kaderde warimisch ajrylmak.
Netschare kaderde warimisch ajrylmak.
Müschkül imisch öpüp sewip ajrylmak,
Netschare kaderde warimisch ajrylmak.
Глаза мои переполнены слезами.
Что же делать, знать судьба расстаться с любимым.
Что же делать, знать судьба расстаться с любимым.
Как тяжела горькая разлука с милым моим...
Что же делать, знать судьба расстаться с любимым [11, с. 2].
Эта песня, записанная А.К. Кончевским в Ялте со слов Н. Боровко, вошла в сборник «Песни Востока» (1925). Приведем этот вариант записи.
Агламактан гöзлер долду яшиле, Не чаре, кадер де вар Имиш айрылмак... ах Не чаре, кадер де вар Имиш айрылмак... ах | При рыданьях слезы из глаз катятся. Что же делать, друг мой милый, нам судьба расстаться, ах. Что же делать, друг мой милый, нам судьба расстаться.
Вариант От рыданий глаза полны слез. Что же делать? Судьба нам расстаться. Что же делать? Судьба нам расстаться [16, с. 8–9]. |
Вторая песня в сборнике – «Гиденэ бак, гиденэ» («Любуясь походкой») относится к песням о неразделенной любви.
Gidene bak, gidene, aman, aman, boju benzer fidane.
Tschok aradym bulamadym adjanym senin gibi bir tane, aman, aman.
Tschok aradym bulamadym adjanym senin gibi bir tane.
Gidene bak, gidene, aman, aman gül sarylmysch dikene.
Mewlam saburlar wersin adjanym, gizli sewda tschkene.
Вот, смотри, он там пройдет, мой любимый... Как он строен, как он хорош.
Долго я искала, не нашла нигде, кто бы был так горд, как он, любимый мой.
Долго я искала, не нашла нигде, кто бы был так горд, как он, как он.
Вот, смотри, он там пройдет, мой любимый... На земле нет роз без шипов.
Много дай, о бог, терпенья тому, кто хранит любовь от всех в душе своей.
Много дай, о бог, терпенья тому, кто хранит любовь в тиши [11, с. 3].
В записи А. Кончевского со слов Н. Боровко эта песня вошла в сборник «Песни Востока» (1925). Приведем этот вариант записи.
Гидене бак, гидене, аман, аман, Бою бензер фидане; Чох арардым буламадым, Сенин гиби дане, аман, аман. | Много я встречал красавиц на свете, Превзошла ты всех красой, Стан твой словно тополь стройный Приди ко мне скорей, ах, ах.
Вариант Смотрю на проходящих: Стройная фигура: Много искал таких, как ты, Но не мог найти [16, с. 12]. |
Следующая песня в сборнике Н.Н. Боровко – «Дертли кавал» («Печальная свирель») тематически относится к сиротским песням.
Dertli kawal gönliim gibi inledur Jüre gimin adji syny unutdur. Janyk sesin le jarama megem ol Inle kawal dertlerimi sen sustur.
Hani benim jikam dygyn dereler. Hani benim tyrman dygyn tepeler. Baschka elde unutulmaz jaralar Inle kawal dertlerimi sen sustur. | Грустная свирель, стенай, как сердце мое. Не видать мне больше братьев, ни отца. Где ты, где, аул родной, где мой очаг? Где мой дом? Ах! Горько плачь, стенай, свирель!
Где те ручейки, в которых плавал я? Где те горы, по которым я бродил? Нет, в краю чужом далеком, раны не залечить. Где мой дом? Горько плачь, стенай, свирель... [11, с. 4]. |
Записанная со слов К. Усеинова песня «Дертли хавал» («Рыдай, свирель») из четырех строф с подзаголовком «детская сиротская» вошла в сборник «Песни крымских татар: бытовые» (1926), обработанных М. Красевым [18, c. 6–7]. Первые две строфы совпадают с вариантом Боровко. Известно, что Красев собирал песни в Крыму летом 1925 г. [23, с. 47], причем впоследствии многие из них были записаны в Алупке, где школьным учителем работал К. Усеинов. В 1917–1918 гг. Н. Боровко жила в Алупке. Интересно было бы в дальнейшем прояснить, кто был инициатором сбора М. Красевым песенного фольклора и какие отношения связывали Усеинова, Боровко и Красева.
В широко известном сборнике крымско-татарских песен Я. Шерфединова 1978 г. также приводится текст песни «Дертли къавал», состоящий из четырех куплетов (записанных от Г. Шерфединова в 1918 г.) [27, c. 212–213].
Четвертая песня в сборнике Н.Н. Боровко называется «Татар барма» («Я – татарин»). Она может быть отнесена к патриотическим песням. Близких вариантов песни обнаружить пока не удалось.
Tatar barma dep kam saraj mana ben barmad! Adyn sanyn ber tanygan djasch tatarman!
Sojun sopun begen, megen sojuzylarga; Gurda uschman kerek mejsiz dep ajtarman.
Tatar kajda dep sorarman mezarymdan; Anlaj massam jahschi djawan ardjularman. | Я – татарин! Самого себя спросил, есть ли? Не забыл я своих предков, я – татарин.
Кто не любит своих близких – скажу тому я: «Ты изменник, уходи от нас, ты, скорее».
Я – татарин! Вы теперь ответьте мне – кто вы! Промолчите – горько тогда буду плакать я [11, с. 5]. |
Пятая песня в сборнике Н.Н. Боровко называется «Обана» («Песня пастуха»). Она относится к песням о несчастливой любви.
Oj, Obana, Obana, da werme da kysyn tschobana!
A lyr da gider jabana, da at jedyr tyr kojuna.
Tschyktym awa baschima da, kojunda geldi korschima,
Ben kojunu gürgen son aklymda geldi baschima.
Ой, Обана, ты забыл, как дочка меньшая красива.
Не давай ее в степь чобану, он заставит ее есть конину.
Когда пришел я к себе в горы, понял тогда, как люблю я.
Воздух прекрасен, плывут облака, и месяц сияет [11, с. 5–6].
Песня со слов Н.Н. Боровко была также записана А.К. Кончевским и вошла в его сборник «Песни Крыма» (1924). Приведем для сравнения этот вариант.
Ой обана, обана, даверме кызыны чобана. Аларда гидер ябана, да ат эдиртыр коюна.
Чиктым оба башина, Да коюнда гельди каршима, Бен коюну гергенде, Аклымда гельди башима.
Чельди чобан долашир Да хоюна ойнаса яреашир. | Не выдавай дочь за чабана: в горы ее унесет он. В горы жену унесет, чтобы заставить стадо пасти на лужайках.
Вариант Не выдавай дочь за чабана – унесет на Яйлу и Заставит барашков кормить кониной.
Вышел на место наблюдения над барашками, Пошли на встречу. Опомнился, когда увидел, И обрадовался.
В степи чабан суетится, оттого и Танец пастушеский ему удается [15, с. 39]. |
Песня «Obana» в нотной записи без текста (с указанием от И. Кадырева, дер. Отузы) входит в сборник Я. Шерфединова 1931 г. [26, c. 36] со следующим комментарием: «Пастушеская песня, в идиллических выражениях рисующая любовь молодого пастуха» [26, c. 93]. В его же сборнике 1978 г. приводится полный текст песни, записанной от А. Ибадуллаева в 1922 г. [27, c. 219].
Песня была широко распространена в Крыму. Она звучит в романе Дженгиза Дагджи «Они тоже были людьми» («Onlar da İnsandı», 1958):
Obana balam, obana
Verme kızını çobana.
Kızını versen çobana,
Sokar başını tobana.
Karabaş kuzum tuz ister,
Çoban ağam kız ister.
Karabaş kuzuya tuz yoktur,
Çoban ağama kız yoktur [29, c. 19].
К слову Obana в романе дается следующее пояснение – başçoban, т.е. старший чабан. Однако в крымских текстах 20–30-х гг. старшего чабана именуют одоман.
Расширенный вариант песни содержится в публикации крымско-татарских песен Ольги Ивановны Шацкой (Иванова-Шацкая, 1897–1973). Он записан в 1925 г. со слов Юсуфа Велиджанова из села Туак (ныне – Рыбачье):
obana bałam obana verme ḫïzïṅï čobana ałir gider yabana ……………………
čoban penir yedirir vay vay anam dedirir penirsu yu tatli-dïr ……………………
čïḫtïm ğaylaw bašïna ḫoyum geldi ḫaršïma men ḫoyumu goren soṅ aḫlïm geldi bašïma.
ğaylaw bašï fïrtïna oynasaṅ-a ḫart ana oynasaṅ-da yarašïr čölde čoban maġrušïr. | ḫarabaš ḫoyun tuz ister čoban aḫam ḫïz ister ḫarabaš ḫoyga tuz-da yoḫ čoban aḫama ḫïz-da yoḫ.
čoban čölde mał baḫar čaḫmaġinen ot yaḫar koyde-ki salağïler sačaḫłardan ḫïz baḫar.
čoban čölüṅ čičegi soḫta koyüṅ kopegi ḫïz verseṅ-da čobana ver čoban čölüṅ čičegi.
tüš ḫarabaš tüš serke boynuzuṅ ḫïrłajaḫ šorbajïler olejek małłari-da bize ḫałajaḫ [28, с. 358–360]. |
В примечании к слову obana О.И. Шацкая пишет: «Рефрен. Используемая в устной речи форма обращения к собеседнику» [28, с. 358]. Думается, объяснение О.И. Шацкой слова obana как рефрена более правдоподобно, чем трактовка его как имени собственного у Боровко или как старшего чабана в примечании в книге Д. Дагджи. У Кончевского и Шерфединова обана скорее также трактуется как форма обращения к собеседнику.
Шестая песня в сборнике – «Айда ийлда бир Байрам» («Только раз в году Байрам»). Она относится к календарным песням и связана с праздником окончания поста (ураза-байрам) или праздником жертвоприношения (курбан-байрам). Оба праздника находятся в тесной связи и нередко воспринимались как один праздник, состоящий из двух частей.
Ajda jilda bir bajram ewiny achla tschippeim,
Ahyltschigym sen aldym djojma sachla tschippeim
Ojnaik, gulajik burada sefa sureik, sureik.
Ajagynda baschmaki, tschilterli, tschorap tschippeim,
Akyltschigyn sen aldyn pamukka arab tschippeim,
Tschippeim, tschippeim gel gösünden öppeim.
Будем пить, гулять, плясать! Только один в году Байрам!
Птичка моя, бери, что хочешь, все тебе я подарю.
Танцевать и гулять только с тобой желаю я.
Ножки в красных башмачках и узорчатых чулках,
Как хороша ты, как прекрасна! Ты меня свела с ума.
Подойди поскорей, дай мне тебя поцеловать! [11, с. 6].
В широко известном сборнике крымских татарских песен Асана Рефатова 1932 г. приводится вариант песни на крымско-татарском языке из двух строф под названием «Cippijim», причем первые куплеты песни в обоих сборниках совпадают [36, с. 40]. Вариант песни «Чипийим» из трех куплетов (записанный от С. Шемшединовой в 1932 г.) представлен и в сборнике Я. Шерфединова 1978 г. [27, c. 178–179]. Менее известен вариант песни «Чиппийим», записанный в 1936 г. фольклорный бригадой Алупкинского дворца-музея и сохранившийся только на русском языке. Приведем его:
Раз в году наступает байрам, Побели же свой дом, Чиппийим, Отняла ты рассудок мой – Не теряй же его, Чиппийим! Ах, ах, Чиппийим, подожди ж, – Поцелую тебя в глаза! Чиппийим спускается в сад, Роз нарвать и наполнить богча. Поспевает айва – райский плод, Но прекрасней айвы – Чиппийим. | Ах, ах, Чиппийим, подожди ж, – Поцелую тебя в глаза! Феску крепче надвинь, Чиппийим, Не упала б на землю она. Не сменяю тебя ни на что, Золотая моя, Чиппийим! Ах, ах, Чиппийим, подожди ж, – Поцелую тебя в глаза [25, c. 3]. |
К русскому переводу есть примечание, что Чиппийим – имя девушки, что объясняет заглавное написание слова. Я. Шерфединов поясняет, что слово «чипийим» буквально означает «цыпленочек» и оно используется в данном случае как ласковое обращение к любимой. Н. Боровко использует русский эквивалент – «птичка моя».
Завершают сборник Н.Н. Боровко-Лангле ноты двух танцевальных мелодий – «Хайтарма» (илл. 4) и «Чобан». Без преувеличения можно сказать, что это были излюбленные народные танцы татар Крыма. В 20–30-х гг. ХХ в. они, как правило, обязательно включались в программы различных официальных мероприятий, став своего рода визитной карточкой Крыма. Оба танца получили широкое отражение как в музыке, о чем свидетельствуют их обработки в творчестве многих композиторов, так и в живописи и литературе.
Илл. 4
Сотрудничество Нины Боровко с Михаилом Красевым продолжалось и в дальнейшем. В 1929 г. в Москве вышел сборник из трех шуточных народных песен (шведской, норвежской и финской) в переводе Н. Боровко-Лангле, стихотворном переложении Владимира Гарлицкого и музыкальной обработке М. Красева [22].
После сборника 1925 г. и двух сборников 1926 г. больших изданий крымских песен у М.И. Красева не выходило. Возможно, это объясняется успехом сборников, подготовленных А.К. Кончевским, а также нарастающей «конкуренцией» со стороны молодых татарских композиторов Крыма (А. Рефатов, Я. Шерфединов). М.И. Красев участвовал в подготовке лишь нескольких небольших нотных изданий, тематически связанных с Крымом [24; 9; 19; 8; 10; 6]. Следует, однако, признать, что занятия композитором крымским музыкальным фольклором остаются недостаточно изученной темой, требующей дальнейшего исследования. Так, музыкальный критик А.А. Острецов, в 1929 г. отмечая мастерство М.И. Красева в пользовании народным мелосом, замечает: «Неслучайно, что опера Красева “Бахчисарайский фонтан” своим любовным и живым применением крымского фольклора приведшая в восторг крымское население, вызвала замечание одного известного композитора, нашедшего в ней “слишком много Востока: для европейского уха чересчур”» [14, с. 579–580]. О какой опере Красева идет речь – неизвестно.
Заключение
Подводя итоги, следует сказать, что собирательская и концертная деятельность Нины Боровко в начале 1920-х гг., связанная с музыкальным фольклором Крыма, требует дальнейшего изучения. Имеющиеся в нашем распоряжении источники не дают возможности очертить круг знакомств Нины Боровко в татарской среде и проследить влияния, сказавшиеся на ее увлечении крымскими татарскими песнями и танцами. Концертная деятельность Нины Боровко в Швеции, в ходе которой она знакомила зрителей со своеобразием крымской народной песни и культурными обычаями, также может послужить предметом для отдельного исследования. Совсем мало известно о знакомстве Нины Боровко с композитором Михаилом Красевым, сотрудничество с которым привело к появлению сборника «Крымские татарские песни». Представленные в сборнике песни могут быть использованы при сравнительном анализе различных крымских вариантов одних и тех же песен.
1 РНММ. Ф. 92. №275.
About the authors
Aleksandr E. Lobkov
Sevastopol State University
Author for correspondence.
Email: aelobkov@sevsu.ru
ORCID iD: 0000-0002-6547-0391
ResearcherId: GMX-1139-2022
Cand. Sci. (Philology), Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Translation at the Institute of Social Sciences and International Relations
Russian Federation, 33, Universitetskaya Str., Sevastopol 299053References
- Bibliography “Taurica”. Zapiski Krymskogo Obshchestva Estestvoispytateley i Lyubiteley Prirody. Simferopol, 1926, vol. IX, pp. 131–134. (In Russian)
- Borovko-Langle N. Songs of the Crimean Tatars in Sweden. Muzyka i revolyutsiya. 1926, no. 2, p. 49. (In Russian)
- Bugoslavskiy S. Music in the contemporary life of the peoples of the USSR. Iskusstvo narodov SSSR. Sbornik statey i materialov. Moscow-Leningrad: GIZ Publ., 1930, pp. 121–158. (In Russian)
- Vestman B.-M. Nina Langlet – the righteous woman of the peoples of the world. Alef. Tel’-Aviv, Nov. 6, 1989, no. 300, pp. 19. (In Russian)
- Zaydman E.S. How I became an esperanto historian, or the “Magnificent Five” (I. Ostrovsky, N. Borovko and A. Chaykovskaya, V. and N. Langlet). Verda lampo – Zelenaya lampa: odesa esperanta rondeto por amika konversacio. Available at: https://verdalampo.info/personoj/favoro.html (accessed: 1.5.2022). (In Russian)
- Mirror: Crimean Tatar playing song (text T. Sikorskaya, music M. Krasev). Pesni dlya detey: Sbornik pesen dlya nachal’noy shkoly (po programmam Narkomprosa RSFSR). Moscow: Muzgiz, 1937, p. 11. (In Russian)
- Kogan P.S. The art of the peoples of the USSR. Sovetskoe iskusstvo. 1927, no. 5, pp. 99–107. (In Russian)
- To a new life: “The sun has risen over the Earth…”, the Crimean Tatar song (text S. Bolotina, music M. Krasev). Moscow-Ogiz: Gosmuzizdat, 1931, 3 p. (In Russian)
- Krasev M. Old dances of the Crimea. Moscow: Gos. izd-vo. Muz. sektor, 1927, 11 p. (In Russian)
- Krasev M. By the sea: tunes of the Crimea. Moscow-Ogiz: Muzgiz, 1935, 7 p. (In Russian)
- Crimean Tatar songs / Collected by N. Borovko; harmonized by M. Krasev; translated into Swedish and German by W. Langlet, cover by H. Langlet. Stockholm, Bröderna Lagerströms Notstickeri & Lit. Anst., 1925, 8 p. (In Russian, Swedish and German)
- Lobkov A.E. А.K. Konchevsky and V.V. Paskhalov: From the History of the Study of Crimean Musical Folklore. Traditsionnaya kul’tura. 2021, vol. 21, no. 3, pp. 161–173. doi: 10.26158/tk.2021.22.3.013. (In Russian)
- Miller B.V. Turkish folk songs: music, texts, and translation. Etnograficheskoe obozrenie. 1903, no. 3, p. 113–155. (In Russian)
- Ostretsov A. Creative ways of Soviet musical art. Ezhegodnik literatury i iskusstva na 1929 god. Moscow: Kommunisticheskaya akademiya, 1929, pp. 569–597. (In Russian)
- The songs of the Crimea / Collected and recorded by the singer and ethnographer A.K. Konchevsky; harmonized by M.A. Stavitsky and V.V. Paskhalov; ed. by V. Paskhalov; introductory article by A.V. Lunacharsky. Moscow: Muzsektor Gosizdata, 1924, 49 p. (In Russian and Crimean Tatar)
- The songs of the East / Collected and recorded in the Crimea by the ethnographer A.K. Konchevsky; harmonized by M.A. Stavitsky and V.V. Paskhalov; ed. by V.V. Paskhalov. Moscow: Muzsektor Gosizdata, 1925, 41 p. (In Russian and Crimean Tatar)
- The songs of the Crimean Tatars. Part 1. Revolutionary and Social-Life Songs: for voice and piano / from Kazim Useinov; collected and musically arranged by Mikhail Krasev; literary arranged by Tikhon Churilin and Mikhail Krasev; cover by Bronislava Korvin-Kamenskaya. Moscow: Gos. izd-vo. Muz. sektor, 1926. 39 p. (In Russian and Crimean Tatar)
- The songs of the Crimean Tatars. Part 2. Everyday life songs: For voice and piano / from Kazim Useinov; collected and musically arranged by Mikhail Krasev; literary arranged by Tikhon Churilin and Mikhail Krasev; cover by Bronislava Korvin-Kamenskaya. Moscow: Gos. izd-vo. Muz. sektor, 1926, 23 p. (In Russian and Crimean Tatar)
- The songs of the Crimean Tatars: Dzhanyk: (1856) / Text by V. Kryukova; musically arranged by M. Krasev. Moscow, Gos. izd-vo. Muz. sektor, 1930, 3 p. (In Russian)
- Potebnya A.A. Language and nationality. In: Potebnya A.A. Estetika i poetika. Moscow: Iskusstvo, 1976, pp. 253–285. (In Russian)
- Simonovskiy V.V. Bibliography of Crimean studies. Ves’ Krym: 1920–1925. Yubileynyy sbornik. Simferopol’, Izd. Krymtsika, 1926, pp. 517–534. (In Russian)
- Three humorous folk songs: 1. Swedish – Fal-la-la-ra; 2. Norwegian – Per-musician; 3. Finnish – Song about her: (for voice with piano) / translated by N. Borovko-Lang[l]e; literary translation by V. Garlitsky, musically arranged by M. Krasev. Moscow: MONO Muztorg, 1929, 7 p. (In Russian)
- Chronicle. Muzyka i revolyutsiya. 1926, no1, pp. 46–48. (In Russian)
- Chalashim: “My Motherland by the fast creek…”. The favourite song of the Crimean Roma / from Fatma Ibragimova; translated and musically arranged by M. Krasev. Moscow: Muztorg MONO, 1926, 4 p. (In Russian)
- Chippiyim / recorded by K.U. Useinov from Edibe Useinova (village Derekoy); translated from the Tatar by S.Kh. Baranov. Vsesoyuznaya zdravnitsa. Aug 12, 1936, no. 7(413), p. 3. (In Russian)
- Sherfedinov Ya. Songs and dances of the Crimean Tatars. Moscow, Gosmuzizdat; Simferopol: Krymgosizdat, 1931, 95 p. (In Russian and Crimean Tatar)
- Sherfedinov Ya. The Kaitarma sounds: Tatar folksongs and instrumental hymns: in Crimean-Tatar and Russian / ed. by L.N. Lebedinsky. Tashkent, Izd-vo literatury i iskusstva im. G. Gulyama, 1978, 232 p. (In Russian and Crimean Tatar)
- Chansons tatares de Crimée, recueillies et traduites par O. Chatskaya, avec introduction N.K. Dmitriev. Journal Asiatique recueil de mémoires et de notices relatifs aux études orientales publié la Société Asiatique. Paris, 1926, vol. 208, no. 2, pp. 341–369. (In French and Crimean Tatar)
- Dağcı C. Onlar da İnsandı. İstanbul, Varlık Yayınları, 1974, 476 p.
- Kärleken i ryska musiken. Idun. April 6, 1924, no. 14, p. 327. (In Swedish)
- Langlet N. Kaos i Budapest: berättelsen om hur svensken Valdemar Langlet räddade tiotusentals människor undan nazisterna i Ungern. Vällingby, Harrier, 1982, 198 p. (In Swedish)
- Langlet V. Till häst genom Ryssland / Med illustrationer af A. Langlet. Stockholm, Fr. Skoglunds Förlag, 1898, 421 p. (In Swedish)
- Langlet V. Revolutionsrörelsen i Ryssland. En illustrerad tidskrönika / Med illustrationer af A. Langlet. Stockholm, Chelius, 1905, 591 p. (In Swedish)
- Nina rakontas pri sia patro. Available at: http://www.ipernity.com/blog/62038/974330 (accessed: 1.5.2022). (In Esperanto)
- Nina rakontas pri sia patrino. Available at: http://www.ipernity.com/blog/62038/974458 (accessed: 1.5.2022). (In Esperanto)
- Refat A. Qьrьm tatar jьrlarь. Simferopol’, Qьrьm devlet neşrijatь, 1932, 52+98 p. (In Crimean Tatar)
- Yad Vashem, the World Holocaust Remembrance Center. Available at: https://righteous.yadvashem.org/?searchType=righteous_only&language=en&itemId=4035627&ind=NaN (accessed: 1.5.2022).
Supplementary files