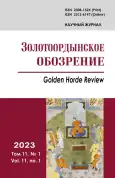Процесс по делу об отравлении каана Угедея в контексте противоречий разных групп источников
- Авторы: Порсин А.А.
- Выпуск: Том 11, № 1 (2023)
- Страницы: 24-36
- Раздел: Оригинальные статьи
- Статья опубликована: 29.03.2023
- URL: https://bakhtiniada.ru/2308-152X/article/view/349574
- DOI: https://doi.org/10.22378/2313-6197.2023-11-1.24-36
- EDN: https://elibrary.ru/CKLVYF
- ID: 349574
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цель исследования: в статье дается анализ противоречивых сообщений источников о судебном процессе об отравлении каана Угедея, умершего в конце 1241 года.
Материалы исследования: несмотря на то, что источники имперского круга (Джувейни, Рашид ад-Дин) достаточно подробно описывают суды над отдельными представителями знати после прихода к власти в 1246 году сына Угедея Гуюка, о судебном разбирательстве касательно насильственной смерти бывшего правителя они ничего не сообщают. Однако прямое сообщение об аресте некой дочери Чингиз-хана по обвинению в убийстве Угедея, который произошел сразу после интронизации Гуюка, содержится в отчете Плано Карпини, который присутствовал на курултае. Отчет Рашид ад-Дина, являющийся примером имперской историиографии, не содержит прямых упоминаний об этом, но косвенные сообщения об убийстве Угедеидами дочери Чингиз-хана в нем присутствуют. При этом официальные имперские тексты относят наиболее громкий судебный процесс над братом Чингиз-хана Темуге-Отчигином и его казнь ко времени после интронизации, но Плано Карпини говорит об этом, как о произошедшем до этого.
Результаты исследования: автор делает вывод о том, что именно отчет папского легата в большей степени отражает реальные события, а версии Джувейни и Рашид ад-Дина являются результатом действия имперской цензуры, целенаправленно скрывавшей события, идущие в разрез с чингизидской внутрисемейной этикой.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Взаимоотношение источников, в случае серьезного несоответствия предоставляемых ими данных, является одной из самых распространенных проблем, возникающих при исследовании событийной, прежде всего, политической истории. В таких случаях возникает необходимость ответить на несколько важных и сложных вопросов. Какая из имеющихся версий произошедшего наиболее близка к исторической реальности? Каковы критерии выбора данного варианта и отклонения другого или других, имеющихся в источниках?
Проблема подобного выбора достаточно остро ощущается в процессе изучения политической истории Монгольской империи. В рамках источниковой базы здесь выделяются сразу несколько групп нарративов, созданных на разных языках и в рамках разных культурных представлений – персидские, арабские, китайские, армянские, латинские и русские тексты. Значительная часть серьезных проблем политической истории в рамках данной темы характеризуется наличием двух или более версий произошедшего, зачастую отличающихся в весьма принципиальных вопросах.
Методы и материалы
Хотя иногда используемое в источниковедении деление источников на внешние и внутренние, с открыто декларируемым предпочтением данных второй группы, в последнее время применяется редко, подспудно исследователи вынуждены делить для себя имеющиеся тексты на более или менее «авторитетные» или «информативные».
Для политической истории Монгольской империи наиболее информативными являются тексты имперского круга, то есть хроники и исторические труды, написанные в XIII–XIV веках монголами, либо служившими им представителями покоренных оседлых народов. Эти тексты, к примеру «Тарих-и Джахангушай» Джувейни или «Джами’ ат-таварих» Рашид ад-Дина, предоставляют нам основной массив фактической информации о событиях политической истории всей империи и ее отдельных улусов. Хроники и исторические труды, созданные вне монгольского мира, также могут быть весьма информативны, однако, во-первых, их осведомленность чаще всего не всеобъемлюща, и ограничивается каким-то конкретным аспектом и временным периодом, а во-вторых, зачастую непросто бывает даже гипотетически определить источник, через который автором была получена информация, что, естественно, снижает уровень доверия к ней. Дошедшие до нас официальные акты монгольской канцелярии и письма каанов немногочисленны, а потому, хотя и первостепенны, в плане изучения государственного устройства и социальной структуры, могут лишь дополнить и уточнить ту событийную конструкцию, которую создают письменные источники имперского круга.
Предельно важным источником информации являются отчеты путешественников и дипломатов, посетивших Монгольскую империю. Речь, прежде всего, идет о трудах Плано Карпини и Гильома де Рубрука. Помимо того, что эти работы предоставляют бесценную этнографическую информацию, благодаря свидетельским показаниям их авторов зачастую разрешаются некоторые проблемные вопросы политической истории. К примеру, несмотря на то, что многие арабские и персидские источники датируют смерть сына Джучи Бату 1252–1253 годом, на настоящий момент исследователи не рассматривают эту версию всерьез по ряду причин, но в значительной степени потому, что Гильом де Рубрук, покинувший Поволжье на обратном пути из Каракорума в конце осени 1254 года, видел Бату живым и ничего не сообщал о его болезни. Учитывая четкость хронологических указаний отчета Рубрука, конфликт источников решается в пользу датировки этого события 1255 или началом 1256 года [18, р. 29; 9, с. 73–82; 6, с. 48; 2, с. 61; 11, с. 58, прим. 193].
Однако ни отчеты путешественников, ни немногочисленные акты каанской канцелярии, ни «истории», написанные внешними наблюдателями или региональными авторами, по объективным причинам не могут сравниться по степени воздействия с обширными официальными текстами имперского круга. Последние формируют общую картину событий, «взгляд на историю», который остальными источниками лишь в большей или меньшей степени корректируется.
Однако исследования показали, что сама эта имперская картина событий нуждается во внимательном изучении. В 1971 году Д. Аялон, исследуя корпус сообщений, касающихся Ясы Чингиз-хана, отметил крайне политизированный характер описания событий авторами источников, написанных внутри империи и с санкции монгольских властей. Такие тексты практически всегда отражали точку зрения определенной группы Чингизидов, в зависимости от которой находился их автор и зачастую весьма серьезно искажали описываемую политическую реальность.
К примеру, подобная ангажированность явно присутствует в описании Джувейни провалившегося переворота, который Угедеиды попытались организовать после избрания в 1251 году великим кааном Менгу. Как известно, переворот не удался, и победившая коалиция Толуидов и Джучидов жестоко расправилась со своими противниками, прикрываясь при этом нормами Ясы. Хотя все участники приведения Менгу к власти (прежде всего Джучиды – Бату и Берке) осуществляли серьезные подготовительные мероприятия (Берке во главе золотоордынского войска прибыл в Монголию), Джувейни описывает раскрытие заговора, как случайность, ставшую полнейшей неожиданностью для Менгу, который просто не мог предположить столь открытое и грубое нарушение Ясы. При этом тот же Джувейни указывает на то, что только Толуиды в отличие от остальных Чингизидских домов последовательно чтят ее предписания. Поверить в историчность такой противоречивой наивности, учитывая факты серьезной силовой подготовки к конфликту именно со стороны Джучидов и Толуидов, очень сложно и Д. Аялон заключил, что если бы в ходе политической борьбы конца 40-х – начала 50-годов XIII века победу бы одержали Угедеиды, до нас бы дошло совершенно иное описание произошедшего [13, p. 151–166].
П. Джексон, разработавший подробную реконструкцию политических событий распада Монгольской империи, в целом поддержал выводы Д. Аялона и развил их. Методологической основой его реконструкции стало положение о том, что официальная «толуидская» версия произошедшего, сформировавшаяся после переворота 1251 года, часто сознательно создавала ангажированное, искаженное или просто выдуманное описание ключевых событий, а, следовательно, она нуждается в системной критической проверке данными других, не заинтересованных источников [2, с. 57–69].
В своей статье, посвященной сыну Чингиз-хана Джучи, К. Этвуд заключил, что перманентный конфликт между отдельными чингизидскими домами и группами монгольской элиты за экономические и политические ресурсы велся, в том числе, и в сфере официальной имперской историографии. Анализируя различные сообщения, касающиеся Джучи, он выделяет «стандартное повествование» о его жизни, содержащееся в большинстве имперских текстов, написанных на монгольском, китайском и персидском языках. В нем роль старшего сына Чингиз-хана сознательно принижалась, а его участие в наступлении на запад 1217–1223 годов замалчивалось. «Стандартное повествование», сформировавшееся по результатам «толуидской революции» 1251 года, вступает в противоречие с данными, содержащимися в биографиях отдельных персон этого периода (эти жизнеописания, впоследствии вошедшие в «Юань ши», подвергались меньшему цензурированию или избегали его вовсе), и должно проверяться через сравнение с ними [12, p. 35–36, 50–54].
Анализ
В данной статье мы попытаемся соотнести противоречивые сообщения источников, касающиеся событий 1246 года, когда в Монголии после четырех лет междуцарствия кааном был избран сын Угедея Гуюк. Речь пойдет о том, как проходил каанский суд над государственными преступниками членами правящего рода, который являлся прерогативой верховного правителя и обычно приурочивался к его интронизации.
Ситуация в Монгольской империи стала обостряться сразу после смерти Угедея, наступившей в самом конце 1241 года. Уже в 1242 году произошла попытка захвата власти младшим братом Чингиз-хана Темуге-Отчигином. Об этом сообщают и Джувейни, и Рашид ад-Дин. Судя по этим сообщениям, к такому шагу его подтолкнуло отсутствие в Монголии старшего сына Угедея Гуюка, которого каан в начале 1241 года отзывал из западного похода, и именно слух о его возвращении окончательно убедил Темуге-Отчигина отказаться от задуманного и вернуться в свой юрт [3, с. 168; 8, с. 116–117; 19, р. 391].
Вопрос о том, была ли смерть Угедея естественной, толуидскими историками никогда не ставился. Однако в их трудах содержатся достаточно странные намеки на этот счет. «Юань ши» напрямую не сообщает об отравлении, но акцентирует внимание на том, что в ночь перед смертью Угедей много пил и что вино ему преподнес Абд ар-Рахман [10, с. 176]. Речь идет о вельможе, возвысившемся в конце правления Угедея, получившем высокое положение в период регентства Туракины-хатун и казненном после прихода к власти Гуюка.
Рашид ад-Дин в «Рассказе о болезни Угедей-каана и его смерти» так же воспроизводит версию о том, что причиной тому стало опьянение. Более того, согласно этому источнику, дело было не в разовом возлиянии, а в тяжелом алкоголизме правителя. Но и персидский историк сообщает о подозрениях в отравлении, возникших на том основании, что чашу Угедею подавала Абикэ-беги сестра старшей жены Толуя Соркуктани-беги [8, с. 42; 19, р. 330].
Оба эти весьма расплывчатых сообщения можно было бы не брать в расчет, если бы не прямое указание Плано Карпини о двух судебных процессах над ближайшими родственниками Гуюка, завершившиеся их казнью. Поясняя правовой запрет на узурпацию власти, он сообщает, что «до избрания настоящего Куйюк-кана, из-за этого был убит один из князей, внук Чингис-кана, ибо он хотел царствовать без избрания» [7, с. 44; 14, p. 25; 17, p. 265]. В переводе К. Доусона при определении степени родства по отношению к Чингиз-хану, использован термин «племянник». В латинском тексте «nepos», что может переводиться и как внук, и как племянник.
В этом сообщении, судя по всему, речь идет о судебном процессе над Темуге-Отчигином. Причем в нем есть две особенности, отличающие его от рассказа Джувейни и Рашид ад-Дина. Во-первых, казненный был не внуком или племянником, а братом Чингиз-хана. Это явная ошибка, которая говорит о том, что Карпини не был глубоко знаком с этой ситуацией и, скорее всего, воспользовался смутными слухами о процессе и казни. Во-вторых, и Джувейни, и Рашид ад-Дин сообщают о том, что расследование, которое вели сын Толуя Менгу и сын Джучи Орду, и казнь произошли после интронизации Гуюка, тогда как Плано Карпини относит казнь родственника Чингиз-хана, пытавшегося захватить власть, ко времени до нее [3, с. 176; 8, с. 119; 19, р. 393].
Второе сообщение куда более интересно. Описывая события после курултая 1246 года, Плано Карпини сообщает о том, что «была схвачена тетка нынешнего императора, убившая ядом его отца, в то время когда их войско было в Венгрии, откуда вследствие этого удалилось вспять войско, бывшее в вышеупомянутых странах. Над ней и очень многими другими был произведен суд, и они были убиты» [7, с. 77].
«Тетка нынешнего императора» приводится в переводе А.И. Малеина, а в переводе К. Доусона, выполненного по изданию текста Плано Карпини А. ван ден Вингарта: «the mistress of the Emperor», то есть любовница или подруга императора [14, p. 65]. Существует три списка второй, пространной редакции «Истории монголов» Плано Карпини. Перевод А.И. Малеина делался на основе издания М. д’Авезака, осуществленного по Лейденскому списку – единственному на тот момент известному списку памятника. В последствии было открыто еще два списка – Кембриджский и список библиотеки г. Вольфенбюттель в Германии. Издание А. ван ден Вингарта, на котором основывал свой перевод К. Доусон, делалось по Кембриджскому списку. В 1989 году в Италии было опубликовано издание текста «Истории монголов», учитывающее все три списка. Результатом публикации в том числе стали конкретные выводы по поводу взаимоотношения отдельных списков между собой. Стало ясно, что Лейденский список XIV века является копией Кембриджского списка, датируемого концом XIII века, а Вольфенбюттельский список XIV века восходит к общему с Кембриджским протографу. Следовательно, если разночтение в Лейденском списке (по которому через издание М. д’Авезака делался перевод А.И. Малеина) противоречит Кембриджскому (по которому через издание А. ван ден Вингарта делался перевод К. Доусона) и Вольфенбюттельскому списку, то первое должно признаваться ошибочным и поздним [1, с. 115–116]. Однако в латинском тексте издания 1989 года эта женщина определяется как «amita imperatoris», то есть «тетка императора по отцу» [17, p. 322]. Сами списки нам не доступны, поэтому мы лишь можем заключить, что вариант «любовница императора» в переводе К. Доусона ошибочен, тогда как перевод А.И. Малеина подтверждается критическим итальянским изданием 1989 года. П. Джексон объясняет неправильный перевод К. Доусона ошибочным прочтением amica вместо amita [15, p. 131]. Этой теткой Гуюка должна была быть сестра Угедея и дочь Чингиз-хана.
Сам Карпини, по всей видимости, не был свидетелем произошедшего, так как во время каанского суда он находился в ставке Туракины-хатун. Но он прибыл к Гуюку вскоре после этого, и судя по описанию, был хорошо осведомлен об этом громком и обсуждаемом событии, которое, тем не менее, практически не нашло отражения в источниках имперского круга. Никаких упоминаний о казни тетки Гуюка не содержится ни в «Юань ши», ни у Джувейни. Однако исследователи связывают это событие с одним из не совсем ясных сообщений Рашид ад-Дина [15, p. 119–120; 4, с. 230]. В «Джами’ ат-таварих» в описании правления Гуюка об этом также не сообщается, однако нужная информация содержится в самом начале этого труда в разделе о племени джалаир, а также в «Рассказе о восшествии на престол Бату». Речь идет о дискуссии насчет кандидатуры Менгу, в ходе которой сторонник Угедеидов Элджидай напомнил клятву, которую участники давали Угедею касательно закрепления трона за его прямыми потомками.
В ответ сторонники Менгу привели свои аргументы. В разделе о джалаирах Эльджидаю оппонирует будущий каан Хубилай, одним из основных антиугедеидских аргументов которого является: «Первое то, что повелел Чингиз-хан: Если кто-нибудь из моего рода изменит ясу, то пусть не посягают на его жизнь, не посоветовавшись [предварительно] об этом вместе со всеми старшими и младшими братьями. Зачем вы убили Алталу-нойона?». Кто такой Алтала-нойон, какое отношение он имел к «золотому роду», и почему его смерть была настолько значима, из русского перевода понять нельзя. Но в переводе В.М. Текстона, основанном на тегеранском издании 1994 года, это имя воспроизводится как Алталункан. Переводчик поясняет, что речь идет о пятой дочери Чингиз-хана Altalun (~ Altalunqan ~ Aitaluqan), причем монгольский суффикс -qan ~ -gan – это уменьшительное, которое присоединяется к именам собственным [19, р. 39].
Этот вариант подтверждается сообщением из «Рассказа о восшествии на престол Бату…». Здесь именно сын Джучи произносит эту или близкую по смыслу обвинительную речь в адрес Угедеидов, одним из аргументов которой является: «преступив древний закон и обычай, не посоветовавшись с родичами, ни за что убили младшую дочь Чингиз-хана, которую он любил больше всех [своих] детей и называл Чаур-сечен». Любопытно, что согласно переводу В.М. Текстона, Чингиз-хан так называл не свою дочь, а ее мужа [8, с. 80; 19, р. 361].
Речь, безусловно, идет об Алталун или Алталукан – младшей дочери Чингиз-хана. Из сопоставления сообщений Плано Карпини, Джувейни и Рашид ад-Дина становится понятной суть обвинения, которое предъявляли сторонники Менгу в адрес Угедеидов. Рашид ад-Дин специально подчеркивает деликатный, а потому секретный характер процесса над Темуге-Отчигином. Более того дело было настолько важным, что расследование проводили не представители каанской администрации, а два царевича – Орду сын Джучи и Менгу сын Толуя [8, с. 115; 19, р. 393].
Других прямых указаний на процесс по делу Алталун и ее казнь, кроме лишенных контекста обвинений в ее гибели, которые были произнесены либо Хубилаем, либо Бату, и у Рашид ад-Дина, и в других источниках имперского круга нет. Видимо, эта тема была для толуидской историографии нежелательной. Хотя, исходя из сообщения Плано Карпини, можно заключить, что задержание и суд над Алталун были публичными [7, с. 77].
После ареста последовал суд, который, судя по краткому комментарию Карпини, был лишен даже намека на тот формализм и элитарность, которыми отличался процесс над Темуге-Отчигином. Сознательно или неосознанно, но папский посланник очень четко проговаривает основную особенность процесса над любимой дочерью Чингиз-хана и ее казни: «над ней и очень многими другими был произведен суд, и они были убиты». Никакого особого подхода, на который, она, как представительница «золотого рода», имела полное право, не было, по крайней мере, такой информированный человек как Карпини об этом ничего не знал. Так что последующие обвинения сторонников Менгу в адрес потомков Угедея имели все юридические основания.
Но, кажется, полное отсутствие или серьезное нарушение установленных норм судебного процесса над Чингизидом, не было основным содержанием этих обвинений. Примечательно, что если вариант обвинения, вложенный в уста Хубилая, только говорит о нарушении нормы, предписывающей необходимость коллективного решения о казни члена «золотого рода», то вариант, произнесенный или якобы произнесенный Бату, содержит прямое обвинение в бессудном, самовольном и беспричинном убийстве: «не посоветовавшись с родичами, ни за что убили».
Если допустить, что правоту Плано Карпини, а обвинять его в фальсификации или ошибке у нас нет никаких оснований, так как сообщение о казни тетки Гуюка подтверждается Рашид ад-Дином, то тогда возникают серьезные вопросы к той картине событий, которая содержится в трудах персидских историков. И Джувейни, и Рашид ад-Дин утверждают, что процесс по делу Темуге-Отчигина и его казнь произошли после официальной интронизации Гуюка. При этом расследование велось скрытно представителями Джучидов и Толуидов при избранном каане Угедеиде. То есть хотя бы внешне, но соблюдалась максимальная объективность. Но какой смысл был во всем этом формализме, если допустить, что за несколько дней до этого была арестована, а затем казнена любимая дочь основателя империи, старшая родственница как Гуюка, так и остальных царевичей? Причем арестована и казнена она была без согласия Джучидов и Толуидов, иначе их последующие обвинения не имели бы смысла.
Обращает на себя внимание то, что Плано Карпини говорит о казни анонимного внука Чингиз-хана «до избрания настоящего Куйюк-кана». Если незнание им степени родства между казненным и основателем империи еще можно объяснить секретностью расследования и закрытым характером процесса, то как быть с тем, что человек, присутствовавший на курултае, говорил о казни Темуге-Отчигина, как о чем-то произошедшем до этого?
По все видимости, толуидские историки постарались максимально сгладить крайне нелицеприятное происшествие, полностью выходившее за рамки монгольских политико-правовых представлений, основанных на внутрисемейной этике. Противоречие снимается, если допустить, что секретное расследование, закончившееся казнью Темуге-Отчигина, про-изошло до курултая и стало результатом консенсуса четырех чингизидских домов. Конечно, Гуюк как каан получал в свои руки, в том числе и высшую судебную власть и имел право принимать решения о казни или помиловании, но из числа членов «золотого рода» должен был пострадать только Темуге-Отчигин, вина которого, судя по всему, состояла в том, что он совершил типичную для ранних политий попытку предъявить права на престол брата в обход его сыновей.
Причины, по которым Гуюк пошел на выходящую за рамки его формальных полномочий казнь своей тетки, пока не ясны. Можно лишь предположить, что убийство Алталун было ударом не по Джучидам, а по Толуидам. Ее мужем был Тайджу из племени кунграт – родной брат Оэлун матери Чингиз-хана. Его сын (имя матери не указывается, но судя по контексту, ей была именно Алталун) был поочередно женат на двух дочерях Менгу – Ширин, а после ее смерти Бичикэ [19, р. 87].
Результаты
Мы не будем углубляться в вопрос о том, был ли в действительности отравлен Угедей и была ли виновна в его смерти Алталун или же это был лишь удачный и достаточно распространенный повод к расправе. Примечательно, что Чагатай, имевший весьма серьезные права на престол, умер практически сразу после Угедея в 1242 или в 1243 году. Рашид ад-Дин лишь вскользь упоминает о том, что после его смерти казнили его приближенного – китайца по прозвищу Везир: «Везир неоднократно говорил Чагатаю: «Ради тебя я ни одно существо не сделал себе другом. После тебя никто меня не пощадит. Когда Чагатай скончался, его умертвили по обвинению в том, что он [якобы] дал Чагатаю зелья» [8, с. 102].
Куда важнее факт того, что ни один источник имперского круга, подробно описывающий приход Гуюка к власти, ничего не сообщает о том, что имели место не просто смутные подозрения о неестественном характере смерти прежнего правителя, а судебный процесс в отношении дочери Чингиз-хана, которую обвиняли в убийстве своего брата. Процесс, проведенный практически сразу же после интронизации и закончившийся ее казнью, которая с точки зрения монгольского права мало чем отличалась от бессудного убийства. То, что это дружное молчание объясняется не незнанием, а результатом цензуры и определенной редакторской работы с текстом, подтверждается двумя фактами.
Во-первых, это наличие упоминаний о казни в тех местах текста, где речь о событии идет ретроспективно. Судя по всему, аргументы сторон на курултае 1249 или 1250 года фиксировались письменно, и именно так обвинение в убийстве Алталун оказалось и в описании самих прений в «Рассказе о восшествии на престол Бату и в разделе о джалаирах, как напоминание о неблаговидных действиях Эльджидая в отношении Толуидов.
Во-вторых, описание самого прихода Гуюка к власти и последующего за этим судебного процесса и казней явно корректировалось с целью скрыть произошедшее. Помимо того, что в повествование не были включены какие-либо сообщения, связанные с судебным процессом и казнью Алталун, была скорректирована и последовательность событий. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать, соотнося описание Карпини, который говорит о казни Темуге-Отчигина как о событии, произошедшем до курултая, с текстами Джувейни и Рашид ад-Дина.
Рашид ад-Дин прямо говорит о том, что курултай не созывался несколько лет из-за неявки Бату [8, с. 79–80; 19, р. 360]. Без присутствия главы Джучидов, как лидера старшей чингизидской ветви, говорить о полноценном легитимном курултае и законом избрании Гуюка было нельзя. Судя по всему, к 1246 году после длительных переговоров между Джучидами, Толуидами и Угедеидами (роль Чагатаидов в этом процессе пока не до конца ясна) были достигнуты какие-то договоренности. Бату так и не решился отправиться в Монголию сам, но, видимо, одобрил кандидатуру Гуюка и отправил на курултай своих братьев во главе с Орду, страшим сыном Джучи, которому принадлежало не политическое лидерство, но генеалогическое старшинство среди Джучидов, а следовательно и во всем «золотом роде». В специальном исследовании, посвященном правлению Гуюка, Х. Ким убедительно показал, что при жизни он воспринимался как вполне законный правитель, а его легитимность оказалась поставлена под сомнение только после его смерти [16, p. 320–326]. Судя по тому, что расследование по делу Темуге-Отчигина проводили сын Джучи Орду и сын Тулуя Менгу и предъявляли последующие обвинения в адрес Угедеидов, важным вопросом были гарантии неприкосновенности тех потомков Чингиз-хана, у которых были основания опасаться нового каана. Казнь Темуге-Отчигина была консенсусным решением Чингизидов, актом, демонстрирующим недопустимость притязаний на верховную власть потомков других сыновей Есугея. Но, как только Гуюк взошел на престол, установленные договоренности были нарушены.
Достижение перед курултаем 1246 года определенных договоренностей между Джучидами и Угедеидами и их последующее нарушение Гуюком говорит о том, что, по всей видимости, гипотеза В.П. Костюкова о его совместных действиях с Орду против Бату не имеет должных оснований [5, с. 175–176]. Исследователь подкреплял ее следующими положениями. Во-первых, он полагал, что отправляя своих братьев на курултай, Бату хотел, чтобы они всячески противодействовали восшествию на престол Гуюка и продвигали кандидатуру наследника по завещанию Угедея – малолетнего Ширамуна. И, тем не менее, Джучиды поддержали интронизацию Гуюка, видимо, под угрозой насилия. Проблема в том, что оба эти фактора (продвижение на трон Туракиной Гуюка в обход Ширамуна и возможность физического воздействия на участников курултая) просто не могли стать для Бату неожиданностью. Именно потому, что что-то подобное могло произойти, он и не отправился в Монголию сам, послав братьев. Следовательно, у этого решения были какие-то конкретные основания.
Во-вторых, автор ссылался на сообщение чагатаидского историка ал-Карши, согласно которому, Гуюк пришел к власти без согласия сыновей Джучи. Проблема в том, что это известие фактически не верно, так как, даже если предположить нарушение Орду родственных обязательств по отношению к Бату и его перехода на сторону Гуюка, формальное согласие Джучидов тем не менее было получено [5, с. 176].
В-третьих, автор обращает внимание на указание Карпини на то, что на «этой, земле живет Орду, старший над Бату, мало того, он древнее всех князей татарских». Однако, тут дело скорее в русском переводе, нежели в свидетельстве Карпини. В переводе К. Доусона: «Ordu lives in this country; he is older than Bati, in fact he is the oldest of all the Tartar chiefs» [14, p. 60]. То есть источник вполне ясно указывает лишь на генеалогическое, а не политическое старшинство Орду по отношению к Бату. Ту же мысль Карпини приводил и ранее: «Bati, who is the richest and most powerful after the Emperor, Ordu, who is the eldest of all the chiefs in this country; he is older than Bati, in fact he is the oldest of all the Tartar chiefs» [14, p. 26].
В-четвертых, В.П. Костюков полагал, что отравление по приказу Туракины русского князя и вассала Бату Ярослава Всеволодовича было акцией устрашения, призванной вынудить Джучидов принять кандидатуру Гуюка: «если отравление вассала Бату Туракиной случилось, как позволяет думать сообщение Карпини, незадолго до вынесения решения об избрании Гуюка, то оно вполне могло быть совершено в демонстрационных целях, дабы устрашить тех, кто сопротивлялся избранию Гуюка» [5, с. 176]. Однако сообщение Карпини не позволяет сделать подобного вывода. Известие об убийстве Ярослава Всеволодовича в тексте идет сразу после рассказа о процессе над Алталун: «Над ней и очень многими другими был произведен суд, и они были убиты. В то же время умер Ярослав…» и сразу после рассказа об этом и о вызове в Монголию Александра Невского «после смерти Ярослава, если только мы хорошо помним время, наши Татары отвели нас к императору» [7, с. 77–78]. То есть расправа над Ярославом произошла тогда же, когда и судебный процесс над Алталун, закончившийся ее поспешной и незаконной казнью. Тогда, когда интронизация была уже проведена, Гуюк стал императором и запугивать Джучидов не было никакой необходимости, а нужно было продемонстрировать свою власть и нанести удар по позициям старых врагов и конкурентов.
Нельзя сказать, что сближение Орду и Гуюка, направленное против Бату, было в принципе невозможно или опровергается источниками. Другое дело, что имеющиеся данные скорее говорят о том, что отправляя делегацию во главе со своим старшим братом на курултай, глава улуса Джучи имел основания полагать, что какая-то система договоренностей с Гуюком достигнута. Казнь Алталун и убийство Ярослава Всеволодовича означали ее публичное нарушение, а вместе с последующим походом Гуюка на запад делали его столкновение с Бату неизбежным. Но сыграл ли какую-то роль в этих действиях каана Орду сказать нельзя из-за полного отсутствия сведений на этот счет.
Можно заключить, что если бы не сообщение из отчета Плано Карпини, лично присутствовавшего на курултае, мы бы не узнали из источников имперского круга о произошедшем практически ничего, кроме вырванных из хронологического контекста обвинений, высказанных на курултае 1249 или 1250 года, и смутных намеков на то, что Угедей умер то ли от пьянства, то ли от отравления. Это важно, так как очень многие проблемы политической истории Монгольской империи, в случае если они связаны с противоречиями в показаниях источников, подспудно решаются исследователями в пользу известий текстов имперского круга в силу их «авторитетности». Нельзя сказать, что правилен будет обратный принцип, далеко не всегда информация, противоречащая официальной монгольской историографии, верна. Однако именно в отношении событий, в ходе которых сталкивались жизненные интересы отдельных чингизидских домов и кто-то выходил победителем и получал все, а кто-то проигрывал и терял не только власть, но зачастую и жизнь, необходимо уделять особое внимание даже случайным и единичным, но явно не ангажированным сообщениям источников.
Об авторах
Артем Александрович Порсин
Автор, ответственный за переписку.
Email: porsinart@gmail.com
ORCID iD: 0009-0008-4517-5265
независимый исследователь
Россия, 455001, МагнитогорскСписок литературы
- Горский А.А. Свидетели путешествия Плано Карпини: уникальная информация и ошибки прочтения // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2014. № 3 (57). С. 115–121.
- Джексон П. Распад Монгольской империи // Золотоордынская цивилизация. 2017. № 10. С. 50–83.
- Джувейни. Чингисхан. История завоевателя мира. М.: Магистр-Пресс, 2004. 690 с.
- Карпов А.Ю. Батый. М.: Молодая гвардия, 2011. 347 с.
- Костюков В.П. Улус Джучи и Синдром федерализма // Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. 2007. №1. С. 169–207.
- Мыськов Е.П. Политическая история Золотой Орды (1236–1313 гг.). Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2003. 175 с.
- Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука / Редакция, вступительная статья и примечания Н.П. Шастиной. М.: Гос. изд-во геогр. лит-ры, 1957. 272 с.
- Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. II. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1960. 214 с.
- Фёдоров-Давыдов Г.А. Смерть хана Бату и династическая смута в Золотой Орде в освещении восточных и русских источников (источниковедческие заметки) // Археология и этнография Марийского края. Вып. 21. Средневековые древности Волго-Камья. Йошкар-Ола, 1992. С. 72–82.
- Храпачевский Р.П. Золотая Орда в источниках. Т. 3. Китайские и монгольские источники. ЦИВОИ. М., 2009. 336 с.
- Шпулер Б. Золотая Орда. Монголы в России. 1223–1502 гг. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016. 500 с.
- Atwood C. Jochi and the Early Western Campaigns // How Mongolia Matters: War, Law, and Society. Leiden, Brill, 2017. P. 35–56.
- Ayalon D. The Great Yāsa of Chingiz Khān. A Reexamination (Part B) // Studia Islamica. No. 34. 1971. P. 151–180.
- Dawson C. Mission to Asia: Narratives and Letters of the Franciscan Missionaries in Mongolia and China in the Thirteenth and Fourteenth Centuries. New York, 1979. 246 p.
- Jackson P. The Mongols and the West, 1221–1410. Pearson / Longman, 2005, 497 p.
- Kim H. A Reappraisal of Güyüg Khan // Mongols, Turks, and Others: Eurasian Nomads and the Sedentary World. Edited by Reuven Amitai and Michal Biran. Brill, Leiden, 2005. P. 309–338.
- Storia dei Mongoli by Giovanni Di Pian Di Carpine, Enrico Menestò, Maria Christiana Lungarotti, Paolo Daffinà, Luciano Petech, Claudio Leonardi, Enrico Menestò // Spoleto: Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 1989. 522 p.
- Pelliot P. Notes sur l’histoire de la Horde d’Or // Oeuvres posthumes. Paris, 1949.Vol. II. 292 p.
- Thackston 1999: Rashiduddin Fazlullah’s Jami‘u’t-tawarikh, Compendium of Chronicles. A History of the Mongols / Thackston, Wheeler M. (tr.). Cambridge, Massachusetts: Harvard University, Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 1998–1999. xliv + 819 p.
Дополнительные файлы

Примечание
Финансирование: Работа выполнена при финансовой поддержке Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (грант № BR10965240).