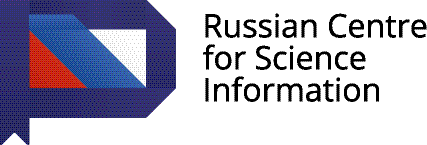Confession in Fiction: Boundaries and Scope of the Concept
- 作者: Kudlay O.S.1
-
隶属关系:
- Lomonosov Moscow State University
- 期: 卷 83, 编号 1 (2024)
- 页面: 137-143
- 栏目: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/1605-7880/article/view/259134
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1605788024010124
- ID: 259134
全文:
详细
In the following article, difficulties connected with the diversity of scientific approaches to the study of confession in different discourses (religious, legal, psychoanalytical, etc.) are discussed. The article deals with the difficulties associated with the diversity of scientific approaches to the study of confession in different discourses (religious, legal, psychoanalytic, etc.). It is stated that a theoretical understanding of literary (fictional) confession is conducted regarding already existing ideas about its Christian origins and circular transformations in European culture (from Augustine to Rousseau). The analysis of the structural and content features of literary confession with the support of M. M. Bakhtin’s aesthetics of verbal creation allows us to draw a line between the literary and the live word, including pseudo-confessional texts of the 19th and 21st centuries. It is confirmed that the concrete forms of embodiment of artistic confession (considering their diffuseness, generic specificity, and dependence on the author's individuality) resist typological study and require priority comprehension from the point of view of historical poetics. In conclusion, the groundlessness of the literary identification of confession with confessionalism is proved.
关键词
全文:
Исповедь – явление сложное и многогранное, обладающее своей религиозной и культурной спецификой. Оно характеризуется «всепроникаемостью» и, адаптируясь к разным дискурсам, переживает соответствующие трансформации, становится предметом изучения гуманитарных и социальных дисциплин: философы исследуют духовные идеи покаянных текстов, написанных в форме трактата; культурологи изучают светскую исповедь и псевдоисповедальные формы в культурном пространстве; в судебном дискурсе объектом анализа выступают тексты-признания, в науке о литературе – словесно-художественные метаморфозы исповеди. Многообразие покаянных текстов неизбежно ведет к терминологическим трудностям, препятствует установлению четких границ рассматриваемого феномена и образует отдельную проблему.
Теоретическое осмысление художественной исповеди должно вестись с учетом уже имеющихся в науке представлений о ее происхождении. Возникнув в религиозной практике, исповедь получила распространение прежде всего в христианстве как «церковный или общинный ритуал самоотчета» [1, с. 7], церковное таинство покаяния (наряду с крещением, браком и др.). Христианская исповедь, которой присущи «интенционный» настрой, обращение к внутреннему миру кающегося для диалога с Богом через посредника – исповедника, служит генетическим основанием исповеди светской как более позднего явления в культуре, истоки которого традиционно связывают с именем Блаженного Августина [2, с. 283]: его письменная «Исповедь» (390-е годы) не только обращена к Богу, но и подразумевает раскрытие сокровенных чувств перед читателем.
Функционируя на границе философии и литературы, «Исповедь» Августина служит убедительной иллюстрацией различных подходов к дефиниции и жанровой номинации такого рода текстов: философская исповедь, светская исповедь, литературная исповедь, автобиография. В частности, историки философии разбирают не столько феномен исповеди, сколько взгляды на фундаментальные онтологические вопросы конкретного автора как представителя эпохи [3]. Культурологи в свою очередь отмечают парадоксальность построения текста: Августин говорит о себе и исповедует собственные грехи, однако его «личное» «осуществляется через ментальные матрицы, встречаясь с культурной формой» [4, с. 11]. При этом изучение культурных форм личности позволяет исследователям увидеть в «Исповеди» Августина психологический самоанализ. Среди других типологически близких примеров – «Утешение философией» Боэция (520-е годы), «История моих бедствий» П. Абеляра (ок. 1132 г.).
Несмотря на то что «Исповедь» Августина перенимает традиции церковного ритуала: признание своих грехов, обращение к Богу, откровенное выражение состояния души, – ее нельзя назвать религиозной формой в строгом смысле слова, поскольку письменная речь нарушает символический сакральный смысл таинства покаяния. Вместе с тем миметического сходства с церковной исповедью еще недостаточно для создания эстетически завершенного художественного произведения: такая исповедь может существовать в письменном виде как «жизненный» текст. Другими словами, произведение Августина – переходная форма, которая сохраняет смысловую близость к исповеди религиозной, но уже обладает чертами исповеди литературной, предвосхищая ее жанровую специфику [2, с. 288], и получит дальнейшее развитие в художественной словесности.
Вопрос о появлении светской исповеди, отличающейся обращением кающегося не к божественному, а к человеческому суду, остается дискуссионным. С одной стороны, ее прообразом считают покаянные практики в протестантизме, которые исключали исповедника и освобождали от ответственности признания в грехах [5, с. 73]. С другой стороны, основоположником светской исповеди в европейской культуре называют Ж.-Ж. Руссо. Начиная с него «идея исповеди обретает законные права на внехристианское, недогматическое толкование» [5, с. 73]. В одном ряду с «Исповедью» Руссо (1765–1770) стоят «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум» Т. Квинси (1821), «Исповедь» П. Верлена (1894), “De Profundis” О. Уайльда (1897) и др. Соответственно, светская исповедь включает в себя литературную (художественную) разновидность, однако воплощается и в «жизненных» (эгодокументальных), и в псевдоисповедальных текстах.
Так, в юридическом дискурсе представлена исповедь-признание, реализующаяся в судебной речи. К ней относятся не только исповеди обвиняемых в преступлении, но и «политические» исповеди, то есть признания людей, «поставивших себя в положение резкого противопоставления властям» [2, с. 277]. Исторически эта форма, по мнению Н.Н. Казанского, восходит к апологиям [2, с. 288]: в Древней Греции не существовало адвокатского сообщества, поэтому ораторы писали оправдательные речи, которые обладали автобиографическим потенциалом. Подчеркнем, что признательные речи содержат лишь элементы исповеди (самоанализ, признание в преступлении), но в них могут отсутствовать покаяние и раскаяние. Яркий пример – «Апология Сократа» (Платон).
Развитие практики признания и его трансформацию в психоанализе подробно изучал М. Фуко и связывал ее с инструментами власти, которые менялись на протяжении веков: наложение епитимьи в раннем христианстве, «тарифное» покаяние, инквизиционные процедуры, допросы и признания в тюрьме, пытки и т.п. [6, с. 157]. К месту вспомнить псевдоисповедальные тексты периода сталинских репрессий, обязательные «саморазоблачения», которые существовали в двух основных формах: покаяние перед органами следствия и публичное признание перед судом. Разумеется, французского философа и теоретика культуры интересовал не жанр исповеди, а исповедальный дискурс, признание как форма речи. Критерий ее истинности – добровольный характер. Следовательно, признания в тюрьмах, как и судебные речи, противопоставлены настоящей исповеди, назначение которой не в принуждении к признанию, а в психоаналитическом эффекте проговаривания, очищения (ср. с терапевтическим эффектом, который достигается посредством разрешительной функции искусства от бессознательного [7]).
Между тем отождествление исповеди с техникой психоанализа не кажется нам достаточно корректным. Очевидно, они относятся к разным «истинностным» режимам: психоанализ не происходит из христианской исповеди, не предусматривает покаяния и недопущения повторного совершения греха. К тому же рассмотрение исповеди как выражения подсознательных мотивов автора в литературном творчестве (пример тому – изучение И.Д. Ермаковым исповедей у Ф.М. Достоевского [8]) в филологическом анализе текста малопродуктивно еще и потому, что оно не учитывает один из конституирующих признаков художественной исповеди – эстетическую дистанцию между автором и героем.
Тем временем псевдоисповедальные формы агрессивно наполняют современное культурное пространство: с разрушением дихотомии «прикровенность / откровенность», «высокая и низкая культуры» [9] исчезает то, что было принято оставлять скрытым, не привносить в повседневность [10, с. 8]. В средствах массовой информации, на различных интернет-площадках наблюдается профанация как публичной (развлекательные ток-шоу), так и личной (в формате интервью) исповедей для построения медийного имиджа. Будучи порождением поп-культуры, такие псевдоисповедальные формы ориентированы на извлечение материальной выгоды и чужды базовым этическим императивам, включая религиозные [10, с. 15]. Согласимся с М.С. Уваровым: «Публично-книжная исповедь, образцов которой в последнее время появилось достаточно много, внешней формой напоминает августиновский текст. <…> На самом же деле великая идея просто эксплуатируется…» [5, с. 56].
Литературно-художественная исповедь как разновидность исповеди светской адаптируется к происходящим в ту или иную эпоху культурным изменениям, сохраняя диффузное состояние в рамках конкретных произведений. Например, исповедь Мити в «Братьях Карамазовых» Ф.М. Достоевского и речь Гумберта в «Лолите» В.В. Набокова – трансформированные формы судебного признания. Отсутствие четких критериев для определения объема понятия и границ художественной исповеди приводит к смешению религиозно-философских и литературных текстов: «Исповедь» Л.Н. Толстого необоснованно ставится на одну полку с «Исповедью хулигана» С.А. Есенина. В аспекте теоретической поэтики проблема заключается в том, что литературная исповедь – «свободный неканонический жанр, свободный в выборе и формы, и содержания» [11, с. 24]. Но если одни исследователи рассматривают покаянные художественные тексты как самостоятельное жанровое образование [2], то другие это оспаривают, поскольку изначальное предназначение исповеди делает невозможной её письменную форму [12, с. 9], третьи отождествляют исповедь с исповедальностью, приравнивая её к эгодокументам (письмам, дневникам, мемуарам, автобиографиям и т.д.) [13, с. 320], а четвертые определяют литературную исповедь как прием психологического изображения [14, с. 4]. Несмотря на «размытость» очертаний, исповедь в словесном искусстве все же имеет характерные признаки.
Согласно концепции М.М. Бахтина, содержание художественного произведения – «не идея или комплекс идей, а совокупность ценностей, соотнесенных друг с другом с помощью определенной организации материала» [15, с. 62]. Обратившись к феномену исповеди, теоретик искусства рассматривал поступок, или самоотчет-исповедь, как эстетически незавершенное произведение: в нем автор и герой совпадают, вследствие чего автор исповеди не может себя завершить; в нем также невозможен сюжет как эстетически завершенная категория и предметный мир «как эстетически значимое окружение» (пейзаж, обстановка, быт и т.д.) [16, с. 136]. Принципиальная незавершенность самоотчета-исповеди необходима, поскольку этический поступок «борется» за чистоту сознания кающегося, и она сближает его с «жизненными» текстами.
Важнейшим структурообразующим элементом литературной исповеди выступает адресатность – ценностная установка на другого. Читатель как фигура текста эстетически завершает художественную исповедь и занимает особое положение по отношению к автору и герою. С одной стороны, эта позиция – сопереживание исповедующемуся, «узнавание в условностях воображения аналогов жизненной реальности» [17, с. 79]. С другой стороны, это позиция субъекта сотворческой деятельности [17, с. 174]. Речь здесь в первую очередь идет не о реальном читателе, связанном с автором внесловесным контекстом, а эксплицитном и имплицитном (внутритекстовом) [18, с. 294], то есть об установке на «слушателя», иначе мы бы опять получили самоотчет. В литературной исповеди такой читатель наследует функцию исповедника, играет роль судьи, именно он должен «вынести приговор»: простить или не простить героя. Косвенным указанием на адресацию может быть «ряд сюжетных ситуаций» [19, с. 39]. В том числе пребывание под арестом и судом («Корсар» Дж. Байрона), ожидание смерти (объяснение Ипполита в романе Достоевского «Идиот»). Маркером адресации считается также упоминание героя о желании поведать свою историю миру («Падение» А. Камю). И хотя создание автором пограничных ситуаций «провоцирует героя к обнаружению своей подлинности» и «предъявлению этой подлинности миру» [19, с. 39], отделить литературную исповедь от других форм словесного искусства не представляется возможным без обращения к содержанию, «диктующему» построение текста.
В литературе исповедь относится к тому «дискурсу, который по определению не содержит лжи» [20, с. 267], а значит, при её идентификации исходят из наличия или отсутствия в произведении чистосердечных, откровенных признаний. И если в религиозном контексте показателем искренности служит факт покаяния перед «всенаходимым» Богом, то в художественной словесности срабатывает память первичного речевого жанра: «…исповедь – это слово, обращенное к Богу, а солгать Богу невозможно» [20, с. 267]. В то же время на материале западноевропейского исповедально-философского романа конца ХХ века исследователи справедливо обсуждают проблему «театрализованности» художественной исповеди и выявляют случаи третьеличного повествования, при котором сознание исповедующегося персонажа обрамлено сознанием нарратора [19, с. 34]. Согласимся, что «чистое» покаяние невозможно в литературном произведении, где искренность не связана с фактичностью, но сама форма признания создает надлежащий горизонт читательских ожиданий – настрой на откровенность. С лингвистической точки зрения в таких речеповеденческих актах, как исповедь, заложена сема искренности. Используя это преимущество, исповедь в литературе XIX–XX вв. научилась имитировать признание и даже приобретать иронический характер: «ложные» исповеди героев Достоевского, «ненадежный рассказчик» у Набокова и т.д. В подобных случаях нельзя опровергнуть «правдивость», пока это не сделает сам исповедующийся.
Содержательность формы художественной исповеди проявляется также в ориентации на внутреннюю жизнь человека: внешние события сами по себе не имеют в ней определяющего значения, биографическая канва далеко не всегда выполняет структурообразующую роль, сюжет как таковой может отсутствовать (его заменяет напряженная духовная деятельность). Завязка в исповеди почти всегда обусловлена кризисом «я» (например, «Исповедь маски» Ю. Мисимы), события из прошлой жизни героя избираются автором для сюжетности внутреннего действия (по аналогии с эпизодом о краже груш у Августина), развитие которого стимулируется стремлением понять и «смоделировать» себя (именно поэтому исповедь может быть представлена как «монтаж воспоминаний» по принципу их морально-этической значимости, за которым скрывается кризис самоидентификации [19, с. 35]), а развязка дана в «открытом» финале. Будучи эстетически завершенным феноменом, литературная исповедь не может свидетельствовать о будущем героя, поскольку воспроизводит незавершенное жизненное высказывание.
Конкретные формы воплощения художественной исповеди (с учетом их диффузности, родовидовой специфики и зависимости от индивидуальности автора) сопротивляются типологическому изучению и прежде всего нуждаются в рассмотрении с точки зрения исторической поэтики. Уже в эпоху романтизма трансформированная исповедь приобрела богоборческие черты в лироэпических поэмах (Дж. Байрон, М.Ю. Лермонтов), а в эпосе того же периода проявила себя и как прием прямого психологизма, основанный на близости сознаний автора и героя, и как «обрамляющий» прием (в «Исповеди сына века» А. де Мюссе использует его для того, чтобы запутать читателя, «мистифицировать» относительно своей подлинности [21, с. 86]). В структуру реалистического романа или повести исповедь часто встроена как вставной жанр и может использоваться автором не только для раскрытия душевного состояния героя («наравне с внутренним монологом и повествованием в форме дневника», как в «Записках из подполья» Достоевского [14, с. 4]), но и как средство выражения идейной позиции («Великий инквизитор» в «Братьях Карамазовых»). Иными словами, исповедь как вставной эпизод – более широкое понятие, психологическая составляющая которого только одна из возможных функций.
Наконец, применительно к драме принято говорить об исповедальности как метажанровом явлении, которое приближается к типам лиризма [22] и не сводится к формам литературной исповеди. Для классической драмы, сложившейся в дохристианскую эпоху, исповедь не характерна вовсе, но современные театральные формы – монопьесы, документальные спектакли, verbatim – симулируют исповедальное слово благодаря установке на искренность и откровенность. Безусловно, исповедальность можно обнаружить не только в современной драматургии, но и в речах Гамлета, не говоря уже о размышлениях чеховских героев («Дядя Ваня»), персонажей драм А.М. Володина, А.В. Вампилова и других писателей, в творчестве которых явлено сильное лирическое начало. Однако отождествление исповедальности – всепроникающей интенции сознания, которая раскрывает интимные моменты жизни человека и при этом помогает восстановить говорящему душевное равновесие, – с исповедью, обладающей формально-содержательным единством, ошибочно.
Итак, сам характер христианской исповеди сделал возможным появление особого речевого жанра, который вышел за рамки религиозной практики и, трансформировавшись, проник в разные дискурсы, в том числе литературный. Несмотря на сохраняющиеся терминологические трудности и многообразие научных подходов к изучению данного явления, анализ структурно-содержательных особенностей исповеди позволяет провести грань между жизненным и художественным словом. Вместе с тем синтетичность и диффузность литературной исповеди заостряют проблему понятийно-категориального разграничения её форм: от приема психологического изображения и вставного эпизода до самостоятельного произведения искусства. Наиболее дискуссионным при этом остается вопрос о жанровом статусе художественной исповеди, но ввиду своей масштабности он требует отдельного обсуждения.
作者简介
Oksana Kudlay
Lomonosov Moscow State University
编辑信件的主要联系方式.
Email: kudlay.oksana.96@mail.ru
Postgraduate student at the Faculty of Philology
俄罗斯联邦, 1 Leninskie Gory, Moscow, 119991参考
- Isupov, K.G. Ispoved: k opredeleniyu termina [The Confession: To the Definition of the Term]. Metafizika ispovedi. Prostranstvo i vremya ispovedalnogo slova. Materialy mezhdunarodnoj konferencii [Space and Time of the Confessional Word. Materials of an International Conference]. St. Petersburg: Institute of Human of RAS Publ., 1997, pp. 7–8. (In Russ.)
- Kazanskiy, N.N. Ispoved kak literaturnyj zhanr [Confession as a Literary Genre]. Avgustin. Ispoved [Augustine. Confession]. Transl. by M.E. Sergeenko. St. Petersburg: Nauka Publ., 2013, pp. 275–295. (In Russ.)
- Stolyarov, A.A., Neretina, S.S. Ispoved [Confession]. Novaya filosofskaya enciklopediya v 4 t. [New Philosophical Encyclopedia in 4 Vols.]. Vol. 2. Moscow: Mysl Publ., 2000, pp. 166–168. (In Russ.)
- Batkin, L.M. “Ne mechtajte o sebe”: O kulturno-istoricheskom smysle “ya” v “Ispovedi” Bl. Avgustina [“Don’t dream about yourself”: On the Cultural and Historical Meaning of the Self in the Confessions of Augustine]. Moscow: RGGU Publ., 1993. 76 p. (In Russ.)
- Uvarov, M.S. Arkhitektonika ispovedalnogo slova [Architectonics of the Confessional Word]. St. Petersburg: Aletejya Publ., 1998. 243 p. (In Russ.)
- Fuko, M. Volya k istine. Po tu storonu znaniya, vlasti i seksualnosti. [The Will to Truth. Beyond Knowledge, Power and Sexuality]. Moscow: Magisterium-Kastal Publ., 1996. 448 p. (In Russ.)
- Vygotskiy, L.S. Psikhologiya iskusstva [Psychology of Art]. Moscow: Pedagogika Publ., 1987. 344 p. (In Russ.)
- Ermakov, I.D. Ispoved v tvorchestve [Confession in the Creation]. Novoe literaturnoe obozrenie [New Literary Review]. 1995, No. 11, pp. 56–75. (In Russ.)
- Lotman, Yu.M. K postroeniyu teorii vzaimodejstviya kultur (semioticheskij aspekt) [To the Construction of the Theory of Interaction Between Cultures (Semiotic Aspect)]. Lotman, Yu.M. Izbrannye statji [Selected Articles]. Vol. 1. Tallinn, 1992, pp. 110–120. (In Russ.)
- Mironov, V.V. Processy transformacii kultury v globaliziruyushchemsya mire: kommunikacionnyj vector [Processes of Culture Transformation in the Globalizing World: Communication Vector]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7: Filosofiya [Bulletin of the Moscow University. Series 7: Philosophy]. 2010, No. 3, pp. 3–25. (In Russ.)
- Zhirkova, M.A. Ispovedi v romane F.M. Dostoevskogo “Bratya Karamazovy” [Confessions in the Novel of F.M. Dostoevsky “The Brothers Karamazov”]. Dissertation of the Candidate of Philological Sciences. St. Petersburg, 1997. 139 p. (In Russ.)
- Mikhailova, M.V. Molchanie i slovo (tainstvo pokayaniya i literaturnaya ispoved) [Silence and the Word (Sacrament of Penance and Literary Confession)]. Metafizika ispovedi. Prostranstvo i vremya ispovedalnogo slova. Materialy mezhdunarodnoj konferencii [Metaphysics of Confession. Space and Time of the Confessional Word. Materials of the International Conference]. St. Petersburg: Institute of Human of RAS Publ., 1997, pp. 9–14. (In Russ.)
- Vakhovskaya, A.M. Ispoved [Confession]. Literaturnaya enciklopediya terminov i ponyatij [Literary Encyclopedia of Terms and Concepts]. Moscow: Intelvak Publ., 2001, pp. 320–321. (In Russ.)
- Krinitsyn, A.B. Formy ispovedi v romanakh F.M. Dostoevskogo [Forms of Confession in the Novels of F.M. Dostoevsky]. Dissertation of the Candidate of Philological Sciences. Moscow, 1995. 204 p. (In Russ.)
- Tamarchenko, N.D. “Estetika slovesnogo tvorchestva” M.M. Bakhtina i russkaya filosofsko-filologicheskaya tradiciya [“Aesthetics of Verbal creation” by M.M. Bakhtin and the Russian Philosophical-Philological Tradition]. Moscow: Izdatelstvo Kulaginoj Publ., 2011. 400 p. (In Russ.)
- Bakhtin, M.M. Avtor i geroj v esteticheskoj deyatelnosti [The Author and the Hero in Aesthetic Activity]. Bakhtin, M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of Verbal Creativity]. Moscow: Iskusstvo Publ., 1986, pp. 9–191. (In Russ.)
- Tamarchenko, N.D., Tyupa, V.I., Broytman, S.N. Teoriya literatury v 2 t. T. 1. Teoriya hudozhestvennogo diskursa. Teoreticheskaya poetika [Theory of Literature in 2 Vols. Vol. 1. Theory of Artistic Discourse. Theoretical Poetics]. Moscow: Akademia Publ., 2004. 509 p. (In Russ.)
- Lavlinskiy, S.V. Chitatel [The Reader]. Poetika: slovar aktualnykh terminov i ponyatij [Poetics: Vocabulary of Actual Terms and Notions]. Moscow: Izdatelstvo Kulaginoj and Intrada Publ., 2008, pp. 294–297. (In Russ.)
- Dzhumaylo, O.A. Anglijskij ispovedalno-filosofskij roman 1980–2000 gg. [English Confessional-Philosophical Novel of 1980–2000]. Dissertation of the Doctor of Philology. Moscow, 2014. 395 p. (In Russ.)
- Stepanov, A.D. Problemy kommunikacii u Chekhova [Problems of Communication in Chekhov]. Moscow: Yazyki slavyanskoj kultury Publ., 2005. 400 p. (In Russ.)
- Volkova, T.N. Ispoved [Confession]. Poetika: slovar aktualnykh terminov i ponyatij [Poetics: Vocabulary of Actual Terms and Notions]. Moscow, Izdatelstvo Kulaginoj and Intrada Publ., 2008, pp. 85–86. (In Russ.)
- Shevchuk, Yu.V. Poeziya I. Annenskogo i A. Ahmatovoj: formy lirizma [Poetry of I. Annensky and A. Akhmatova: Forms of Lyricism]. Dissertation of the Doctor of Philology. Moscow, 2015. 604 p. (In Russ.)