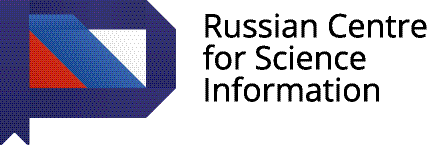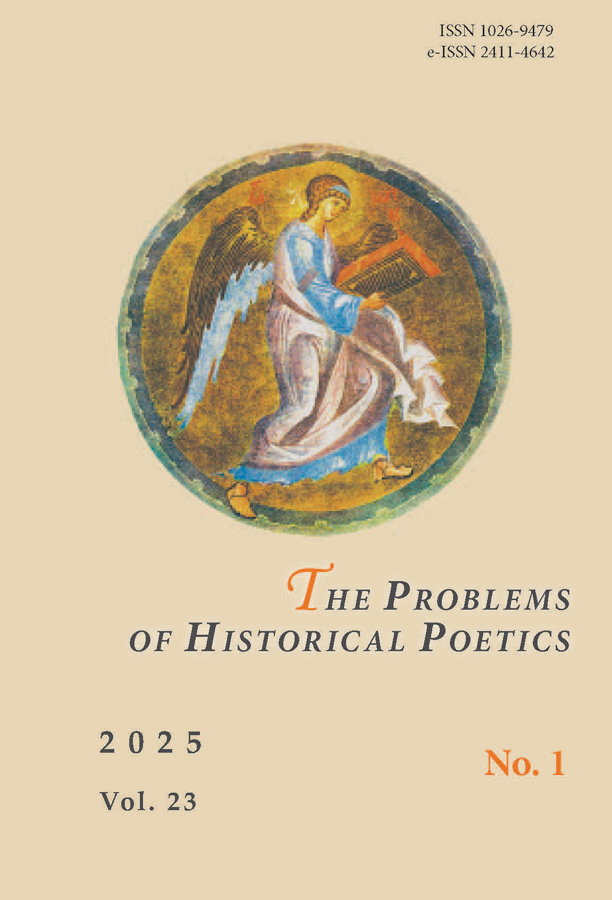Images of Gilan in the Poetics of Velimir Khlebnikov
- Authors: Sadeghi Sahlabad Z.1, Kravchenko O.A.1, Shuldishova A.A.2
-
Affiliations:
- Alzahra University
- The Peoples’ Friendship University of Russia
- Issue: Vol 21, No 2 (2023)
- Pages: 196-216
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/1026-9479/article/view/288269
- DOI: https://doi.org/10.15393/j9.art.2023.12402
- EDN: https://elibrary.ru/GHNNTQ
- ID: 288269
Cite item
Full Text
Abstract
The article discusses V. Khlebnikov’s Iranian images associated with the poet’s stay in Gilan from April to July 1921. The relevance of the article is determined by the need to explore the Persian component of Khlebnikov’s poetics, which cannot be reduced to speculative and generalized Asian images. The article demonstrates the diversity of poetic manifestations of Gilan, depicted through its inhabitants, landscapes, mythology, ancient and contemporary history. The poem “Night in Persia” is proposed to be read as a spiritual experience of mastering space. The specifics of female images in the poems “Novruz of Labor,” “With a Copper Womb…” as well as the images of Gilan’s nobility in the poem “Gul-Mulla’s Trumpet” are analyzed. Gilan images made it possible to concretize the poet’s ideas about the unity of universal destiny. For the first time, the variants of the essay “The Iron Pen on the Willow Branch” are brought into discussion on the Eastern theme in Khlebnikov’s works. The simultaneous semantic connotations of the willow tree as a writing tool and a Christian symbol are defined. The composition of the essay recreates the logic of sacred history: from Palm Sunday to Easter. The tragic death of Gilan’s political leader Kuchuk-Khan is correlated with the idea of sacrificial love embodied in the avant-garde work of the artist P. Miturich. Thus, the poet contrasts the forced liberation of the East with its spiritual transformation through the efforts of poets and artists. The images of Gilan embody the poet’s ideas about the nature of Iranian influences and reflect the direct Persian impact on Russian literature, effectively expanding its boundaries.
Keywords
Full Text
Иранский остан Гилян воплотил в себе многолетнее стремление Велимира Хлебникова в Персию1. Эту прикаспийскую область поэт посетил в составе военной экспедиции Красной Армии, направленной на поддержку революционной Гилянской республики, существовавшей с июня 1920 по сентябрь 1921 г. В середине апреля 1921 г. Хлебников из Баку отправился в иранский город-порт Энзели на военном корабле «Курск». В письме сестре Вере он сообщал:
«13/IV я получил право выезда, 14/IV на "Курске" при тихой погоде, похожей на улыбку неба, обращенную ко всему человечеству, плыл на юг к синим берегам Персии…»2.
В восприятии Хлебникова Иран воплощает идею единения континентов:
«…"Персия — страна, где завязывается общий узел Индии и России"» (2: 554).
И неслучайно поэтому уже первая фиксация живых иранских впечатлений поэта представляет Гилян как благодатную землю, связывающую собою судьбы человечества. При этом собственно военная составляющая персидского путешествия Хлебникова осознается им самим как нечто несоразмерное и чуждое назначению поэта:
«Плыл я на "Курске" судьбе поперек.
Он грабил и жег, а я слова божок» (3: 302).
Однако дистанцирование Хлебникова от стратегических целей «Курска» сочетается со страстным пафосом революционного обновления Азии. Слово Хлебникова о Гиляне задано сверхвременным измерением грядущего всемирного освобождения и счастья. Как отмечает А. Парнис, «В. Хлебников, выросший на Волге — реке бунтарей, вправе думать о себе как о человеке, несущем святую воду равенства и освобождения в Азию» [Парнис: 158].
Стремясь в Азию, Хлебников непосредственно соприкоснулся с нею в единственной географической точке — в Гиляне. Как повлияло это место на представления поэта о Востоке? Какие преобразования претерпел здесь революционный пафос всемирного освобождения? В какие гилянские образы облеклось иранское «учение о добре и зле, Аримане и Ормузде» (62: 10)? Решение этих вопросов создает оригинальный ракурс осмысления русского ориентализма. Особенность нашего подхода состоит в акценте на геопоэтике Хлебникова, для которого непосредственная связь с землей как почвой культуры определяла богатство национальной литературной традиции. Привлечение к анализу текстов различной родожанровой природы — лирики «иранского цикла», заметок-воспоминаний о повстанцах-дженгелийцах, писем родным — позволяет расширить представление о смысловых регистрах поэтики Хлебникова.
Хлебниковские образы Азии в целом и Персии в частности получили глубокое и разноаспектное осмысление (см., напр.: [Баран], [Иоффе], [Исаева], [Киктев], [Парнис], [Тартаковский]); художественная рецепция Гиляна в русской литературе описана в одном из разделов фундаментального труда астраханских историков и литературоведов [Астрахань — Гилян в истории русско-иранских отношений]. В контексте футуристических экспериментов Хлебникова были проанализированы персоязычные компоненты иранской образности поэта [Sadeghi Sahlabad]. В статье М. Ю. Сумской и В. И. Шульженко предложено понятие иранского текста, включенное в широкий спектр региональных текстов русской литературы. При этом подчеркивается: «…велика в "иранском тексте" значимость природно-климатических и ландшафтных компонентов, мимо которых не прошел ни один из русских писателей, побывавших здесь» [Сумская, Шульженко: 1961].
Сегодня, в более чем столетней перспективе, итоги революционных событий в Иране обретают ранее не проявленные смыслы. Социокультурная актуальность нашего исследования определяется поиском духовных связей России и Ирана, не сводимых без остатка к военным взаимодейстиям. Литературоведческая значимость данной статьи обусловлена новой оптикой рассмотрения темы «Хлебников и Восток», укрупняющей и конкретизирующей образы Азии.
Образы, восходящие к реалиям Гиляна, формируют особый пласт поэтики Хлебникова, вбирающий в себя названия городов и селений (Энзели, Решт, Зоргам, Халхал), географическиприродных объектов (Каспийское море, горы Талыша, река Сефидруд), флоры и фауны (дикобраз, кутум, портахал, нарынч). С гилянским контекстом сопряжено также восприятие общенациональных праздников (Ноуруз, Байрам) и образов эпопеи персидского классика Фирдоуси (Маздак, Кавэ-кузнец). Как отмечает П. И. Тартаковский, «Хлебников постиг и воссоздал в Иране многое: живой лик природы, онтологические и социальные срезы восточного многослойного мира, душевный жест простого иранца и гамму переживаний восточной женщины» [Тартаковский]. Важно подчеркнуть, что именно Гилян воплотил в себе весь этот аутентичный иранский мир.
Художественное мышление Хлебникова укоренено в телесной и географической конкретике собственного существования («Ноги, усталые в Харькове, / Покрытые ранами Баку, / Высмеянные уличными детьми и девицами, / Вымыть в зеленых водах Ирана…» (2: 189)), равно как и в звуковой реальности окружающего мира («Страна, где все люди Адамы / <…> И всё на "ша": "шах", "шай", "шира". / Где молчаливому месяцу / Дано самое звонкое имя — / Ай…» (3: 310)). Единство всего живого, диалектическая взаимосвязь жизни и смерти постигается поэтом как череда озарений, порождаемых ландшафтом:
«Собакам, провидцам, пророкам И мне
Морем предложен обед Рыбы уснувшей
На скатерти берега. Роскошь какая!
Будь человек! не стыдись! отдыхай, почивай! Кроме моря здесь нет никого» (3: 310).
Географическая доминанта гилянской образности позволяет осмыслить общие представления поэта о природе творчества. В обозначенной перспективе особую значимость обретают положения статьи 1913 г. «О расширении пределов русской словесности», где Хлебников говорит об «узости» русской литературы:
«Она не знает персидских и монгольских веяний, хотя монголофинны предшествовали русским в обладании землей. Индия для нее какая-то заповедная роща» (61: 66).
Н. М. Солнцева, оспаривая данное утверждение поэта, указывает на переводы персидских поэтов как на неоспоримый факт литературного взаимодействия: «…эти "веяния" были (в меньшей степени в ХIХ в., в большей в ХХ в.), что связано с появлением в 1901-м, 1910-м, 1913-м переводов Хайяма и особенно с изданием в 1916-м текстов восьми поэтов-персов в книге "Персидские лирики Х–ХV веков", подготовленной академиком Ф. Е. Коршем» [Солнцева: 289]. Однако Хлебников говорит не о переводах, а о той непосредственной причастности к земле, которая порождает поэтическое высказывание, и примером которой могут служить его иранские произведения. В хлебниковской статье расширение границ литературы осмыслено как освоение физического пространства (неслучайно поэтому индийская литература сравнивается с «заповедной рощей»). «Мозг земли не может быть только великорусским» (61: 67), — наиболее красноречивое свидетельство поэта о теллурической многомерности собственного творчества. Говоря о поэтической значимости пространства, Е. К. Созина отмечает: «Национальное неминуемо смыкается здесь с сакральным, выступает его контекстным синонимом, а сама потаенная суть национального характера и его региональных подвариантов ярче всего проявляет себя через типический ландшафт…» [Созина: 99]. Для Хлебникова в Персии таким ландшафтом становится каспийское побережье. Стихотворение «Ночь в Персии» может быть прочитано как событие приобщения русского поэта к духовной стихии шиизма.
Развитие лирического сюжета задано в этом стихотворении природным ритмом: от сумерек к ночи. Начальные строки отражают телесное единение засыпающего странника с пространством спальни под открытым небом: «Морской берег. / Небо. Звезды. Я спокоен. Я лежу» (2: 214). Отрывочные фразы передают сбивчивый ход воспоминаний, в ускользающей реальности которых переплетаются «дырявый сапог моряка», заменяющий подушку, восстание на флоте Добровольческой армии, поднятое Б. Самородовым. Эти точечные образы сопровождаются цветовыми пятнами: «красные дни», «белых суда», «Красноводск», «красные воды». С наступлением ночи герой словно бы перемещается в иное измерение, где нет «белых» и «красных», но есть «черное», стирающее политические и языковые различия. Иранец, выступающий из темноты с просьбой о помощи, становится предтечей чуда:
«"Товарищ, иди, помогай!" — Иранец зовет, черный, чугунный, Подымая хворост с земли.
Я ремень затянул И помог взвалить.
"Саул!" ("спасибо" по-русски). Исчез в темноте» (2: 214).
С этого момента герой неожиданно для себя оказывается во власти сокрытого Мессии3, повторяет его имя: «Я же шептал в темноте / Имя Мехди. / Мехди?» (2: 214). Подобно голосу с неба, знаменующему приход Спасителя, на волосы героя спускается жук, произносящий заветное слово:
«Сделал два круга над головой,
И крылья сложив, опустился на волосы. Тихо молчал и после
Вдруг заскрипел,
Внятно сказал знакомое слово. На языке, понятном обоим,
Он твердо и ласково сказал свое слово» (2: 214–215).
Стихотворение в целом запечатлевает особый жест пространства, фиксирующий уникальное, здесь и сейчас происходящее посвящение. Звездная ночь у моря становится для поэта благовещением места и времени:
«Темный договор ночи Подписан скрипом жука. Крылья подняв, как паруса, Жук улетел.
Море стерло и скрип и поцелуй на песке. Это было!
Это верно до точки!» (2: 215).
Поэт профетически свидетельствует о завете, связующем его с новым миром. Обобщающее название «Ночь в Персии» всем ходом лирического развития конкретизируется как гилянская ночь, исполненная таинственных сил этой земли.
Гилянская образность выявляет свою специфику в тех стихотворениях, где обнаруживается внутрииранская поляризация, сои противопоставление Гиляна другим персидским областям. Показательно в этом отношении стихотворение
«С утробой медною…», известное также под названием «Испаганский верблюд».
Центральным образом стихотворения предстает медная чернильница исфаханских мастеров, изготовленная в виде верблюда. Чернильница принадлежала сотруднику Политотдела Персидской Красной армии Р. П. Абиху (1901–1940). Фамилия владельца восходит к немецкому слову Habicht — ястреб. Вырастающий из фамилии образ птицы, как и образ животного — модели для чернильницы отсылают к далеким от Гиляна землям (ни ястребы, ни верблюды не относятся к представителям гилянской фауны, а значит, служат проводниками в мир, чуждый Гиляну и во времени, и в пространстве). Действительно, за образом верблюда встают Чингисхан, Батый, «древняя Галилея», «священная вода» Ганга и «свинцовые» воды «дикарей» Волги:
«С утробой медною Верблюд,
Тебя ваял потомок Чингисхана.
<…>
Раньше из Ганга священную воду
В шкурах овечьих верблюды носили,
Чтоб брызнуть по водам свинцовым на Волге, реке дикарей. Этот, из меди, верблюд
Чернильные струи от Волги до Ганга Нести обречен» (2: 200, 201).
Ястреб же поэтически преобразуется в «древнего германского орла», сопряженного с немецкой и украинской языковой образностью:
«Летевший
Древний германский орел, Утративший Ха,
Ищет его
В украинском "разве"4, В колосе ржи» (2: 201).
Весь этот образный строй лишен какой бы то ни было пространственной укорененности: Азия здесь предстает не как земля, а как идея чаемой свободы, к которой стремятся страны и континенты. В авторском комментарии к стихотворению сказано: «Аз — освобожденная личность, освобожден<ное> Я. Хабих — по-германски орел. Орел хабих летит в страну Азии, построившей свободную личность, чего она до сих пор не сделала, а делали приморские народы (греки, англичане)» (2: 202).
«Свободная личность», еще не «построенная» в Азии, все же находит художественное воплощение в росписи, украшающей чернильницу: это «веселые ханум, не боящиеся держать в руках чаши с вином» (2: 202).
П. И. Тартаковский, анализируя это стихотворение, ставит акцент на бытийной динамике Азии: «Так входит в 1921 год история Востока, так современная Азия обретает в поэзии Хлебникова многомерность, глубину, а главное — движение. Это — чрезвычайно важное свойство хлебниковского Востока: у поэта в "Иранском цикле" нигде нет "по-европейски" воспринятой, сонной, застывшей Азии. У нее есть величественное и грозное прошлое, воплощенное не только в именах Чингисхана, Батыя, Мамая, но и в деянии ее народа — ваятеля, медника, дехканина, кузнеца» [Тартаковский]. Согласимся с исследователем, что «движение» — будь это даже воображаемая скачка верблюда «над самой пропастью письменного стола» (2: 200) — определяет общую устремленность стихотворения к идее революционного Востока, сформированную ранее в поэмах «Азы из Узы» и «Ладомир». Однако следует обратить внимание, что в поэме «Азы из Узы» мифологизированная Азия, предстающая в женской ипостаси, лишена каких бы то ни было личностно или даже национально определенных черт:
«Всегда рабыня, но с родиной царей на смуглой грỳди,
<…>
То девушка с мечом — Противишься зачатью,
То повитуха мятежей — старуха» (3: 279).
Подобным образом и медные рельефы «веселых ханум» на боках исфаханского верблюда — это художественная условность, хоть и типичная для мастеров Исфахана, но далекая от открывшейся Хлебникову в Гиляне азиатской действительности. Предложенная П. И. Тартаковским концепция стихотворения заставляет усматривать в нем своеобразную поэтическую заготовку, лишенную живой связи с теми местами, которые увидел Хлебников в иранском походе. Если же обратиться к гилянским реалиям, то обозначится не агитационная прямота «Испаганского верблюда», а атмосфера той самой «застывшей» Азии, в черты которой впервые всматривается поэт. В Гиляне он не видит «веселых ханум» с чашами вина; напротив, женщины здесь — это черные фигуры, оттеняющие праздничный оптимизм «мирового Байрама»:
«Поодаль, как будто у русской свободы на паперти, Ревнивой темницею заперты,
Строгие, грустные девы ислама. Черною чадрой закутаны, Освободителя ждут они» (2: 192).
Примечательно, что мотив вина сопряжен с женщинами и в поэме «Труба Гуль-муллы», однако здесь «ханум» уподоблены закупоренным темным сосудам:
«Вином запечатанным
С белой головкой над черным стеклом Жены черные шли.
Кто отпечатает Лениво?» (3: 306–307).
Так на примере разнопланово осмысленных женских образов мы наблюдаем особого рода противоречие: с живыми гилянскими впечатлениями вступает в подчас конфликтное соотношение гомогенный азиатский контекст, основой которого являются сформированные до поездки в Иран геополитические идеи освобождения Азии, и в том числе женщины Востока (cм.: [Vroon]). В Гиляне эти идеи сохраняют свое звучание, но в то же время трансформируются в соответствии с пережитыми событиями, встречами, впечатлениями.
В поэме «Труба Гуль-муллы» помимо женских образов привлекают внимание образы гилянской знати, разрушающие представления об эксплуататорах:
«По саду ханы ходят беспечно в белье Или копают заступом мирно
Огород капусты» (3: 313).
В Халхале «хан в чистом белье», нюхая алый цветок, излагает собственное понимание российско-персидских отношений:
«Россия первая, учитель, харяшо.
Толстой большой человек, да, да, русский дервиш. А! Зардешт, а! харяшо!» (3: 312–313).
Сопоставление Толстого и Заратустры, персидского слова
«дервиш» и русского «хорошо» формирует гилянскую смысловую текстуру, в сплетения которой образ лирического героя поэмы входит не революционно-насильственно, а естественно и органично:
«"Наш!" — сказали священники гор. "Наш!" — запели цветы!
<…>
"Наш!" — запели дубровы и рощи, Золотой набат, весны колокольня, Сотнями глаз в небе зелени, Зорких солнышек,
Ветвей благовест» (3: 301).
Иранский благовест «священнику цветов» («Гуль-мулле»), русскому дервишу, как называли в Гиляне Хлебникова, кладет начало персидским веяниям в русской литературе, которых не было до Хлебникова, а у него самого — до вступления на землю Гиляна.
Гилянская образность Хлебникова не замкнута этнографическими интересами и задачей воссоздания локальной специфики. Напротив, в образах природы, детей и женщин, зданий и праздников поэт видит черты «созвездья человечья» (3: 236). В поэтике Хлебникова за гилянскими образами встает, поднимает свою «львиную голову» нечто «великое, протяженное, многообразное» (61: 9): то духовно единое, которое стремится описать поэт в статье «О пяти и более чувств<ах>». Образы Гиляна представлены не только в стихотворениях иранского цикла и в поэме «Труба Гуль-Муллы». Тема Гиляна динамично развертывается в творчестве Хлебникова, сочетая в себе конкретику революционных событий, с одной стороны, и постижение законов мирового единства — с другой. Показательна в этом отношении заметка «Железное перо на ветке вербы» и ее вариант под названием «Ветка вербы» с подзаголовком «День вербы, ручки писателя». Оба текста датированы 30 апреля 1922 г., они были написаны на Кавказе, в Железноводске, и представляют интерес с точки зрения интерпретации иранских событий.
«Я пишу сейчас засохшей веткой вербы» (5: 237), — так начинаются воспоминания-размышления поэта о пережитых событиях 1921 г. Следует отметить, что в художественном мире Хлебникова типична ситуация сочлененности писчего инструмента и растения, писания «почерком» самой природы. Например, в повести «Зангези», создававшейся в 1920–1922-х гг., возникает картина гигантской книги, написанной соснами на прибрежном песке:
«В волнах песчаных
<Качались — мóря синéй прически> Сосен занозы.
Почерком сосен
Была написана книга песка, Книга морского певца» (5: 344).
Образ вербы — ручки писателя отсылает не только к природным, но и к культурным реалиям, прежде всего к христианскому празднику Вербного (Пальмового) воскресенья. Верба в праздничном ритуале символизирует пальмовые ветки, которыми встречали Христа, въезжавшего в Иерусалим. В память об этом событии в русских храмах принято в данный день освящать ветви вербы и затем слегка хлестать ими друг друга с пожеланием здоровья.
Соотнося ветку вербы с ручкой писателя, Хлебников переносит на инструмент собственного творчества христианскую символику. Поэт с пером, прикрепленным к вербе, приобщается к духовенству, берет на себя миссию спасения человечества в ситуации, когда «перо войны» ломает судьбы людей. Это находит отражение в стихотворении 1916 г. «Вербное воскресенье»:
«В грязи утопая, мы тянем сетьми Слепое человечество.
Мы были, мы были детьми, Теперь мы — крылатое жречество. Уж сиротеют серебряные почки
В руке растерянной девицы, Ей некого, ей незачем хлестать!
Пером войны оставленные точки И кладбища большие, как столица,
Людей судьбы другая стать» (1: 369).
В очерках 1922 г. Хлебников создает «жреческие» эквиваленты ветке вербы, которыми оказываются писательские ручки «из красной колючки железноводского терновника» и из «иглы дикобраза лесов Гиляна» (5: 237). Примечательно, что природные реалии как атрибуты творчества сопряжены в статье с утверждением новой религии поэтов и художников. Ставшие писчим инструментом ветка, колючка, игла дикобраза воплощают дух пространства, почву мысли и порождаемой ею культуры:
«Есть обычай вырывать растение мысли из почвы, где она родилась. Я же хочу, чтобы к корням пристали комья земли для глаз почвоведа» (5: 237).
Именно эти «комья земли» иранской «почвы» питают мысль о специфике революционных событий Гиляна, вмещают в себя и его леса, и лесных партизан — дженгелийцев, и горы Талыша, ставшие последним прибежищем дженгелийского лидера Мирзы Кучук-хана.
Характеризуя гилянских повстанцев, Ф. Машхадирафи отмечала: «Несмотря на то, что деятельность дженгелийцев высоко оценивалась местными жителями, российский консул в Гиляне имел по этому поводу совсем другое мнение. В письме, направленном в центральное управление МИД этой провинции, он назвал Мирзу и дженгелийцев бандитами и обвинил их в грабеже, краже имущества местных жителей, особенно граждан России…» [Машхадирафи: 110].
История Мирзы Кучук-хана, главы Гилянской Советской республики, провозглашенной в столице остана городе Реште 4 июня 1920 г., описана в заметке Хлебникова не в социальнополитическом, а в мифологическом ключе, роднящем ее с программным стихотворением иранского цикла «Видите, персы, вот я иду…» (2: 132). Если в стихотворении предстают образы Заратуштры, первых людей, моста между миром живых и царством мертвых, то в заметке актуализирована символика огня как основы зороастризма и противостоящая ей стихия холода, снега и смерти:
«…Кучук-хан, разбитый наголову своим противником, бежал в горы, чтобы увидеть снежную смерть, и там, вместе с остатками войск, замерз во время снеговой бури на вершинах Ирана. Воины пошли в горы и у замороженного трупа отрубили жречески прекрасную голову и, воткнув на копье, понесли в долины и получили от шаха обещанные 10 000 туманов награды.
Когда судьбы выходят из береговых размеров, как часто заключительный знак ставят силы природы!» (5: 367).
Игла гилянского дикобраза в руках поэта как раз и воплощает эти силы природы, вечные, безучастные к истории царств. Поэт в передаче трагических событий остается эпически беспристрастным. В самой судьбе Кучук-хана он видит столкновение льда и пламени как противоборства жизни и смерти:
«Он, спаливший дворец, чтобы поджечь своего противника во сне, хотевший для него смерти в огне, огненной казни, сам погибает от крайнего отсутствия огня, от дыхания снежной бури» (5: 367–368).
В заметке о ветке вербы жизнь и смерть сами по себе предстают как взаимопроникающие враждебные энергии. Это позволяет расширить наблюдение В. Вестстейна о смерти в ранней лирике Хлебникова на все творчество поэта: «Для него это [смерть] — часть жизни, но в то же время смерть следует не принимать, а преодолевать и побеждать. Борьба со смертью как дурной стороной жизни пронизывает все творчество Хлебникова»5 [Weststeijn: 616].
Примечательно, что воинов-повстанцев и воинов шахского правительства поэт также уравнивает, используя жизнеутверждающий эпитет «хороший», связанный с мечтами Кучук-хана о расцвете Ирана, а также с шахской наградой за выставленную в Реште голову мятежника:
«В его [Кучук-хана] голове стояла изба его родины — из хороших туманов и хороших воинов. Не успев это сделать при жизни, он сделал это после смерти, когда хорошие воины за его голову получили хорошие деньги» (5: 368).
Мы полагаем, что в этом примиряющем жесте снимаются противоречия группировок и кланов, но при этом актуализируется идея свободы, совмещающая в себе лед и пламя, что подтверждается замечанием И. Е. Васильева: «По Хлебникову, революция приносит свободу более жгучую, нежели пламя: "Жгучи свободы глаза, / Пламя в сравнении — холод!"» [Васильев: 90].
Хлебников объясняет поражение Кучук-хана, связывая в один смысловой узел законы политической борьбы и законы природы:
«Когда я бывал в этой стране в 21 году, я слышал слова: "Пришли русские и принесли с собою мороз и снег"» (5: 368).
Будучи поборником революционного преобразования Азии, поэт в то же время осознает невозможность персидской свободы как экспорта Советской России, поскольку русские — носители иных, противостоящих исконно огнепоклонническому Ирану стихий холода и оледенения.
По мысли поэта, духовное объединение России и Востока (вплоть до «Индии и юга», на которые в своих планах «опирался» Кучук-хан (5: 368)) возможно лишь на путях, прокладываемых «крылатым жречеством» (3: 188) поэтов и художников, «председателей земного шара» (3: 168), провозглашающих надгосударственную политику:
«Персидский ковер имен государств
Да сменится лучом человечества» (3: 174).
Именно творцы предстают как адепты новой религии, символика которой связывает в фонетическом сознании Хлебникова словообразы «вера», «верба», фамилию матери (Вербицкая) и имя младшей сестры Веры. Символом же поэтической «веры четырех измерений» (5: 368) предстает у Хлебникова пасха, изваянная художником П. В. Митуричем.
В заметке «Железное перо на ветке вербы» описание гилянских событий переходит в рассказ о сырной пасхе Митурича — сделанной из творога пирамиде, на гранях которой представлены символы христианства, ислама, буддизма. Четвертая же грань олицетворяет идею числа как меры, всемирного равновесия и блага, к которому устремлено человечество:
«На четырех склонах белого холма сыра (сырной горы) было следующее: на одном откосе стоял оттиснутый полумесяц Ислама, на другом — отпечаток ноги Будды, на третьем — крест Северной веры <…>, а на четверт<ом> — рощи из троек и двоек будетлян, где мера заменила веру» (5: 237–238).
В художественной логике очерка за повествованием о смерти следует рассказ о воскресении, переданный языком скульптуры. Так идеи милосердия и человеколюбия, связанные с праздником Вербного воскресенья, преобразуются в идею жертвенной любви, спасающей мир. Важно также то, что творение Митурича создано из творога — живого материала, предназначенного к поеданию, что включает «съедобный храм» в природный контекст очерка. Творог — это преображенные поэтической логикой верба, колючка терновника, игла дикобраза. В твороге Митурич воссоздает духовную «избу», дом человечества, как бы расширяя до планетарных масштабов замысел Кучук-хана о хорошей избе его гилянской родины.
Впечатления Хлебникова от пребывания в иранской провинции Гилян позволили поэту конкретизировать идеи единой общечеловеческой судьбы, придать региональную специфичность обобщенным образам революционной Азии. Гилян вносит в хлебниковский концепт нового человечества собственные ландшафты, мифологию, события прошлого и настоящего. В очерках, написанных незадолго до собственной смерти, поэт воссоздает логику священной истории: от Вербного воскресенья — к Пасхе; при этом ключевыми моментами предстают военное поражение гилянского политического лидера Кучук-хана и авангардное создание русского художника Митурича. В целом гилянский пласт поэтики Хлебникова воплощает в себе то особое персидское «веяние», которое расширяет границы русской литературы. Образы Гиляна — это образы судьбы самого поэта, преображающегося из красноармейца — в пророка, священника цветов Гуль-муллу, несущего людям счастье.
1 Названия страны Иран и Персия употребляются нами как синонимы. Первое из них отражает доисламскую историю государства и дословно означает «страна арийцев». Второе наименование представляет собой эллинизированный вариант названия области Парс, перенесенного на всю страну. Современное официально принятое в 1935 г. название — Иран. Для Хлебникова характерным является словоупотребление «Персия». «Иран» же может выступать как гидроним, например: «Как по речке по Ирану…» (поэт имеет в виду реку Сефидруд, в дельте которой расположен Решт — административный центр провинции Гилян).
2 Хлебников В. Собр. соч.: в 6 т. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. Т. 2. С. 551. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием тома (книги — нижним индексом) и страницы в круглых скобках.
3 В шиизме мессианские идеи связаны с верой в возвращение сокрытого имама Махди. В хадисах пророка Мухаммеда сказано, что Махди будет сопровождать облако, из которого раздастся голос ангела, подтверждающий, что Махди — наместник Аллаха на земле.
4 Имеется в виду украинское слово «хіба», созвучное немецкому «Habicht».
5 “For him it is a part of life, but at the same time it should not be accepted, but challenged and vanquished. The struggle with death as the evil side of life permeates Khlebnikov’s entire oeuvre” (перевод наш. — З. С. С., О. К., А. Ш.).
About the authors
Zeinab Sadeghi Sahlabad
Alzahra University
Author for correspondence.
Email: z.sadeghi@alzahra.ac.ir
ORCID iD: 0000-0002-7031-0763
PhD (Philology), Assistant Professor of the Department of Russian Language, Faculty of Literature
Iran, Islamic Republic of, TehranOksana A. Kravchenko
Alzahra University
Email: o.kravchenko@alzahra.ac.ir
ORCID iD: 0000-0003-2766-0589
PhD (Philology), Associate Professor, Adjunct Professor of the Department of Russian Language, Faculty of Literature
Iran, Islamic Republic of, TehranAlina A. Shuldishova
The Peoples’ Friendship University of Russia
Email: shuld_a@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9603-8411
PhD (Philology), Associate Professor of the Department of Russian Language no. 5, Institute of the Russian Language
Russian Federation, MoscowReferences
- Astrakhan’ — Gilyan v istorii russko-iranskikh otnosheniy [Astrakhan — Gilan in the History of Russian-Iranian Relations]. Astrakhan, Astrakhan State University Publ., 2004. 215 p. EDN: QOXARJ (In Russ.)
- Baran Kh. O Khlebnikove: konteksty, istochniki, mify [About Khlebnikov: Contexts, Sources, Myths]. Moscow, The Russian State University for the Humanities Publ., 2002. 416 p. (In Russ.)
- Vasil’ev I. The Element of Fire in the Russian Poetic Avant-Garde (Velimir Khlebnikov and Daniil Kharms). In: Quaestio Rossica, 2015, no. 2, pp. 85–105. Available at: https://qr.urfu.ru/ojs/index.php/qr/article/view/097/2991 (accessed on March 20, 2023). doi: 10.15826/qr.2015.2.097. EDN: UCCCSP (In Russ.)
- Ioffe D. The Futurist on the Margins of Islam: “Urus Dervish” and “Gul-Mulla” from the Vantage Point of Khlebnikov’s Biography and Poetics (Critical Survey and Addenda to the Commentary). In: Philologica, 2003/2005, vol. 8, no. 19–20, pp. 217–258. Available at: https://rvb.ru/philologica/08pdf/ 08ioffe.pdf (accessed on March 20, 2023). (In Russ.)
- Isaeva L. Kh. “So Says the Prophet!”: an Artistic Picture of the World in the Cycle of V. Khlebnikov’s Poems About Iran. In: Khudozhestvennaya kartina mira v fol’klore i tvorchestve russkikh pisateley [Artistic Picture of the World in Folklore and Works of Russian Writers]. Astrakhan, Astrakhan State University Publ., 2011, pp. 187–229. (In Russ.)
- Kiktev M. On the Composition of Khlebnikov’s Poem “Gul-Mulla’s Trumpet”. In: Tezisy dokladov III Khlebnikovskikh chteniy [The Theses of the Third Khlebnikov’s Readings]. Astrakhan, Astrakhan State Pedagogical University Publ., 1989, pp. 13–14. (In Russ.)
- Mashkhadirafi F. Velimir Khlebnikov and Cyclic View on History in the Poem “Persian Oak”. In: Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki [Philology. Theory & Practice]. Tambov, Gramota Publ., 2015, no. 7 (49), part 2, pp. 108–112. Available at: https://www.gramota.net/materi- als/2/2015/7-2/30.html (accessed on March 20, 2023). EDN: TUJDRB (In Russ.)
- Parnis A. V. Khlebnikov in Revolutionary Gilan (New Materials). In: Narody Azii i Afriki [Peoples of Asia and Africa], 1967, no. 5, pp. 156–164. (In Russ.)
- Sozina E. K. Geopoetics of the National Landscape in Russian Literature. In: Ural’skiy istoricheskiy vestnik [Ural Historical Journal], 2020, no. 2 (67), pp. 99–106. Available at: http://uralhist.uran.ru/pdf/UIV_2(67)_2020_Sozi- na.pdf (accessed on March 20, 2023). doi: 10.30759/1728-9718-2020-2(67)99-106. EDN: GLYUUN (In Russ.)
- Solntseva N. M. Persia in the Artistic Consciousness of the Poets of the Silver Age. In: Sergey Esenin: dialog s ХХI vekom: sbornik nauchnykh trudov po materialam Mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma, posvyashchennogo 115 godovshchine so dnya rozhdeniya S. A. Esenina [Sergey Yesenin: Dialogue with the 21st Century: Collection of Scientific Papers Based on the Materials of the International Scientific and Practical Conference Dedicated to the 115th Anniversary of the Birth of S. A. Yesenin]. Moscow, Konstantinovo, Ryazan, 2011, pp. 289–306. (In Russ.)
- Sumskaya M. Yu., Shul’zhenko V. I. “Ghosts of Persia” in Modern Russian Orientalism. In: Russkoe slovo v mnogoyazychnom mire: materialy XIV Kongressa MAPRYAL (g. Nur-Sultan, Kazakhstan, 29 aprelya — 3 maya 2019 goda) [Russian Word in a Multilingual World: Proceedings of the 14th Congress MAPRYAL (Nur-Sultan, Kazakhstan, April 29 — May 3, 2019)]. St. Petersburg, MAPRYAL Publ., 2019, pp. 1958–1964. Available at: https://elibrary. ru/download/elibrary_42958994_38432290.pdf (accessed on March 20, 2023). EDN: QMIUDK (In Russ.)
- Tartakovskiy P. I. Poeziya Khlebnikova i Vostok: 1917–1922 gody [Khlebnikov’s Poetry and the East: 1917–1922]. Tashkent, Fan Publ., 1992. 305 p. Available at: https://ka2.ru/nauka/tar_1917_4.html#r39 (accessed on March 20, 2023). (In Russ.)
- Sadeghi Sahlabad Z. Explaining and Studying the Linguistic Explorations of the Russian Futurist Poet Velimir Khlebnikov. In: Language Related Research, 2022, vol. 13, issue 4, pp. 317–347. Available at: https://lrr.modares. ac.ir/article-14-55251-en.pdf (accessed on March 20, 2023). DOI: 10.29252/ LRR.13.4.10 (In English, Persian, Russ.)
- Vroon R. Qurrat al-῾Ayn and the Image of Asia in Velimir Khlebnikov’s Post-Revolutionary Oeuvre. In: Russian Literature, 2001, no. 50, pp. 335–362. (In English, Russ.)
- Weststeijn W. G. Death in the Early Lyric Poetry of Velimir Khlebnikov. In: Зборник Матице српске за славистику [Matica Srpska Journal of Slavic Studies], 2021, no. 100, pp. 615–622. Available at: http://doi.fil.bg.ac.rs/ pdf/journals/ms_zmss/2021-100/ms_zmss-2021-100-36.pdf (accessed on March 20, 2023). doi: 10.18485/ms_zmss.2021.100.36 (In English, Russ.)
Supplementary files