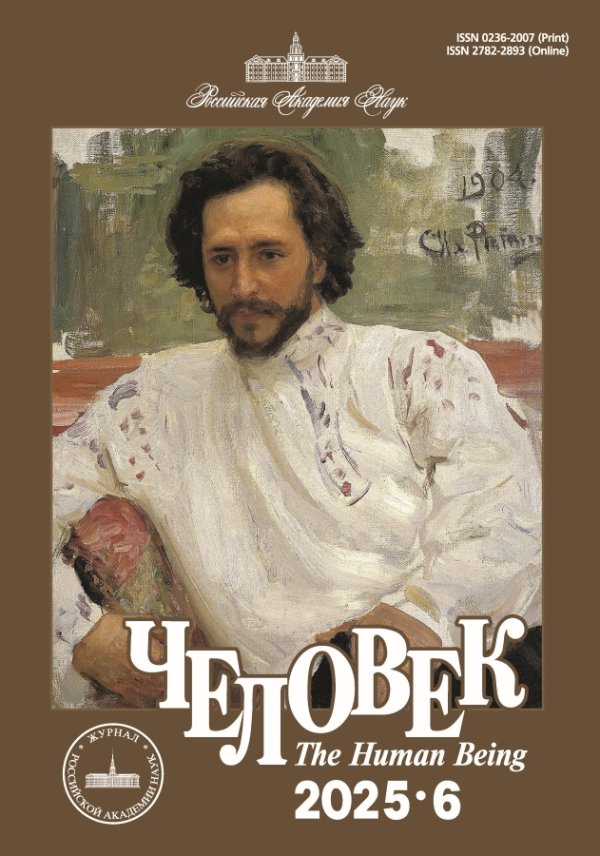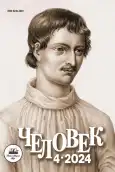The Evolution of Future Science: from the Art of Prediction to Sustainability Science
- Authors: Knyazeva E.N.1
-
Affiliations:
- Higher School of Economics
- Issue: Vol 35, No 4 (2024)
- Pages: 62-80
- Section: Scientific research
- URL: https://bakhtiniada.ru/0236-2007/article/view/263534
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0236200724040046
- ID: 263534
Full Text
Abstract
The article shows how methods for studying the future developed, starting from ancient times, when seers and oracles were revered, through utopias, conjectures and projects of the future in the era of modern times and the Enlightenment, to the emergence and development of the modern Futures Studies and Foresight proper, starting from the middle of the 20th century to the present day. The instruments of futures studies have evolved from individually nuanced techniques and the art of guessing the future to science-based methods for assessing possible, multiple and preferable futures. The fundamental differences between prognostic science and foresight are revealed. While prognostic science deals with foreseeing the most likely and unambiguous future, foresight is based on methods of scenario planning and roadmaps building for strategic management and achieving preferred images of the future. Modern foresight instruments are based on their understanding of the fundamental openness of the future, the existence of development alternatives and the construction of scenarios for future development. The most promising and proven in practice basis for futures research and foresight is the modern science of complex systems, since it is on its basis that it is possible to recognize development trends, strategic vision of remote goals and develop methods for soft and effective management of complex technological and social systems. It is this that has become the evidence-based scientific foundation for the implementation of sustainable development goals and for creating sustainable futures.
Full Text
Основные вехи развития исследования будущего
Стремление людей предсказывать будущее появилось с давних времен и насчитывает историю в три тысячелетия. Китайские шаманы династии Чан в 1200 году до н.э. оставляли свои послания на костях оракула, чтобы передавать свои предсказания [Gidley, 2017: 49]. Много позже, но руководствуясь схожими принципами, викинги бросали их руны с природными силами, чтобы помогать людям предсказать свою судьбу и бороться с негативными влияниями.
Но наиболее известны и до сих пор важны для современных исследований будущего технические приемы предсказания будущего, развитые дельфийскими оракулами в Древней Греции, расцвет которых приходится на VII–V века до нашей эры. Именно к этому периоду относится так называемое осевое время (с VIII до II века до н.э с его центром в V веке до н.э.), которое как термин было введено философом К. Ясперсом. Именно в осевое время человек начинает осознавать самого себя и закладываются рациональные основы человеческой цивилизации. В Дельфах был изобретен метод техники, до сих пор применяемый в усовершенствованном виде для исследований будущего. Дельфийские оракулы сидели в храме Аполлона и наблюдали за движениями жрицы-прорицательницы Пифии, которая входила в состояние транса, надышавшись лавровыми ветками и газом метаном, выходившим из щели горы. Дельфийские оракулы получали задание дать прогноз, например, начинать ли военное действие или нет, и если да, то когда, и их предсказанию помогала интерпретация соответствующего поведения Пифии.
Дельфы. Фото автора
Прогнозы, данные дельфийскими оракулами, как правило, сбывались, потому что они давали свой ответ неоднозначно. Например, если ты соберешь достаточное войско и начнешь свой военный поход в нужный период весны, то ты победишь. Если военачальник, царь определенной области Греции побеждал, это подтверждало прогноз; если он проигрывал, значит, он не вполне последовал указаниям дельфийских оракулов и собрал недостаточное войско или начал свой военный поход не вовремя.
Современная дельфийская техника заключается в следующем. Эксперты независимо друг от друга отвечают на вопросы в два или более раундов. После каждого раунда модератор делает анонимное обобщение (summary) предсказаний в предыдущем раунде, а также аргументов, которые привели эксперты в обоснование своей позиции. Эксперты пересматривают свои прежние ответы в свете предсказаний, сделанных другими участниками панели. Предполагается, что в ходе этого процесса число ответов уменьшается, и члены конвергируют к «правильному» ответу. Процесс останавливают, если он отвечает предзаданным критериям (количество допустимых раундов, достижение согласия, стабильность результатов). Ключевые характеристики дельфийской техники таковы: 1) структурирование потока информации (избегание негативных эффектов панельной дискуссии лицом к лицу), каждый эксперт не знает о том, кто еще включен в круг экспертов по данному вопросу; 2) регулярная обратная связь; 3) анонимность участников, 4) роль модератора (сбор и обобщение ответов, если согласия не достигается, процесс продолжается через тезис и антитезис, который обычно ведет к синтезу и достижению консенсуса).
В своих диалогах «Государство» и «Законы» Платон создал образ идеального государства, напоминающего в некоторых чертах коммунистическую утопию с явными чертами тоталитаризма. В эпоху Ренессанса создавались утопические сочинения о будущем и совершенном устройстве человеческого общества, к которым относится сочинение Т. Мора Utopia (1516), Т. Кампанеллы «Город Солнца» (La città del sole, 1602). Было опубликовано пророческое сочинение Нострадамуса Les Propheties (1555), которое часто исключается из рассмотрения как не отвечающее стандартам научного знания. Создатель метода научного эмпиризма Ф. Бэкон написал утопическое произведение «Новая Атлантида», опубликованное сразу после его смерти в 1627 году. В нем он рассказал об острове в Тихом океане, управляемом мудрыми правителями — «Домом Соломона». Дом Соломона стал прообразом современного организационного устройства научных академий. В своем сочинении De Rerum Originatione (1697) Лейбниц развил космогонический аргумент в защиту существования Бога и выступил как предвестник теории эволюции сознания. Эти идеи развивались в последующем в «Системе трансцендентального идеализма» Шеллингом. В 1868 году Дж. С. Милль в Британском парламенте впервые употребил термин «антиутопия» (dystopia). Этот жанр расцвел в XX веке в произведениях О. Хаксли и Дж. Оруэлла.
Родоначальники социологии О. Конт и Г. Спенсер в XIX веке стали говорить о мегатрендах социальных изменений. Их можно рассматривать как основоположников теории социальных изменений в социологии и как предтечу современных исследований будущего. Спенсер основывал свою теорию на некоторых идеях, заимствованных из эволюционного учения Дарвина, вкрапляя в них элементы ламаркизма. Он считал, что существуют некие энергетические принципы, которые в равной степени относятся к неорганической, органической и сверхорганической (социальной) эволюции [McKinnon, 2010]. Социологические феномены, например власть, он выводил из физических принципов, из природы энергии. Эволюция неизбежна и прогрессивна как в неорганическом, так и органическом и сверх-органическом (социальном) мире. Общая тенденция эволюции такова, что соединение простых гомогенных субстанций на всех уровнях организации мира не стабильно, и, стало быть, эволюция протекает к большей стабилизации через дифференциацию. Здесь он предвидел принцип общей теории систем, что устойчивость системы поддерживается благодаря разнообразию элементов.
Возникновение исследований будущего в их современном виде — это феномен, получивший развитие после Второй мировой войны [Hines, 2020]. Тогда стали думать о долговременном позитивном будущем для человечества в целом. В СССР это было связно с плановым развитием национальной экономики. В США исследование будущего как дисциплина вырастало из успешного применения средств и перспектив системного анализа. При этом в США значительную роль сыграла RAND Corporation, целью которой было способствовать развитию науки и образования с целью увеличения общественного благосостояния и безопасности страны. Именно во второй половине 1940-х и в 1950-е годы особенно усилилась активность футуристов и специалистов по исследованию будущего [ibid.]. В 1973 году была основана Всемирная ассоциация исследования будущего (WFSF), которая объединяет в настоящее время исследователей из более чем 60 стран мира.
Научно фундированное исследование будущего
Современные исследования будущего (Futures Studies) — заметьте, будущего не в единственном, а во множественном числе, то есть исследование перспектив — это область трансдисциплинарных исследований, базирующихся во все большей степени на теории сложных систем. Исследования будущего, как определяют их сегодня ведущие специалисты в этой области, — это трансдисциплинарный, базирующийся на науке о сложных системах подход к анализу образцов изменений в прошлом, определение трендов и возможных результатов изменений в настоящем и построение альтернативных сценариев возможных будущих изменений, чтобы помочь людям создать то будущее, которое они желают.
Один из основателей науки о будущем У. Белл утверждал, что будущее открыто, не предопределено, на будущее могут влиять как индивидуальные, так и коллективные действия людей [Bell, 2009]. Исследования будущего, по его мнению, требуют холистического и трансдисциплинарного подходов [Anthoni et al., 2020]. Кроме того, Белл обозначил необходимость нормативного подхода к будущему, к оценке его перспектив, показав, что некоторые варианты будущего, вероятно, лучше других, а поэтому от специалистов по исследованию будущего требуется критически оценивать различные его варианты и отбирать наиболее желаемые и предпочтительные.
Три ключевых представления составляют основу для современных исследований будущего, а именно:
- введенное Фредом Полаком в книге “The Image of the Future” (1955) и получившее широкое распространение представление об «образах будущего», тем самым он инициировал взгляд, что будущее дано нам в альтернативах;
- «альтернативное возможное будущее», а поскольку есть альтернативы, то можно строить сценарии развития или заниматься сценарным стратегическим планированием,
- «конструирование будущего», не просто угадывание, но и активное конструирование трендов и построение желаемого будущего.
Специалисты в области изучения будущего и стратегического форсайта ориентированы на исследование возможного, вероятного и предпочитаемое будущего, вернее, вариантов будущего 4P Futures, а именно: plausible, probable, possible, and preferable futures. Правдоподобное будущее (Plausible futures) — это то, что может произойти в соответствии с нашими знаниями о сложном и неопределенном мире сегодня. Вероятное будущее (Probable futures) — это те сценарии, которые вероятно развернутся, и те возможности, которые вероятно реализуются. Возможное будущее (Possible futures) — это широкий круг сценариев, построенных на реализации всех имеющихся возможностей. Предпочитаемое будущее (Preferred future) — это то, что должно произойти или представляется нам желаемым, чтобы произошло, то есть это тот набор возможностей, на оценке которых строятся нормативные или организационные подходы к управлению и которые определяют действия людей в настоящем. Важно определить спектр возможного будущего, то есть построить сценарии, но саму сложную работу по построению сценариев желательно дополнить оценкой вероятности осуществления того или иного сценария (вероятное будущее), определение предпочитаемого, или желаемого, будущего уже связано с выбором ценностей.
Исследуя тренды, важно понять, как они зарождаются, уловить то, что скрыто и не проявлено (потенциальные тренды). Ожидаемое прохождение процессов через точки бифуркации может описываться как ветвящиеся тренды. Подобно живым организмам, для трендов также характерны жизненные циклы: зарождение, подъем, достижение наибольшего развития и проявления (пика), спад и исчезновение. Кроме локальных (для одной страны или для одной отрасли) трендов рекомендуется принимать во внимание и мегатренды, проявляющиеся в глобальном масштабе: урбанизация, информатизация (быстрое развитие технологий), демографический переход, изменение климата и т.д. Наблюдение за возникновением и развитием трендов предполагает отслеживание инноваций, их появления и разрастания (или затухания). Оцениваются в том числе и так называемые события wild card — события с низкой вероятностью, но с сильным воздействием на происходящее.
Специалисты по исследованию будущего исходят из следующих базовых взаимосвязанных представлений:
Быстрые трансформации на современном этапе цивилизационного развития человечества убеждают нас, что современность совершенно не похожа на предыдущие этапы человеческой истории.
Альтернативистика является краеугольным камнем современных исследований будущего. Будущее неоднозначно, многовариантно, множественно [Dator, 2009]. Существует множество миров будущего, мультиверс будущего. А поэтому и сами методы исследования будущего должны быть гибкими и многовариантными. Элеонора Мазини призывала плюрализировать будущее [Masini, 1993]. А Бертран де Жувенель, создатель ассоциации Association Internationale de Futuribles, ввел термин Futuribles, то есть будущее во множественном числе [Anthoni et al., 2020].
Множество миров будущего не только изучается учеными, но и создается; тренды не только открываются, но и конструируются. Мы находимся внутри самих исторических процессов и ответственны за будущее.
Будущее случается не независимо от нас, мы находимся в интерактивном взаимодействии с будущим, принимаем участие в его созидании. Мы взаимодействуем с будущим через прошлое и настоящее. Это партисипативное будущее (participatory futures) [Ollenburg, 2019]. Кроме того, мы взаимодействуем между собой, «мобилизуем совместные усилия» [Saritas et al., 2022], чтобы определить то будущее, которое нам предпочтительно; это также аспект партисипативности для будущего.
Наиболее интересно отслеживание изменений в долгосрочной перспективе. Все специалисты по стратегическому форсайту сходятся в том, что важно видеть не то, что будет завтра, а в отдаленном будущем [Hines, Bishop, 2015; Demneh, 2023]. Чтобы вести эффективную публичную политику здесь и сейчас, желательно ориентироваться на долгосрочную перспективу, как я бы сказала, на структуры-аттракторы эволюции.
Оценка возможных образов будущего и разработка альтернативных сценариев будущего развития осуществляется в локальном масштабе с пониманием глобальных вызовов, а решение глобальных проблем влияет на локальные процессы. Происходит зуммирование снизу вверх и сверху вниз. Глоказизация (global + local) означает встроенность локального в глобальное и одновременно обратную зависимость глобального от локального, глобального мира от отдельного человека как социального актора, всемирных трендов от местной политики [Dennis, Erlandsson, 2014].
Понимание сложности мира, сложности и нелинейности эволюционных процессов является сегодня ключом к стратегическому видению будущего, сценарному планированию и форсайту. Теория сложных систем является по своей сути междисциплинарной (трансдисциплинарной), и на этой междисциплинарной основе строятся эффективные методологические инструменты форсайта. Системное, холистическое мышление, особенно в его эволюционном измерении, играет при этом решающую роль.
Проактивное будущее (proactive futures). Человек не только находится внутри трендов и взаимодействует с будущим, но и активен в созидании предпочитаемого будущего. Страсть к новизне и изменению мира к лучшему — мощный мотив работы специалистов по форсайту. Проактивность означает также и повышенную корпоративную и даже личную ответственность за конструируемое будущее [Floridi, Strait, 2020].
Никогда нельзя переоценить значимость надежды как ключевой силы в созидании лучшего будущего. Надежда — это странный аттрактор. Мы, как прагматики, живем в этом мире, но, как творцы, запускаем силу своего воображения и строим другой. Последствия деятельности могут быть не в точности такими, как мы предполагали, нас поджидают неожиданности, именно в этом суть странного аттрактора. Однако мы должны уметь своевременно корректировать свои действия для достижения стратегических целей. Специалисты по исследованию будущего видят свою миссию, дело своей жизни в том, чтобы способствовать созданию лучшего будущего для будущих поколений.
Устойчивое развитие (sustainable development) — это сбалансированное и самоподдерживающееся развитие, связанное с развитием зеленой экономики и производств замкнутого цикла [Ukaga et al., 2010]. Устойчивое будущее (sustainable future) создается благодаря следованию принципам устойчивого развития. Это целая парадигма, которая включает в себя понимание необходимых технологических и культурных изменений. Достижение устойчивости может произойти только в глобальном масштабе, поскольку все в мире взаимозависимо, поэтому можно говорить об устойчивой глобализации (sustainable globalization).
От предсказания к форсайту
Исследования будущего (Futures Studies) являются более общим полем трансдисциплинарных исследований, тогда как форсайт имеет более прикладное значение, применение методов исследования будущего к бизнесу, предпринимательству, экономике, финансам, развитию технологий. Исследования будущего представляют собой некий зонтичный термин, объемлющий различные концептуальные и теоретические представления, на основе которых развиваются в том числе и прикладные исследования и практики — разные виды форсайта. Исследования будущего фокусируются на предсказании, какие возможные или вероятные технологии могут существовать в будущем и как эти технологии могут использоваться обществом. А технологический форсайт пытается определить будущие характеристики отдельных технологий и оценить влияние существующих или возникающих технологий на промышленность, окружающую среду и общество [Floridi, Strait, 2020].
Радикальное отличие использующихся ранее техник предсказания (forecasting) от нынешних инструментов форсайта (foresight) заключается в том, что в предсказании и прогнозировании стремятся определить однозначное будущее, то будущее состояние, которое наступит, а форсайт содержит в своей основе понимание многовариантного, многозначного будущего и дорожных карт, которые могут вести к различным будущим состояниям, образам желаемого будущего.
Б. Мартин выделяет три фундаментальных отличия предсказания и прогнозирования от современного форсайта.
Во-первых, это переход от однозначности и строгой детерминированности будущего к неоднозначности будущего и сценарности в мышлении о будущем. «Понятия прогнозирования и форсайта предвидения включают в себя принципиально различные онтологические предположения о будущем. Целью традиционного прогнозирования является получение прогнозов, которые могут быть оправданы «научно»… В их основе лежит предположение, что существует только одно вероятное будущее, и что оно может быть связано однолинейным и детерминированным образом с настоящим и прошлым. Напротив, цель форсайта состоит в том, чтобы систематически исследовать, насколько это возможно, «какие шансы на развитие событий и какие варианты действий открыты в настоящее время, а затем провести аналитическую работу, чтобы определить, к каким альтернативным будущим результатам может привести развитие событий» [Martin, 2010: 1411].
Во-вторых, форсайт является «процессом, а не набором техник» в отличие от прогнозирования и предвидения [ibid.: 1410]. Инструменты форсайта все время находятся в развитии, чтобы отвечать неоднозначным и запутанным процессам, протекающим в сложных социально-экономических и технологических системах. Понять сложное можно только с помощью инструментов, которые сами являются сложными.
В-третьих, «в то время как техники прогнозирования могут рассматриваться (и часто это так и есть на самом деле) как «черный ящик» для перевода входных предположений в выходные данные, принимая форму предсказания будущего, форсайт гораздо больше озабочен созданием лучшего понимания возможных вариантов развития событий и тех сил, которые, вероятно, их будут формировать» [ibid.: 1411]. В последнем аспекте различий между предсказанием и форсайтом обращается внимание на еще одно фундаментальное их различие: тогда как предсказание пассивно принимает будущее так, как оно будет, в форсайте содержатся конструктивистские установки, мы активно выбираем из возможных вариантов и формируем то будущее, которое нам желательно. «Форсайт включает в себя явное признание того, что акты выбора, совершаемые сегодня, могут оформить или создать будущее» [Martin, Irvine, 1989: 4]. Важно также, что к процессу выбора из возможных альтернатив будущего развития в дополнение к специалистам по форсайту подключаются широкие общественные круги, государственные ведомства и различные стейкхолдеры. То есть выбор пути и осуществление определенного сценария развития предполагает широкое демократическое обсуждение ценностей и предпочтений, которые его определяют.
Немаловажен также когнитивный аспект мышления о будущем в его множественности и альтернативах, а также сценарного планирования. Какими когнитивными способностями должен обладать специалист по форсайту, чтобы быть успешным в конструировании сценариев и построении дорожных карт? Какой нейрофизиологический базис имеется для того, чтобы развить в себе чувство будущего и рассказать о его вариантах? Одной из ключевых характеристик необходимого состояния ума (mindset) является, как предполагают специалисты, его открытость опыту, как прошлому, так и настоящему. Будущее открывается опытному взгляду, знающему историю и обладающему любопытством и креативностью. «Открытость описывается целым рядом терминов: любопытный, имажинативный, прозорливый, интуитивный, оригинальный, имеющий широкий круг интересов — именно в таких терминах идентифицируются люди в опросах и перечнях: широкий круг интересов, придание ценности интеллектуальным вопросам, вынесение суждений в нетрадиционных рамках, эстетически реактивные… Словом, это люди, которые открыты опыту, которые стремятся быть интеллектуально любопытными, креативными и подключать свое воображение» [Conway, 2022: 28].
La prospective. Стратегический форсайт
Во франкоговорящих странах мира для стратегического форсайта используется термин «la prospective». Этот термин был впервые предложен французским философом Гастоном Берже в 1957 году, когда он выступил основателем журнала «Prospective». Вслед за Берже этот термин стал использовать и развивать Мишель Годе, представляя его как французский аналог стратегического форсайта. Он напоминал нам установку Берже, что la prospective требует от нас «смотреть дальше, шире и глубже, думая о человечестве и принимая риски» [Godet, 2006: 6]. Пять ключевых идей стратегического форсайта, согласно Годе, таковы:
- необходимо научиться извлекать уроки из истории. История не повторяется в отличие от человеческого поведения, подверженного стереотипам;
- ключевые акторы появляются в точках надлома, точках бифуркации, которые раскрывают спектр различных путей в будущее и предоставляют возможность на выбор будущего. В точках бифуркации приходит понимание, что будущее есть raison d'être (смысл) бытия настоящего. Действия, предпринимаемые сегодня, определяются не текущими условиями и состояниями, а целями (аттракторами) процессов;
- нет нужды усложнять средства для решения сложных проблем, история науки показывает, что сложное решается простыми и элегантными научными средствами. Наука предоставляет возможность редуцировать сложное к простому, разрабатывая модели эволюционных процессов;
- нужно задавать правильные вопросы и не допускать предубеждений, являющихся когнитивными ловушками и сбивающими нас с пути мысли;
- переход от предвосхищения (антиципации) к действию происходит благодаря подключению эмоций, страстей, эмоционального интеллекта, которому в настоящее время придается большое значение.
Стратегический форсайт позволяет строить сценарии, которые бывают двух типов: 1) объясняющие, которые строятся на экстраполяции прошлых и настоящих трендов и показывают вероятное будущее. Это сценарии объективны; 2) нормативные (антиципирующие); в таких сценариях будущее конструируется по его альтернативным образам, либо желаемым, либо тем, которых опасаются. Эти сценарии субъективны [Godet 2006: 10]. Применение моделей из теории сложных систем показывает, что экстраполяция прежних и текущих трендов может приводить к ошибкам в проспективном анализе. Напротив, антиципация отдаленных трендов, несмотря на ее, казалось бы, субъективные основания, может быть более ценной для стратегического форсайта и построения дорожных карт.
Стратегическому форсайту посвящено множество публикаций [Bishop, Hines, Collins, 2007; Hines, Bishop, 2015]. Стратегический форсайт дает холистическую и долгосрочную перспективу для принятия компаниями действенных бизнес-решений, помогающих снизить риски и максимально использовать те возможности, которые могут возникнуть [Hines, Bishop, 2015].
Понимание того, как взаимодействуют между собой прошлое, настоящее и будущее при построении сценариев будущего развития, позволяет антиципировать будущее в разных горизонтах. Практико ориентированные форсайт-исследования опираются при этом на философию времени, идущую от Аврелия Августина, феноменологию времени, разработанную Э. Гуссерлем, понимание времени, развиваемое в постмодернизме и поструктурализме (Ю. Кристева, Ж. Делез) и в акторно-сетевой концепции (Б. Латур). Аврелий Августин говорил, что прошлое и будущее содержатся в настоящем как наша память и наши ожидания. Э. Гуссерль строил феноменологию внутреннего восприятия времени и объяснял, что настоящее имеет свою глубину и из него тянутся ретенции в прошлое и протенции в будущее. Ж. Делез дал образ ризомы как разветвленной древовидной структуры, обладающей самоорганизацией и синергетическими свойствами, где порождающее сопряжено с порожденным и сплетено в сети, спрягающие прошлое, настоящее и будущее. Б. Латур дал нам возможность понять, что нарративность и рассказ историй неотделимы от всякого человеческого действия, его агентности в мире и в этих сетях агентности граждане, общественные активисты, политики, ученые, инженеры, писатели и художники соединены между собой в общие зоны обмена. Для исследований будущего и форсайта это означает, что будущее конструируется как партисипативное.
Именно на этой философски фундированной концептуальной основе возникает представление о расширенном настоящем (Extended Present), знакомом будущем (Familiar Futures) и немыслимом будущем (Unthought Futures) [Sardar, Sweeney, 2016] или о трех горизонтах будущего. Расширенное настоящее наполнено трендами (глобальными, региональными и локальными), возникающими проблемами и вызовами в перспективе 5–10 лет. Знакомое будущее, которое может длиться от 10 до 20 лет, является знакомым, поскольку опосредовано образами и представлениями о будущем (будущих), основанными на данных существующих прогнозов, предоставленных наукой и научной фантастикой. Немыслимое будущее связано с глубокими неопределенностями, непобедимым невежеством и постнормальными возможностями, которые могут нам открыться.
Наука об устойчивости
Об устойчивом развитии чаще всего говорят в плане ценностей цивилизации будущего, ответственности нынешнего поколения за условия жизни последующих поколений, а также стратегий конкретной экономической, социальной или экологической политики. Но редко задумываются о содержании самого понятия «устойчивое развитие» и о тех научных основаниях, которые могут лежать в основании концепции устойчивого развития. Во-первых, устойчивое развитие — это не достижение какого-то стабильного или статического состояния в развитии экономики и общества. Здесь имеется в виду динамическая устойчивость, устойчивость в движении, в постоянном изменении. В качестве метафоры можно представить себе велосипедиста, который тем более устойчив, чем быстрее он едет. Во-вторых, при выяснении смыслов устойчивого развития (sustainable development) часто говорят о resilence, то есть о гибкости, пластичности, податливости, пружинистости трендов развития, когда возможные отклонения от определенного направления развития не разрушают тренд, а открывают внутренние возможности для его восстановления и продолжения. В-третьих, английский термин для устойчивого развития — sustainable development — содержит еще и такой смысл, что это самоподдерживающееся развитие, импульс идеи снизу от самоорганизации системы, а не извне.
В настоящее время приходят к пониманию, что наука об устойчивости (Science of Sustainability) должна строиться на понимании динамических свойств сложных систем [Sterman, 2012]. Дж. Стерман выделяет следующие свойства сложных систем, которые важны для организации и управления предпринимательской деятельностью и работой фирм, которые соответствие требованиям стратегий устойчивого развития ставят во главу угла своей деятельности.
Сложные системы находятся в постоянном изменении, в динамике. Эту динамику можно рассматривать в различных пространственных и временных горизонтах или масштабах. Это и внутренняя динамика самих сложных систем, и изменения в окружающей их среде. Одно воздействует на другое, так что стратегическое управление — это всегда изменение деятельности сложной системы, умение лавировать и приспосабливаться в зависимости от изменяющегося окружения, локального или более глобального. Сложные социоэкономические системы являются адаптивными так же, как и все живые системы.
Сложная система — это совокупность элементов, тесно сцепленных друг с другом элементов, так что действия каждого элемента существенны и для окружения, и для системы в целом. Каждый элемент несет в себе природу всей системы.
Сложные системы управляются отрицательными и положительными обратными связями. Отрицательная обратная связь является уравновешивающей, балансирующей и означает феномен гомеостазиса. Положительная обратная связь регулирует быстрый рост и развитие системы, она является подстегивающей, усиливающей. Всякое действие в сложной социоэкономической системе приводит к изменениям, а последующие действия изменяют ситуации. Эти цепочки или сети взаимосвязанных и сопряженных действий могут приводить к неожиданным последствиям.
Сложные системы характеризуются как нелинейные. Нелинейность означает, что «следствие редко пропорционально причине» [Sterman, 2012]. Некоторые, даже весьма существенные, локальные действия могут не изменять состояние системы. Другие же, быть может, даже слабые, могут приводить к существенным изменениям в масштабах подсистем или всей системы в целом. Взаимодействие акторов внутри социоэкономической системы настольно сложное, что позитивная мотивация сотрудника со стороны его руководителя может обернуться отказом от работы или даже его уходом с должности.
Сложные системы обладают свойством зависимости от своей истории. Многие действия необратимы. Причем практически незаметные последствия, пример в изменении условий окружающей среды, могут обернуться в масштабах лет или десятилетий экологической катастрофой. Незначительные изменения накапливаются, они необратимы и могут вызвать значительные или даже разрушительные последствия. Отдаленные эффекты и последствия могут весьма существенно отличаться от непосредственных и кратковременных откликов системы.
Нельзя упускать из виду важность самоорганизации, того, что идет изнутри самой системы благодаря ее собственной спонтанной динамике. Малые и случайные изменения на уровне элементов могут разрастаться в новые пространственно-временные паттерны в масштабах всей системы.
Использование понятий из теории сложных систем дает нам более глубокое понимание того, как можно обеспечить экономическое и технологическое развитие, отвечая одновременно требованиям экологической безопасности и конструируя устойчивое будущее. Современные экологические стандарты связаны с уменьшением потребления энергии и материальных ресурсов, постепенным переходом к возобновляемым источникам энергии, сокращением выбросов углекислого газа в атмосферу, развитием циркулярной, зеленой экономики замкнутого цикла, сокращением отходов и переработкой раздельно собираемого мусора. Теория сложных систем дает нам некоторые важные ориентации для экологической политики.
Ограниченность ресурсов и пропускной способности (carrying capacity) самой природной среды. Экономическое и технологическое развитие в эпоху антропоцена оставляет глубокий антропогенный след на природной среде, превышающей ее пропускную способность [Sterman, 2012]. Обычно пропускная способность связывается со средним количеством народонаселения на определенной территории, которое может выдержать окружающая среда. Это применимо и к глобальным планетарным масштабам, и региональным, и к локальным.
Сопротивление проводимой политике (policy resistance). Экономические и социальные ситуации могут развиваться совершенно не в том направлении, которое закладывалось в целях проводимой политики. Гегель в своей философии истории называл это «хитростью разума». Люди предпринимают свои собственные действия, а история имеет свою собственную логику, которая приводит к событиям, которые по своему смыслу прямо противоположны первоначальным намерениям людей. Эта собственная логика истории — это системный эффект исторического процесса, который вкладывается поверх голов, мыслей и действий конкретных исторических акторов. Р. Мертон рассмотрел это с социологической точки зрения и пришел к выводу, что социальные ситуации складываются как неожиданные, непреднамеренные последствия определенных социальных действий [Merton, 1936]. Непреднамеренность результатов обусловлена, по мнению Мертона, тем, что система имеет латентные функции, она дисфункциональна или действия людей несущественны для изменения состояния системы. Применительно к сложным социально-экономическим системам Р. Стерман говорит о феномене сопротивления проводимой политике. Системы как будто проявляют «упрямство», так что политические программы, внутри которых заложены благие намерения, могут иметь непредвиденные побочные эффекты [Sterman, 2012]. Так, политика по тушению лесных пожаров эффективна только в краткосрочной перспективе, но первоначальный успех увеличивает потребность в топливе для пожарных средств, что в итоге приводит к увеличению частоты и серьезности пожаров. Имеет место непросчитываемость результатов проводимой политики от первоначальных задач и предпринимаемых действий.
Зависимость от пути (path-dependence). В сложных социально-экономических системах необходимо учитывать влияние случайности на ход процессов и возможное включение механизмов самоусиления хода процессов, так что действия социальных и/или экономических акторов оказываются «заблокированными» и не могут сдержать протекание процессов в нежелательном для них направлении [Garud et al., 2010]. Системный механизм, лежащий в основе такого рода феноменов, — это разрастание первоначальных незначительных флуктуаций и случайностей. Например, экономический спад ведет еще к большему спаду, падение спроса подстегивает его дальнейшее падение и т.п., или наоборот, рост спроса подстегивает еще больший дальнейший рост. Когда и при каких условиях процесс может развернуться в обратную сторону, менеджеры и аналитики могут ожидать, лишь развивая стратегическое видение, основанное на понимании сложного поведения экономических систем. Натренированные установки предпринимательским умом способны при определенных условиях подхватить случайность и превратить ее в «счастливую случайность» (serendipity), направив динамику процесса таким образом, что она будет создавать желаемый путь (path-creation) [ibid.]. В таком случае слепую случайность удается превратить в полезную культивируемую случайность.
Горизонты видения. Точки перелома. Необходимо учитывать масштабы изменений в сложных системах и их видимость. То, что незаметно на протяжении небольших промежутков времени, может быть критичным для жизни поколений, в долговременной перспективе. Стерман указывает также на существование точек перелома [Sterman, 2012], когда небольшие изменения накапливаются и приводят в итоге к ее обрушению. Например, как показывает Стерман, рыболовство рушится, когда запасы рыбы падают настолько, что система переходит в режим, в котором пополнение новыми поколениями рыб падает критически, потому что рыбы становится слишком мало, чтобы заменить то, что вылавливается.
Задержка во времени, или отложенные последствия. Люди обычно недооценивают важность этого феномена, и даже если что-то меняется к худшему, это не вызывает у них серьезных опасений. Это политика «Подождем-и-увидим» [ibid.]. Например, изменения климата происходят очень медленно, но в итоге могут привести к существенному ухудшению условий жизни людей на планете. Или загрязнение воздуха от работы предприятий, сжигающих топливо. Негативные последствия на здоровье человека это оказывает сразу же, но незначительные ухудшения часто становятся заметными и порождают в обществе тревогу только через много десятилетий, когда эпидемическая обстановка, связанная с многочисленными случаями заболеваний легких у населения, начинает бить тревогу и вынуждает к принятию неотложных мер для улучшения экологической ситуации. В таком случае можно говорить об отложенных негативных последствиях.
* * *
В статье прослежена история развития инструментов и методов исследования будущего: от индивидуального искусства предсказания древними пророками к прогностической науке и антиципации вероятного будущего и далее к инструментам проактивной работы с будущим, активного конструирования альтернативных сценариев и движения к предпочитаемому будущему. Конструирование сценариев и построение дорожных карт в современном форсайте основывается на мышлении не об однозначном будущем, а о будущем в его многообразии и в его альтернативах. Сценарии расширяют возможности работы со сложностью и неопределенностью эволюционных процессов. Сценарии способствуют появлению чувства общей уверенности в отношении будущего при движении по разным, альтернативным траекториям, а также готовности к многовариантному будущему. Использование методов теории сложных систем в исследовании будущего позволяет улавливать слабые сигналы для предотвращения неблагоприятных цепочек событий и, напротив, использовать счастливые случайности, подстегивая продвижение к желаемым и наиболее предпочитаемым целям. Встраивание инструментов работы со сложностью в современные практики исследования будущего и стратегического форсайта откроет нам еще немало новых возможностей и приятных сюрпризов.
About the authors
Elena N. Knyazeva
Higher School of Economics
Author for correspondence.
Email: hknyazeva@hse.ru
ORCID iD: 0000-0003-2427-0884
Professor, School of Philosophy and Cultural Studies
Russian Federation, MoscowReferences
- Anthoni E., Van Leemput M., Schoffelen J. & Hannes K. Futures Studies. SAGE Research Methods Foundations. Ed. by Atkinson P.A., Delamont S., Williams R.A., Cernat A., Sakshaug J. L.: SAGE Publications Ltd., 2020.
- Bell W. Foundations of Future Studies. History, Purposes, and Knowledge Human Science for a New Era. Vol. 1. New Brunswick, L.: Transaction Publishers, 2009.
- Bishop P., Hines A., Collins T. The Current State of Scenario Development: an Overview of Techniques. Foresight. 2007. Vol. 9, N 1. P. 5–25.
- Çifci, H., Yüksel, N. Foresight 6.0: The New Generation of Technology Foresight. 2018 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC). 2018. P. 1–5.
- Conway M. Exploring the Links between Neuroscience and Foresight. Journal of Futures Studies. 2022. Vol. 26(4). P. 23–32.
- Dator J. Alternative Futures at the Manoa School. Journal of Futures Studies. 2009. N 14(2). P. 1–18.
- Demneh M.T., Zackery A. and Amir Nouraei A. Using corporate foresight to enhance strategic management practices. European Journal of Futures Research. 2023. N 11 (5). doi: 10.1186/s40309-023-00217-x.
- Floridi L., Strait A. Ethical Foresight Analysis: What it is and Why it is Needed? Minds & Machines. 2020. N 30. P. 77–97.
- Garud R., Kumaraswamy A. and Karnøe P. (2010) Path Dependence or Path Creation? Journal of Management Studies. Vol. 47, N 4. P. 760–774.
- Gidley J. M. The Future: The Future: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Godet M. Strategic Foresight. La Prospective. Problems and Methods. 2006. Iss. 20. P.: Librairie des Arts et Métiers.
- Hines A., Bishop P. Thinking About the Future: Guidelines for Strategic Foresight. Washington: Social Technologies, 2007.
- Hines A. When Did It Start? Origin of the Foresight Field. World Futures Review. 2020. Vol. 12(1). P. 4–11.
- Martin B. R. The origins of the concept of ‘foresight’ in science and technology: An insider’s perspective. Technological Forecasting & Social Change. 2010. N 77. P.1438–1447.
- Martin B.R., Irvine J. Research Foresight: Priority-Setting in Science. L., NY.: Pinter Publishers, 1989.
- Masini E. Why futures studies? L.: Grey Seal Books, 1993.
- Merton R.K. The unanticipated consequences of purposive social action, American Sociological Review. 1936. N 1. P. 894– 904.
- McKinnon Andrew M. Energy and society: Herbert Spencer’s “energetic sociology” of social evolution and beyond. Journal of Classical Sociology. 2010. Vol.10 (4). P. 439–455.
- Ollenburg S.A. A Futures-Design-Process Model for Participatory Futures. Journal of Futures Studies, 2019, N 23(4). P. 51–62.
- Dennis P. & Erlandsson L.-K.Ecopation: Connecting Sustainability, Glocalisation and Well-being, Journal of Occupational Science. 2014. Vol. 21, N 1. P. 12–24.
- Sardar Z., Sweeney J. A. The Three Tomorrows of Postnormal Times. Futures. 2016. N 75. P. 1–13.
- Saritas O., Burmaoglu S., Ozdemir D. The Evolution of Foresight: What Evidence is There in Scientific Publications? Futures. 2022. Vol. 137. P. 102916.
- Sterman J.S. Sustaining Sustainability: Creating a Systems Science in a Fragmented Academy and Polarized World. Sustainability Science: The Emerging Paradigm and the Urban Environment. Ed. by M.P. Weinstein and R.E. Turner. New York, NY: Springer, 2012.
- Ukaga O., Maser C., Reichenbach M. (ed.). Sustainable development: Principles, Frameworks, and Case Studies. Boca Raton: CRC Press, 2010.