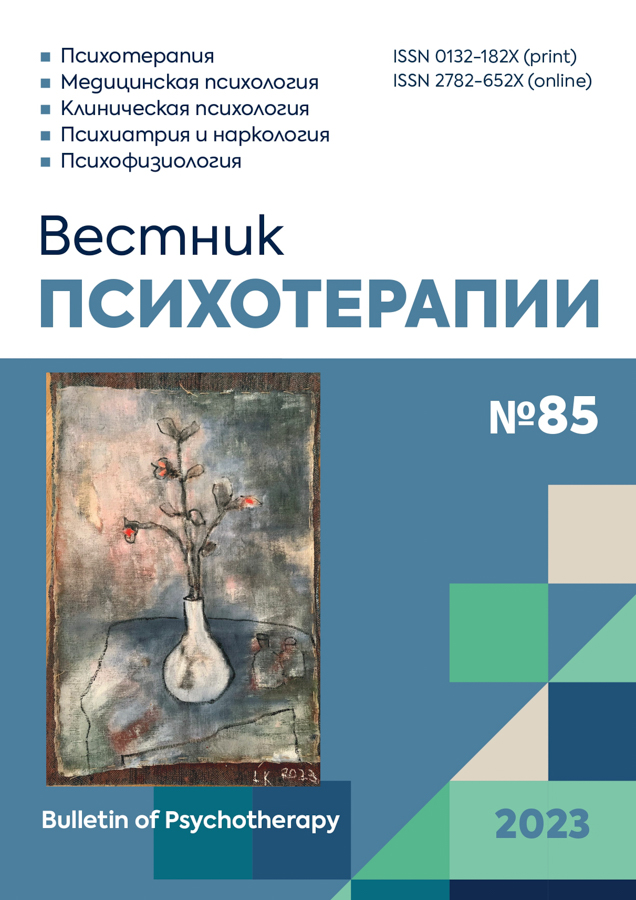Strategies and personal resources of coping in mental adaptation of women with facial skin cosmetic problems
- Авторлар: Bagnenko E.S.1,2, Grinenko A.O.2
-
Мекемелер:
- St. Petersburg Beauty Institute “Galaktika”
- Academician I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University
- Шығарылым: № 85 (2023)
- Беттер: 37-50
- Бөлім: Medical psychology
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-182X/article/view/261229
- DOI: https://doi.org/10.25016/2782-652X-2023-0-85-37-50
- ID: 261229
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Аннотация
Relevance. Facial skin cosmetic problems are associated with a high level of stress [21; 34; 5]. Coping strategies and personal resources represent the mechanisms of psychological adaptation to stress [1; 16] in the general framework of person’s mental (biological, psychological and social) adaptation [3]. In national literature there are no screening data on the level of mental adaptation/ desadaptation and peculiarities of stress-overcoming behavior in female patients treated at the cosmetology clinic.
Objective. The aim is to study strategies and personal coping resources of cosmetology clinic patients with different levels of mental adaptation.
Methods. We examined 161 patients admitted to the cosmetology clinic with an average age of (39.5 ± 0.9) years. The patients were split into two groups: group 1 (n = 74, or 45.9 %) did not reveal any disorders of psychological adaptation; group 2 (n = 87, or 54.1 %) revealed a reduced level of psychological adaptation. The groups were not significantly different according to sociodemographic and clinical characteristics. Using psychological methods, the groups were compared in terms of perceived stress, social frustration, frequency of psychic and traumatic situations, coping strategies and personal coping resources. We used statistical data analysis methods (Pearson’s χ2 and ANOVA included in the statistical package SPSS 25.0).
Results and discussion. The indicators of perceived stress and social frustration, as well as frequency of traumatizing situations was significantly higher in the group 2 compared to group 1. The indicators for the “Escape & Avoidance” (p = 0.001), “Distancing” (p = 0.014), “Self-Control” (p = 0.061) and “Responsibility Acceptance” (p = 0.006) strategies were significantly higher in Group 2 compared to Group 1. Individual coping resources, i.e. life and sense orientations related to the evaluation of one’s past, present and future, as well as the level of internalization, were significantly higher (p = 0.001) in group 1 compared to group 2.
Conclusion. The decrease in psychic adaptation level in cosmetology clinic patients is related to emotionally oriented coping strategies of care (evasion), strategies caused by anxiety, guilt or own insolvency, as well as the external locus of control. Limitations and perspectives of studying psychological characteristics of cosmetology clinic patients are provided.
Толық мәтін
Введение
В современной литературе психическая адаптация рассматривается как целостная многоуровневая (включающая биологический, психологический и социальный уровни) динамическая функциональная система, которая позволяет человеку устанавливать оптимальные соотношения с окружающей средой и вместе с тем удовлетворять собственные актуальные потребности, не нарушая адекватного соответствия между ними [3, 6]. Нарушения психической адаптации под влиянием стрессовых факторов во многих случаях выступают как донозологические (субклинические) состояния с полиморфной слабовыраженной тревожной, депрессивной, фобической, ипохондрической и другой симптоматикой [3, 7]. Это в полной мере относится к части пациенток косметологической клиники, активно стремящихся к улучшению собственной внешности.
Исследования показывают, что дефекты кожи лица, как правило, не несущие тяжелых осложнений для здоровья, тем не менее значительно влияют на эмоциональное состояние, социальное функционирование и в целом на качество жизни пациенток [18, 21, 24, 34, 40]. Это обусловлено, в первую очередь, важностью внешнего вида человека для его самооценки (эмоционально-ценностного отношения к себе) и уверенности в себе при социальном взаимодействии [5]. Установлено также, что улучшение кожи лица и другие изменения внешности после лечебной коррекции положительно влияют на удовлетворенность не только своим физическим Я, но и психологическим состоянием и социальным функционированием [31, 33, 36, 38].
Ведущую роль в психологическом преодолении стрессогенного воздействия косметологических дефектов, как и других стрессовых и проблемных жизненных ситуаций, играют механизмы психологической адаптации – подсистемы в общей системе психической адаптации человека [3]. К механизмам психологической адаптации, помимо механизмов, обеспечивающих поиск, восприятие и переработку информации, относятся также эмоциональное реагирование и комплекс защитно-психологических образований, таких как стратегии и ресурсы совладающего со стрессом поведения (копинг), психологическая защита, личностные особенности индивида, а в случае развившегося заболевания – «внутренняя картина болезни» [12]. Таким образом, копинг-стратегии и личностные копинг-ресурсы выступают важнейшими компонентами психологической адаптации человека в стрессогенных ситуациях [1, 14]. В то же время исследований механизмов копинга пациенток косметологической клиники до настоящего времени не проводилось. Представленные в новейшей литературе результаты изучения копинг-процессов у лиц со склонностью к модификациям тела [20] не могут в полной мере компенсировать дефицит исследований копинга женщин с дефектами кожи лица.
В связи с этим целью настоящей работы стало изучение стратегий и личностных ресурсов копинга пациенток косметологической клиники с различным уровнем психической адаптации. Конкретные задачи психологического исследования:
- определение уровня психической адаптации женщин с косметологическими проблемами кожи лица и выделение групп пациенток с нарушением и без нарушения психической адаптации;
- анализ уровня субъективно переживаемого стресса, социальной фрустрированности, наличия и характера актуальной психотравмирующей ситуации в выделенных группах пациенток;
- анализ когнитивно-поведенческих стратегий копинга в группах женщин с нарушением и без нарушений психической адаптации;
- анализ смысложизненных ориентаций (личностных ресурсов копинга) пациенток с различным уровнем психической адаптации.
Материалы и методы
Обследовали 161 женщину, средний возраст (39,5 ± 0,9) года, из числа обратившихся в косметологическую клинику с различными проблемами кожи лица. Исследование провели в Санкт-Петербургском институте красоты «Галактика». Проект исследования согласован в этическом комитете Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, с пациентками проводили собеседование, результатом которого являлось получение письменного информированного согласия на участие в психологическом обследовании. На 1-м этапе исследования все женщины по результатам теста НПА были распределены по уровням (категориям) нервнопсихической адаптации [10]. В табл. 1 представлено процентное распределение исследованных женщин по категориям теста.
Таблица 1
Распределение пациенток косметологической клиники по уровню психической адаптации
Категория психической адаптации | Высокий показатель, n (%) |
Здоровье | 30 (18,6) |
Оптимальная адаптация | 7 (4,3) |
Непатологическая психическая дезадаптация | 37 (23,0) |
Патологическая психическая дезадаптация | 12 (7,5) |
Вероятно болезненное состояние* | 75 (46,6) |
* Речь идет не о верифицированном клиническом диагнозе, а об условном названии одной из градаций уровня психической адаптации в тесте «Нервно-психическая адаптация», данные о которой получены из самоотчета пациенток.
В дальнейшем пациентки были разделены на 2 группы: 1-я – n = 74 (45,9 %), средний возраст (39,7 ± 1,2) года – без значительных нарушений психической адаптации по категориям «Здоровье», «Оптимальная адаптация», «Непатологическая психическая дезадаптация»; 2-я – n = 87 (54,1 %), средний возраст (39,4 ± 1,2) года – с нарушением психической адаптации по категориям «Патологическая психическая дезадаптация», «Вероятно болезненное состояние».
Изучение основных социально-демографических характеристик показало, что в 1-й и 2-й группе преобладают женщины с высшим образованием (88,9 и 69,8 % соответственно), постоянно работающие (76,4 и 69,8 %), преимущественно в сферах частного бизнеса, а также науки и образования, имеющие собственную семью (66,7 и 60,5 %) и детей (77,8 и 72,1 %). Во 2-й группе статистически больше женщин проживали одиноко, по сравнению с 1-й (22,1 и 4,2 % соответственно, p = 0,004).
Наиболее часто встречающимися клиническими симптомами в обеих группах были мимические морщины, гравитационный птоз, борозды и складки на лице. В 1-й группе чаще встречались мимические морщины (57,3 и 43,0 %, p = 0,048) и рубцы (17,8 и 7,0 %, p = 0,030), во 2-й группе – дисплазия соединительной ткани (2,7 и 15,1 %, p = 0,007). По степени выраженности косметологической проблемы, а также по ее длительности, по частоте встречаемости сопутствующих заболеваний (эндокринные, дерматологические, онкологические и др.), по степени влияния дефекта кожи лица на жизнедеятельность (по самоотчету пациенток) и эффективности лечения (по экспертной оценке врача) статистически значимых различий между группами не выявлено.
Таким образом, сравниваемые группы пациенток оказались вполне сопоставимыми по основным социально-демографическим и клиническим характеристикам.
Для реализации цели и задач исследования использовали авторское структурированное интервью, психометрические (тестовые) методики и медико-социологическую шкалу.
- Структурированное интервью включало 50 пунктов, организованных в несколько блоков: социально-демографические характеристики, клинические данные (заполняются врачом), социально-психологические и клинико-психологические характеристики.
- Тест нервно-психической адаптации (НПА) [10] является экспресс-психодиагностической методикой для скрининговых исследований с целью выявления лиц с повышенным риском психической дезадаптации путем установления наличия и выраженности у респондента некоторых невротических и неврозоподобных симптомов, преимущественно в эмоционально-аффективной сфере. Тест состоит из 26 утверждений с 4-балльной системой ответов, которые суммируются для получения итоговой оценки. Итоговая оценка соотносится с основными градациями (категориями) предложенной автором шкалы, позволяющей определить место индивида в континууме нервнопсихической адаптации. Полюсами континуума являются практическое здоровье (оптимальная адаптация) и нозологически оформившаяся нервно-психическая патология, или состояние предболезни.
- Шкала воспринимаемого стресса (ШВС-10) является адаптированным вариантом методики The Perceived Stress Scale (PSS-10), предназначенной для субъективной оценки респондентами уровня напряженности, стрессогенности своей жизненной ситуации в течение последнего месяца. Методика включает 2 субшкалы, одна из которых измеряет субъективно воспринимаемый уровень напряженности ситуации («Перенапряжение»), а другая – уровень усилий, прилагаемых для преодоления этой ситуации («Противодействие стрессу»). Вычисляется также общая оценка ШВС-10. В.А. Абабковым и соавт. [2] проведена полная психометрическая проверка ШВС-10, а также получены средние нормативные оценки шкал методики ШВС-10 на российской выборке мужчин и женщин.
- Стратегии совладающего поведения (ССП) – тест-опросник, направленный на выявление способов психологического преодоления стрессовых и проблемных для личности ситуаций [8], является адаптированной (с получением нормативных данных на отечественной выборке) версией опросника The Ways of Coping Questionnaire, в основу которого положена когнитивная теория стресса и копинга [16]. ССП содержат 8 шкал, соответствующих основным копингстратегиям: «Конфронтация», «Дистанцирование», «Самоконтроль», «Поиск социальной поддержки», «Принятие ответственности», «Бегство-избегание», «Планирование решения проблемы», «Положительная переоценка». Результаты исследования выражаются в стандартизованных Т-баллах.
- Смысложизненные ориентации» (СЖО) – тест-опросник, разработанный Д.А. Леонтьевым [17] на основе методики «Цель в жизни» (Purpose in Life Test). В психологических исследованиях СЖО используется для выявления ценностномотивационной направленности личности, которая непосредственно связана с осознанием смысла собственной жизни; содержит две группы шкал: 1) отражающие смысложизненные ориентации, которые соотносятся с временной перспективой: «Цели» (будущее), «Процесс» (настоящее) и «Результат» (прошлое), и 2) характеризующие интернальность личности, с которой осмысленность жизни тесно связана: «Локус контроля – Я» и «Локус контроля – жизнь». Автором методики СЖО получены статистические характеристики шкальных оценок и общего показателя СЖО на отечественной нормативной выборке мужчин и женщин.
- Уровень социальной фрустрированности (УСФ) – медико-социологическая шкала [9] включает 20 пунктов, организованных в 5 блоков: «Взаимоотношения с родными и близкими» (с мужем, родителями, детьми); «Взаимоотношения с ближайшим социальным окружением» (с друзьями, коллегами, начальством, лицами противоположного пола); «Социальный статус» (образование, сфера профессиональной деятельности, положение в обществе в целом); «Экономическое положение» (материальный достаток, жилищно-бытовые условия, возможности для проведения свободного времени и др.); «Здоровье и работоспособность» (физическое здоровье, психоэмоциональное состояние, работоспособность). Первичная математическая обработка данных шкалы УСФ позволяет получить дифференцированную субъективную оценку уровня неудовлетворенности/фрустрированности респондента в перечисленных пяти сферах социального функционирования.
Математико-статистическая обработку данных проводили с помощью программ SPSS 25.0 и Excel XP. Использовали χ2 Пирсона и однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Результаты проверили на нормальность распределения признаков, в тексте указаны средние арифметические величины и их стандартные ошибки (M ± m). Показатели баллов округлили до десятых долей величин.
Результаты и их анализ
По данным методики НПА, у 87 (54,1 %) женщин имелись признаки нарушений психической адаптации, преимущественно в эмоционально-аффективной сфере; у 74 (45,9 %) существенных нарушений адаптации не выявлено (см. табл. 1). Как ожидалось, выделенные группы статистически значимо отличались по общему показателю (баллу) НПА. Этот показатель в 1-й группе составил (1,2 ± 0,2) балла, во 2-й – (3,2 ± 0,1) балла (p = 0,001).
На следующем этапе выделенные группы женщин сопоставили по показателям методики ШВС-10. Результаты сравнительного анализа представлены в табл. 2.
Таблица 2
Уровень воспринимаемого стресса по методике ШВС-10 в группах, (M ± m) балл
Показатель | Группа | p < | |
1я | 2я | ||
Перенапряжение | 15,3 ± 0,6 | 19,3 ± 0,6 | 0,001 |
Противодействие стрессу | 8,5 ± 0,3 | 10,1 ± 0,3 | 0,001 |
Общий балл | 23,8 ± 0,8 | 29,4 ± 0,8 | 0,001 |
Получены статистически высоко значимые различия между сопоставляемыми группами по всем показателям методики ШВС. Во всех случаях показатели воспринимаемого стресса оказались выше у пациенток 2-й группы: они переживали более интенсивное эмоциональное напряжение в течение последнего месяца и прилагали бóльшие психологические усилия для его преодоления, чем пациентки 1-й группы.
Для уточнения сфер социального функционирования, в которых эмоциональное напряжение и неудовлетворенность проявляются в наибольшей степени, использована методика УСФ. Результаты сравнительного анализа показателей УСФ в группах пациенток косметологической клиники представлены в табл. 3. Диапазон возможных оценок – от 5 до 25, бóльшая оценка соответствует более значительной выраженности неудовлетворенности, фрустрированности в конкретной сфере жизни.
Таблица 3
Уровень социальной фрустрированности по шкале УСФ в группах, (M ± m) балл
Показатель | Группа | p = | |
1я | 2я | ||
Удовлетворенность взаимоотношениями с родными | 8,5 ± 0,5 | 9,7 ± 0,4 | 0,059 |
Удовлетворенность взаимоотношениями с ближайшим социальным окружением вне семьи | 8,1 ± 0,5 | 9,4 ± 0,4 | 0,041 |
Удовлетворенность социальным статусом | 8,5 ± 0,6 | 10,4 ± 0,4 | 0,005 |
Удовлетворенность материально-экономическим положением | 9,3 ± 0,5 | 11,4 ± 0,4 | 0,001 |
Удовлетворенность здоровьем и работоспособностью | 9,8 ± 0,5 | 11,4 ± 0,4 | 0,012 |
Статистически значимые различия между группами получены по показателям неудовлетворенности во всех пяти обобщенных сферах социального функционирования; во всех случаях неудовлетворенность/фрустрированность оказалась выше во 2-й группе, по сравнению с 1-й. В наибольшей степени различия проявились в области неудовлетворенности материально-экономическим положением и социальным статусом, в наименьшей (на уровне тенденции к статистической значимости) – в сфере взаимоотношений с родными (см. табл. 3).
В дополнение были изучены данные интервью о наличии и характере (остром или затяжном) психотравмирующих ситуаций в период обращения в косметологическую клинику (табл. 4). Во 2-й группе, по сравнению с 1-й, бóльший процент женщин находился в стрессовой или затяжной психотравмирующей жизненной ситуации.
Таблица 4
Показатели актуальной психотравмирующей ситуации по данным интервью в группах, n (%)
Психотравмирующая ситуация | Группа | |
1я | 2я | |
Отсутствует | 59 (81,9) | 48 (55,8) |
Наличие острого стресса | 5 (6,9) | 10 (11,6) |
Затяжная психотравмирующая ситуация | 8 (11,1) | 28 (32,6) |
χ2 = 12,77; р = 0,002 | ||
В дальнейшем с помощью методики ССП были изучены когнитивно-поведенческие способы психологического совладания со стрессовыми и проблемными ситуациями. Результаты сравнительного анализа показателей ССП группах пациенток представлены в табл. 5.
Таблица 5
Способы копинга по данным методики ССП в группах, (M ± m) балл
Показатель | Группа | p = | |
1я | 2я | ||
Конфронтация | 51,6 ± 1,1 | 53,3 ± 1,2 |
|
Дистанцирование | 49,3 ± 1,1 | 53,4 ± 1,2 | 0,014 |
Самоконтроль | 48,6 ± 1,4 | 52,0 ± 1,1 | 0,061 |
Поиск социальной поддержки | 51,6 ± 1,1 | 52,2 ± 1,1 |
|
Принятие ответственности | 49,4 ± 0,9 | 53,6 ± 1,2 | 0,006 |
Бегство-избегание | 51,7 ± 1,1 | 58,4 ± 1,1 | 0,000 |
Планирование решения проблемы | 53,4 ± 1,2 | 51,7 ± 1,1 |
|
Положительная переоценка | 52,4 ± 1,3 | 52,0 ± 1,2 |
|
Статистически значимые и близкие к ним различия между сопоставляемыми группами получены по показателям четырех из восьми копинг-стратегий (шкальных оценок по методике ССП). В каждом случае преобладали показатели пациенток 2-й группы.
Наиболее существенные различия выявлены между средними оценками шкалы «Бегство-избегание», что отражает более выраженную склонность пациенток 2-й группы к уходу от действенного решения проблемных и стрессовых ситуаций путем использования когнитивных приемов отрицания, отвлечения, неоправданных ожиданий и фантазирования, других способов снижения эмоционального напряжения. Аналогичную направленность имел эмоциональноориентированный копинг «Дистанцирование», показатель которого также преобладал во 2-й группе и отражал способность пациенток этой группы к преодолению негативных переживаний в связи с проблемой за счет субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее с использованием интеллектуальных приемов рационализации, переключения внимания, обесценивания. Важно отметить, что в структуре копинга пациенток 2-й группы эти две стратегии («Дистанцирование» и особенно «Бегство-избегание») занимали ведущее положение (имели максимально высокие шкальные оценки); в структуре копинга пациенток 1-й группы преобладала стратегия «Планирование решения проблемы». Одновременно во 2-й группе женщин, по сравнению с 1-й, на высоком уровне статистической значимости преобладала средняя оценка шкалы «Принятие ответственности». Начиная с работ Р. Лазаруса [16] эта копингстратегия рассматривается как конструктивная, отражающая способность субъекта к осознанию своей роли в возникшей стрессовой ситуации и к принятию ответственности за ее разрешение. Однако значительное преобладание данной стратегии в общей структуре копинг-поведения ассоциируется с неоправданной самокритикой, переживанием чувства вины и хронической неудовлетворенностью собой [8].
На уровне тенденции к статистической значимости во 2-й группе женщин, по сравнению с 1-й, преобладала средняя оценка шкалы «Самоконтроль», отражающей тенденцию к преодолению негативных переживаний в связи с проблемой путем подавления, сдерживания их внешних проявлений и целенаправленной минимизации их влияния на восприятие ситуации и выбор стратегии поведения. Как и стратегия «Принятие ответственности», потенциально конструктивная стратегия «Самоконтроль» при отчетливом ее преобладании в структуре копинга может отражать неадаптивные формы поведения, обусловленные тревогой и приводящие к «невротическому» сверхконтролю поведения.
В табл. 6 приведены результаты сравнения показателей методики СЖО, которые, в соответствии с данными литературы [26], представляют в настоящем исследовании личностные ресурсы копинга.
Таблица 6
Смысложизненные ориентации по методике СЖО в группах, (M ± m) балл
Показатель | Группа | p < | |
1я | 2я | ||
Цели | 35,9 ± 0,6 | 30,0 ± 0,7 | 0,001 |
Процесс | 32,2 ± 0,6 | 26,7 ± 0,6 | 0,001 |
Результат | 26,7 ± 0,5 | 24,2 ± 0,5 | 0,001 |
Локус контроля – Я | 22,9 ± 0,4 | 18,8 ± 0,4 | 0,001 |
Локус контроля – жизнь | 28,0 ± 0,3 | 25,9 ± 0,3 | 0,001 |
Общий показатель СЖО | 112,2 ± 1,7 | 93,3 ± 1,6 | 0,001 |
По всем показателям методики СЖО получены статистически высоко значимые различия между сопоставляемыми группами пациенток косметологической клиники. В 1-й группе (без нарушений психической адаптации), по сравнению со 2-й группой (с нарушением психической адаптации), значительно преобладали как показатели смысложизненных ориентаций, соотнесенные с временнóй перспективой (цели – будущее, процесс – настоящее, результат – прожитый отрезок жизни), так и показатели интернальности личности, отражающие представление о себе как о личности, обладающей свободой выбора, строящей свою жизнь в соответствии со своими целями и пониманием ее смысла (локус контроля – Я), а также способной управлять значимыми событиями жизни (локус контроля – жизнь) (см. табл. 6).
Обсуждение результатов. С помощью скринингового симптоматического теста НПА у 54,1 % пациенток косметологической клиники выявлено снижение уровня психической адаптации. Эти данные, впервые полученные в отечественных исследованиях, в определенной мере соответствуют данным современных зарубежных авторов, показавших, что среди пациенток косметологической клиники, получающих малоинвазивное лечение, немало лиц с нарушениями психической адаптации, проявляющимися подпороговыми аффективными расстройствами и повышением индекса общей тяжести состояния [34], тревожным и нарциссическим расстройствами личности, другими личностными и поведенческими девиациями [30, 32], а также дисморфофобическими расстройствами [28, 35]. Также в контексте риска психической дезадаптации могут быть рассмотрены данные литературы о том, что женщины, обращающиеся за косметологической помощью, имеют в анамнезе психические травмы [27, 39], и о том, что «в возрастной группе 25–35 лет причинами для посещения косметолога в 78 % случаев служат негативное настроение и в 69 % – чувство неполноценности» [21, с. 25]. В настоящем исследовании получены данные о существенном преобладании показателей воспринимаемого стресса, социальной фрустрированности и психотравмирующих ситуаций во 2-й группе пациенток, по сравнению с пациентками 1-й группы.
При изучении связи стресса с нарушениями психической адаптации, проявляющимися соматическими и психопатологическими симптомами, особое значение придается процессам совладания [1, 29]. В связи с этим актуальным является изучение способов и ресурсов психологического преодоления психотравмирующих ситуаций и связанных с ними негативных эмоциональных состояний пациенток косметологической клиники. Важность такого исследования определяется также отсутствием в доступной литературе сведений о подобных исследованиях, несмотря на очевидную эмоциональную значимость и стрессогенность дефектов кожи лица. По результатам настоящего исследования, в структуре копинг-поведения пациенток, составивших 2-ю группу (с нарушением психической адаптации), ведущей является стратегия «Бегство-избегание», кроме того, показатель этой шкалы, а также показатель шкалы «Дистанцирование» на высоком уровне статистической значимости превосходят соответствующие показатели в 1-й группе (без нарушений психической адаптации). Полученные данные соответствуют доказанной во многих исследованиях связи копинг-стратегий ухода (уклонения, отрицания, дистанцирования от проблемы) со снижением уровня психосоциальной адаптации [11, 23, 25]. Одновременно во 2-й группе, по сравнению с 1-й, выявлено преобладание копинг-стратегий «Самоконтроль» и «Принятие ответственности», традиционно рассматривающихся как конструктивные. В то же время в отечественной литературе, посвященной теоретическим проблемам психологического преодоления трудных жизненных ситуаций, подчеркивается невозможность изучения копинга вне контекста целостной ситуации, в которой находится субъект [4]; копинг рассматривается как индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, ее значимостью в жизни человека и его психологическими возможностями [19]. В соответствии с этим можно предположить, что свойственные женщинам с дефектами кожи лица формы поведения, связанные со снижением способности к свободной самореализации, чувством вины и собственной несостоятельности, увеличивают риск психической дезадаптации. Это согласуется с результатами масштабного эмпирического исследования, согласно которым «самокритика и подавление эмоций увеличивают вероятность прибегания к другим неэффективным стратегиям совладания, а также увеличивают показатели психопатологической симптоматики» [24].
В качестве личностных ресурсов копинга, обеспечивающих психологический фон для преодоления стресса и способствующих развитию копинг-стратегий, в настоящей работе во временнóй перспективе изучались смысложизненные ориентации: цели в жизни (будущее), насыщенность жизни (настоящее), удовлетворенность самореализацией, или «результативность» жизни (прошлое), а также локус контроля – в связи с тем, что в литературе эта интегральная характеристика личности, оказывающая регулирующее влияние на многие аспекты поведения человека [37], рассматривается в качестве одного из основных копинг-ресурсов в структуре совладающего поведения [13, 15, 26]. Согласно результатам сравнительного исследования, все названные психологические характеристики, отраженные в показателях методики СЖО, значительно преобладали у женщин в 1-й группе, по сравнению со 2-й. Таким образом, можно заключить, что уровень психической адаптации пациенток косметологической клиники тесно связан с наличием или отсутствием целей и планов на будущее, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу; с тем, насколько они воспринимают процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом, и насколько пройденный отрезок жизни субъективно оценивается как продуктивный. Одновременно результаты исследования подтвердили связь уровня психической адаптации с интернальностью личности, которая ожидаемо оказалась значительно более выраженной в 1-й группе, чем во 2-й. Это еще раз подтвердило доказанный в психологии факт связи интернального локуса контроля с целенаправленной, преобразующей активностью человека, отражением в его сознании собственной самостоятельности, независимости, уверенности, ответственности и, напротив, связь экстернального локуса контроля с тревожностью, эмоциональной неустойчивостью и напряженностью, депрессивностью, невротичностью [15, 37].
Таковы основные результаты невыборочного скринингового исследования уровня психической адаптации пациенток косметологической клиники, его связи с переживанием эмоционального стресса и социальной фрустрированности на фоне косметологической проблемы, со способами и личностными ресурсами совладающего со стрессом поведения. Ограничения исследования связаны с получением статистически значимых различий психометрических показателей в двух клинических группах без сопоставления со средненормативными показателями («тестовой нормой» методик ШВС, СПП и СЖО) и с отсутствием конкретных рекомендаций по психологическому вмешательству для пациенток, имеющих симптомы или риск психической адаптации.
Одновременно такое сопоставление, так же как изучение динамики переживаемого стресса, стратегий и ресурсов его преодоления в процессе лечебной косметологической коррекции и формулирование основных направлений психологической помощи женщинам с нарушением психической адаптации, представляет перспективы настоящего исследования.
Выводы
- В невыборочном скрининговом исследовании 161 женщины из числа обратившихся в косметологическую клинику с проблемами кожи лица у 54,1 %, по данным самооценочного симптоматического теста, выявлены нарушения психической адаптации.
- Женщины с нарушением психической адаптации, по сравнению с женщинами без нарушений психической адаптации, характеризуются более интенсивным эмоциональным напряжением в течение последнего месяца и бóльшими психологическими усилиями для его преодоления; в их анамнезе чаще встречаются острые и особенно затяжные психотравмирующие ситуации; они испытывают более выраженную фрустрированность в основных сферах социального функционирования.
- У женщин с нарушением психической адаптации как в структуре копинг-поведения, так и по сравнению с женщинами без нарушений психической адаптации преобладают пассивные стратегии преодоления стрессовых и проблемных жизненных ситуаций («бегство-избегание» и «дистанцирование»), а также стратегии, связанные с риском снижения способности к свободной самореализации («самоконтроль») и формированием чувства вины («принятие ответственности»).
- Личностные ресурсы копинга – интернальность и смысложизненные ориентации, связанные с временнóй перспективой, – существенно снижены в группе женщин с нарушением психической адаптации, по сравнению с пациентками без нарушений психической адаптации.
Авторлар туралы
Elena Bagnenko
St. Petersburg Beauty Institute “Galaktika”; Academician I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: e_bagnenko@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-4584-7005
PhD Med. Sci., Assistant of the Department of Plastic Surgery; dermatologist-cosmetologist
Ресей, 5/2, Pirogovskaya embank., St. Petersburg, 194044; 6-8, L’va Tolstogo Str., St. Petersburg, 197022Anna Grinenko
Academician I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University
Email: 5814411@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-4453-8879
student
Ресей, 6-8, L’va Tolstogo Str., St. Petersburg, 197022Әдебиет тізімі
- Ababkov V.A., Perre M. Adaptacija k stressu. Osnovy teorii, diagnostiki, terapii [Adaptation to stress. Fundamentals of the theory of diagnosis and therapy]. St. Petersburg. 2004. 166 p. (In Russ.)
- Ababkov V.A., Baryshnikova K., Voroncova-Venger O.V. [et al.]. Validizacija russkojazychnoj versii oprosnika «Shkala vosprinimaemogo stressa-10» [Validation of the Russian version of the questionnaire “Scale of perceived stress–10”]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Serija 16: Psihologija. Pedagogika [Vestnik of Saint Petersburg university. Series 16. Psychology. Education]. 2016; (2):6–15. doi: 10.21638/11701/spbu16.2016.202. (In Russ.)
- Aleksandrovskij Ju.A. Pogranichnye psihicheskie rasstrojstva [Borderline mental disorders]. Moscow. 2021. 552 p. (In Russ.)
- Ancyferova L.I. Lichnost’ v trudnyh zhiznennyh uslovijah: pereosmyslivanie, preobrazovanie situacij i psihologicheskaja zashhita [Personality in difficult life conditions: rethinking, transformation of situations and psychological protection]. Psihologicheskij zhurnal [Psikhologicheskii zhurnal]. 1994; 15(1):3–19. (In Russ.)
- Bagnenko E.S. Psikhologicheskie kharakteristiki zhenshchin s kosmetologicheskimi problemami i ikh dinamika v protsesse lechebnoi korrektsii [Psychological characteristics of women with cosmetic problems and their dynamics in the process of treatment correction]:Abstract dissertation PhD Med. Sci. St. Petersburg. 2012. 33 p. (In Russ.)
- Berezin F.B. Psihicheskaja i psihofiziologicheskaja adaptacija cheloveka [Psychological and psychophysiological adaptation of a person]. Leningrad. 1988. 267 p. (In Russ.)
- Vasil’eva A.V., Karavaeva T.A. Psihosocial’nye faktory profilaktiki i terapii nevroticheskih rasstrojstv v megapolise: misheni intervencij v zdorovom gorode [Psychosocial factors of the neurotic disorders treatment and prevention in metropolis] Obozrenie psihiatrii i medicinskoj psihologii imeni V.M. Behtereva [V.M. Bekhterev review of psychiatry and medical psychology]. 2020; (2):95-104. doi: 10.31363/2313-7053-2021-56-3-62-72. (In Russ.)
- Vasserman L.I., Berebin M.A., Iovlev B.V. Psihologicheskaja diagnostika urovnja social’noj frustrirovannosti. Psihologicheskaja diagnostika rasstrojstv jemocional’noj sfery i lichnosti. St. Petersburg. 2014. Pp. 187–213. (In Russ.)
- Vasserman L.I., Ababkov V.A., Trifonova E.A. [et al.]. Psihologicheskaja diagnostika sovladajushhego so stressom povedenija. Psihologicheskaja diagnostika rasstrojstv jemocional’noj sfery i lichnosti: monografija. St. Petersburg. 2014. Pp. 323–345. (In Russ.)
- Gurvich I.N. Test nervno-psikhicheskoi adaptatsii [Neuro-psychic adaptation test]. Vestnik gipnologii i psikhoterapii [Bulletin of Psychotherapy]. 1992; (3):46–53. (In Russ.)
- Isaeva E.R. Koping-povedenie i psihologicheskaja zashhita lichnosti v uslovijah zdorov’ja i bolezni [Coping behavior and psychological protection of the individual in the study of health and illness]. St. Petersburg. 2009. 136 p. (In Russ.)
- Kocjubinskij A.P. Biopsihosocial’naja model’ shizofrenii // Psihosocial’naja reabilitacija i kachestvo zhizni. St. Petersburg. 2001. Pp. 230–241. (In Russ.)
- Kochurov M.G. Svjaz’ koping-strategij s lokusom kontrolja [Connection of coping strategy with locus of control]. Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel’skij zhurnal. Psihologicheskie nauki [International research journal]. 2020; (1-2):40–43. doi: 10.23670/IRJ.2020.91.1.029. (In Russ.)
- Krjukova T.L., Gushhina T.V. Kul’tura, stress i koping: sociokul’turnaja kontekstualizacija sovladajushhego povedenija [Culture, Stress and Coping: Sociocultural Contextualization of Coping Behavior]. Kostroma. 2015. 236 p. (In Russ.)
- Ksenofontova E.G., Zabegalina S.V., Korzhova E.Ju. Lokus kontrolja – bolee poluveka issledovanij [The locus of control is more than half a century of research]. Moscow. 2021. 112 p. (In Russ.)
- Lazarus R. Stress, ocenka i koping [Stress, assessment and coping]. Moscow. 2008. 218 p.
- Leont’ev D.A. Test smyslozhiznennyh orientacij [Test of life orientations]. Moscow. 2006. 18 p. (In Russ.)
- Lico cheloveka: poznanie, obshhenie, dejatel’nost’ [Human face: cognition, communication, activity]. Eds.: K.I. Anan’eva, V.A. Barabanshhikov, A.A. Demidov. Moscow. 2019. 568 p. (In Russ.)
- Nartova-Bochaver S.K. «Coping behavior» v sisteme ponjatij psihologii lichnosti [“Coping behavior” amid the conceptual framework of personality psychology]. Psihologicheskij zhurnal [Psikhologicheskii zhurnal]. 1997; 18(5):20–30. (In Russ.)
- Pol’skaja N.A. Psihologija samopovrezhdajushhego povedenija. Moscow. 2022. 318 p.
- Sac E.A. Osobennosti samosoznanija zhenshhin, nedovol’nyh svoej vneshnost’ju [Features of self-awareness of women dissatisfied with their appearance]: Abstract dissertation PhD Psychol. Sci.Moscow. 2015. 28 p. (In Russ.)
- Semichov S.B. Predboleznennye psihicheskie rasstrojstva [Pre-painful mental disorders]. Leningrad. 1987. 181 p. (In Russ.)
- Fedunina N.Ju., Bannikov G.S., Pavlova T.S. [et al.]. Osobennosti sovladanija so stressom u podrostkov s samopovrezhdajushhim i suicidal’nym povedeniem [Coping with stress in adolescents with self-harm and suicidal behavior]. Konsul’tativnaja psihologija i psihoterapija [Counseling psychology and psychotherapy]. 2018; 26(2):33–52. doi: 10.17759/cpp.2018260203. (In Russ.)
- Schetsche Ch. Ot kopingovyh strategij k simptomam psihopatologii: modelirovanie strukturnymi uravnenijami, podtverzhdajushhee vazhnost’ social’noj podderzhki [Pathways through coping strategies to psychological symptoms: structural equation modeling that highlights the importance of social support]. Konsul’tativnaja psihologija i psihoterapija [Counseling psychology and psychotherapy]. 2022; 30(1):67–92. doi: 10.17759/cpp.2022300105. (In Russ.)
- Shindrikov R.Ju., Shhelkova O.Ju., Demchenko E.A., Milanich Ju.M. Koping-povedenie v sisteme psihosocial’noj ocenki pacientov, ozhidajushhih transplantaciju serdca [Coping behavior in the system of psychosocial assessment of patients waiting for a heart transplant]. Konsul’tativnaja psihologija i psihoterapija [Counseling psychology and psychotherapy]. 2020; 28(2):170–190. doi: 10.17759/cpp.2020280210. (In Russ.)
- Brehm S.S., Kassin S.M., Fein S. Social psychology. 6th ed. Boston: Houghton Miffiin. 2005. 706 р.
- Dadkhahfar S., Gheisari M., Kalantari Y. [et al.] Motivations and characteristics of patients seeking minimally invasive cosmetic procedures in two Iranian dermatology centers: a cross-sectional study. Int. J. Womens Dermatol. 2021; 7(5, Part B):737–742.
- Dobosz M., Rogowska P., Sokołowska E., Szczerkowska-Dobosz A. Motivations, demography, and clinical features of body dysmorphic disorder among people seeking cosmetic treatments: a study of 199 patients. J. Cosmet. Dermatol. 2022; 21(10). doi: 10.1111/jocd.14890.
- Folkman S., Lazarus R., Gruen R., DeLongis A. Appraisal, coping, health status, and psychological symptoms. J. of Personality and Social Psychology. 1986; 50(3):P. 571–579.
- Husain W., Zahid N., Jehanzeb A., Mehmood M. The psychodermatological role of cosmetic dermatologists and beauticians in addressing charismaphobia and related mental disorders. J. Cosmet. Dermatol. 2022; 21(4):1712– 1720. doi: 10.1111/jocd.14317.
- Kurtti A., Charles C., Jagedo J. Combination facial aesthetic treatment in millennials. J. Drugs. Dermatol. 2022; 21(1):37–42. doi: 10.36849/JDD.2022.6425.
- Loron A.M., Ghaffari A., Poursafargholi N. Personality disorders among individuals seeking cosmetic botulinum toxin type A (BoNTA) injection, a cross-sectional study. Eurasian. J. Med. 2018; 50(3):164–167. DOI: 10.5152/ eurasianjmed.2018.17373.
- McKeown D.J. Impact of minimally invasive aesthetic procedures on the psychological and social dimensions of health. Plast. Reconstr. Surg. Glob. Open. 2021; 9(4):e3578. doi: 10.1097/GOX.0000000000003578.
- Özkur E., Kıvanç Altunay İ., Aydın Ç. Psychopathology among individuals seeking minimally invasive cosmetic procedures. J. Cosmet. Dermatol. 2020; 7(4):939–945. doi: 10.1111/jocd.13101.
- Pikoos T.D., Rossell S.L., Tzimas N., Buzwell S. Assessing unrealistic expectations in clients undertaking minor cosmetic procedures: the development of the aesthetic procedure expectations scale. Facial Plast. Surg. Aesthet. Med. 2021; 23(4):263–269. doi: 10.1089/fpsam.2020.0247.
- Ribeiro F., Steiner D. Quality of life before and after cosmetic procedures on the face: a cross-sectional study in a public service. J. Cosmet. Dermatol. 2018; 17(5):688–692. doi: 10.1111/jocd.12723.
- Rotter J. Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychol. Monogr. 1966; 80(1):Р. 1–28.
- Shah P., Rieder E.A. Observer-reported outcomes and cosmetic procedures: a systematic review. Dermatol. Surg. 2021; 47(1)65–69. doi: 10.1097/DSS.0000000000002496.
- Sobanko J.F., Taglienti A.J., Wilson A..J. [et al.]. Motivations for seeking minimally invasive cosmetic procedures in an academic outpatient setting. Aesthet. Surg. J. 2015; 35(8):1014–1020. doi: 10.1093/asj/sjv094.
- Waldman A., Maisel A., Weil A. [et al.]. Patients believe that cosmetic procedures affect their quality of life: an interview study of patient-reported motivations. J. Am. Acad. Dermatol. 2019; 80(6):1671–1681. DOI: 10.1016/j. jaad.2019.01.059.
Қосымша файлдар