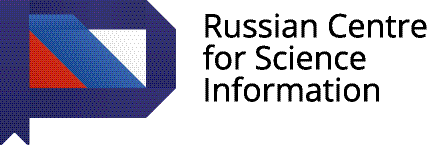The Harmony of Unrestrained Meanings
- Authors: Bukharkin P.E.1
-
Affiliations:
- The Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 254-257
- Section: Обзоры и рецензии
- URL: https://bakhtiniada.ru/0131-6095/article/view/259363
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2024-2-254-257
- ID: 259363
Full Text
Abstract
[Review:] Markovich V. M. O Pushkine. Raboty raznykh let. SPb.: Rostok, 2023. 351 s.
Full Text
Начну с личного воспоминания: много лет назад, вручая мне только что вышедшую бело-голубую книгу «Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы», Владимир Мáркович Маркович сказал, что ему хотелось бы видеть свои работы о Пушкине, объединенные под одной обложкой. В той, давней, 1997 года, книжке замысел этот был осуществлен не вполне. Во-первых, в нее не вошли его ранние, первой половины 1960-х годов, исследования о «Евгении Онегине»; Владимир Мáркович тогда же объяснил свое решение тем, что они написаны в иной манере и стилистически будут отличаться от других разделов. А во-вторых, в сборнике 1997 года Пушкин соседствовал с Лермонтовым; подобное соседство в какой-то степени переориентировало внимание читателя с самого Пушкина на литературное движение, на переход от Пушкина к Лермонтову. И вот теперь, через семь лет после кончины ученого, выходит книга, уже в полной мере соответствующая сказанному Владимиром Мáрковичем более чем четверть века назад: в ней объединены все его работы, так или иначе связанные с Пушкиным. Выходит она в свет прежде всего благодаря благородным трудам Е. Н. Григорьевой, которая, являя пример действенной преданности памяти своего учителя, до этого подготовила к изданию курс лекций В. М. Марковича по истории русской литературы первой трети XIX века («Русская литература Золотого века», СПб.: Росток, 2019. 748 с.) и его тургеневские штудии («О Тургеневе. Работы разных лет», СПб.: Росток, 2018. 542 с.). К последнему изданию книга о Пушкине особенно близка, даже их заглавия совершенно однотипны.
Книга 2023 года (как и тургеневский том) имеет подзаголовок: работы разных лет. В нее, действительно, вошли статьи, написанные в течение очень длительного времени: первая («Из наблюдений над композицией „Евгения Онегина“») датируется 1963 годом, а самые поздние («Трансформация пушкинского мифа о поэте и поэзии в лирике поэтов ленинградского андеграунда» и «Реанимация петербургского текста в поэзии ленинградского андеграунда (середина 1950-х — конец 1980-х годов)») — 2005 годом. Сорок два года пролегли между ними, что само по себе — большое время. А учитывая перемены, произошедшие за эти четыре десятилетия, время это становится еще бóльшим. Между прочим, и с 2005 года, когда были написаны последние статьи тома, русская культура прошла огромный по внутренней значимости путь; многое в ней сейчас требует критического пересмотра, критического в том смысле, какой вкладывал в излюбленное им слово «Kritik» И. Кант.
В связи с этим и возникает главный вопрос, который встает перед читателем пушкинской книги В. М. Марковича: а что дает она нам ныне, чем интересна и чем нас обогащает? Именно об этом я и попытаюсь сказать, именно это и представляется мне важным в первенствующей степени. Все же сегодня было бы немного странно полемизировать с теми или другими идеями ее автора, которые, между прочим, давно стали достоянием литературоведческого сознания в целом (хотя, замечу в скобках, некоторые построения и характеристики Владимира Мáрковича вызывают у меня определенные возражения). Но вот попытаться представить себе вклад В. М. Марковича в пушкинистику, увидеть, каким выглядит в наших глазах его исследовательский облик в своем развитии, насколько он целен и в какой степени менялся со временем, была ли в его пушкинистике некая магистральная идея? — вот на эти вопросы хотелось бы дать, пусть и самые приблизительные и краткие, ответы. Этого, между прочим, как бы требует творчество самого Марковича — он много и проникновенно писал об ученых — и об относительно далеких предшественниках (А. Н. Веселовском и Г. А. Гуковском), и о старших своих коллегах — Г. П. Макогоненко и Г. А. Бялом, и о своих современниках — В. Э. Вацуро или, скажем, В. Шмиде.1 Теперь пришла очередь вглядеться в него самого.
Прежде всего, соединенные под одной обложкой пушкинские статьи Марковича наглядно показывают основные направления аналитических интересов ученого в направлении Пушкина: что его интересовало в наибольшей степени, какие произведения и проблемы привлекали в первую очередь. Если говорить о текстах, то это, безусловно, «Евгений Онегин»: из тринадцати статей книги четыре посвящены роману в стихах (уже упоминавшаяся «Из наблюдений над композицией „Евгения Онегина“», «Как смеется автор „Евгения Онегина“», «Сон Татьяны в поэтической структуре „Евгения Онегина“», «О значении „одесских“ строф в „Евгении Онегине“»). А среди проблем, привлекавших особое внимание исследователя, центральной, вероятно, был вопрос о рецепции Пушкина последующей русской литературой, позднейшие трансформации его художественного мира и отклики на него — и на его творчество, и на него самого (как важнейшее личностное явление нашей культурной истории). Причем отклики в самом прямом смысле весьма позднейшие, принадлежащие уже неклассической литературной эпохе: или совершенно отчетливо неклассические, как ленинградский литературный андеграунд, или же относящиеся к моменту слома классического искусства, как А. П. Чехов. Данный круг вопросов становится предметом рассмотрения (причем весьма многоаспектного) в пяти завершающих сборник частях («Пушкин, Чехов и судьба „лелеющей душу гуманности“», «Реминисценции „Медного всадника“ в ленинградской неофициальной поэзии 60–80-х гг. (К проблеме петербургского текста)», «Пушкин как персонаж лирической поэзии „ленинградского андеграунда“», «Трансформация пушкинского мифа о поэте и поэзии в лирике поэтов ленинградского андеграунда», «Реанимация петербургского текста в поэзии ленинградского андеграунда (середина 1950-х — конец 1980-х годов)»).
Сказанное совсем не означает, что другие пушкинские произведения и проблемы пушкинского творчества Марковича не волновали; вовсе нет: работы о «Повестях Белкина» («„Повести Белкина“ и литературный контекст», решусь сказать, одна из лучших работ Марковича вообще), о политической лирике или о пушкинском реализме («Чудесное в интимной и политической лирике Пушкина. К проблеме: Пушкин и русский утопизм»; «Пушкин и реализм. Некоторые итоги и перспективы изучения проблемы») свидетельствуют об обратном. И все же — «Евгений Онегин» и место/роль Пушкина в истории литературы — вот центры пушкинистики Марковича.
Это не удивительно: судьбы русского романа и общие пути развития русской литературы XIX–XX веков, в частности, вопрос о взаимоотношении классики и авангарда (так назывался многолетний его семинар в Петербургском университете) всегда были в центре научных интересов Марковича.
Второй важный момент, на котором я хотел бы остановиться, можно назвать восстановлением исторической справедливости; он тоже связан с «Евгением Онегиным». Открывающая книгу «О Пушкине» статья 1963 года — «Из наблюдений над композицией „Евгения Онегина“» — не может не поразить тем, что она в известной мере предвосхищает совершенно новое, иное, нежели прежде, понимание романа в стихах, которое заявило о себе как раз в середине 1960-х годов. Даже не предвосхищает, предвосхищение тут не вполне уместное слово, новый взгляд на «Евгения Онегина», пожалуй, впервые в статье Марковича нашел свое выражение; знаменитые статьи Ю. М. Лотмана и С. Г. Бочарова появились позже,2 тем более статья Ю. Н. Чумакова «Состав художественного текста „Евгения Онегина“», датирующаяся вообще 1970 годом.3 Владимир Мáркович оказался в данном отношении первым.
Конечно, новое прочтение пушкинского романа родилось, так сказать, в общей атмосфере первой половины 1960-х годов, различные ученые выразили его независимо друг от друга и каждый — по-своему. Тем не менее тот факт, что В. М. Маркович был среди них первым, заслуживает упоминания. И — памятования. Некоторые же совпадения (более чем относительные, совпадения в общем подходе и глобальном ви́дении, а никак не в деталях или ракурсе анализа) с идеями других ученых, конечно же, очень интересны — они показывают место Марковича в движении пушкинистики. Владимир Ма́ркович оказывается рядом, в одном ряду, с Ю. М. Лотманом, С. Г. Бочаровым, Ю. Н. Чумаковым, к ним необходимо добавить и В. А. Грехнева. Их совместные труды и определили, в конце концов, иное, чем ранее, отношение к Пушкину вообще, и среди другого — к «Евгению Онегину».
С этим связано третье, о чем мне хотелось бы сказать. При всей отчетливой и резкой оригинальности, Владимир Мáркович, как и любой человек, принадлежал своему времени. И в собственных литературоведческих исследованиях он, естественно, его отражал. Но именно время, эпоху; они определяли его исследовательский почерк, а не какие-либо школы и методологии. Многие из этих методологий он усваивал, оставаясь при этом самим собой, Марковичем, с «лица необщим выраженьем», а не адептом какой-либо системы. Здесь он вновь стоит в одном ряду с С. Г. Бочаровым, Ю. Н. Чумаковым, А. П. Чудаковым. При всем их очевидном несходстве, между ними есть немало типологически общих черт.
Живя в своем времени, В. М. Маркович, естественно, менялся вместе с ним, оставаясь при этом в своей сути неизменным (говорю о его научном облике, о Марковиче — ученом). Это представляется крайне важным. О таком постоянстве в развитии он сам писал в небольшой статье о В. Шмиде;4 относительно Шмида, думаю, он был не прав, но вот к нему самому подобные слова более чем применимы. Хорошо помню услышанное от Владимира Мáрковича много лет назад суждение Е. И. Ляпушкиной о К. Малевиче: он проходил через разные влияния и эстетические системы, тем не менее всегда оставаясь Малевичем; похожее происходило и с Пушкиным. В известном смысле то же можно сказать о самом Марковиче.
Целостность его личности как литературоведа ясно проявлялась в стиле его работ. Стиль этот, разумеется, с годами менялся, но в главном оставался все тем же; в давнем своем разговоре Маркович ошибался, полагая, что ранние его статьи будут внешне отличаться от более поздних. Пушкинский том 2023 года превосходно демонстрирует их стилистическое единство. Все вошедшие в него работы отмечены глубоким чувством меры, тем, что барочные риторики определяли как decorum; им присуще то внутреннее равновесие и гармоническая завершенность, которые ученый находил в романах И. С. Тургенева. Причем в основе подобной гармонии лежит уравновешенность мысли, находящей воплощение в точных, согласованных друг с другом словах; филологический стиль Марковича вполне можно определить как «гармоническую точность». И не удивительно, что, возможно, наибольших успехов ученый достиг в анализе Пушкина, прозы Лермонтова, Тургенева, отчасти — Чехова — создателей художественных миров, отмеченных стройной соразмерностью, во всяком случае — в стилистических своих регистрах. Как мне кажется, результаты обращения Марковича к творчеству Гоголя или же поэзии ленинградского андеграунда, при всей серьезности и достижениях, были все же менее впечатляющими.
Четвертый момент, требующий, по-моему, внимания, тоже, в конце концов, связан с эпохой, определившей направленность и характер научных трудов В. М. Марковича. 1960-е годы отмечены активным интересом к поэтике; в отличие от формалистов 1920-х годов, для нового поколения литературоведов (конечно, только для небольшой и, осмелюсь сказать, — лучшей его части) исследование поэтики было необходимым прежде всего потому, что без него невозможно было бы постигнуть художественный смысл; цель этих ученых как раз и состояла в том, чтобы этот смысл, вернее динамическое соединение разных смыслов, понять, причем исходя из самого текста; не внося в свою интерпретацию внеположных произведению идей, а вникая в интенции самого произведения. В такой позиции, как представляется, скрывалась глубочайшая, хотя и совсем непрямая перекличка с эпохой: внимание к другому, уважение к нему, попытка услышать его собственный голос — все это, несомненно, присуще культурному сознанию тех лет; с этим, вероятно, отчасти связано стремительное распространение идей М. М. Бахтина, кстати сказать, оказавших на Марковича мощное и плодотворное влияние. В литературоведении следствием этой атмосферы стала установка на понимание (о принципиальной важности именно этого понятия писал С. Г. Бочаров во введении к одной из своих итоговых книг5). На понимание как вычитывание из текста присущих ему поэтических идей, выражаемых всеми элементами его структуры. В результате текст начинал осознаваться как овеществленный в слове голос другого человека, в который надо чутко вслушиваться — с предельным вниманием и максимальным уважением (именно так, как известно, определял филологию еще один из шестидесятников — С. С. Аверинцев). Эпохальным примером этому стала небольшая книжка С. Г. Бочарова о «Войне и мире».6 Явлением такого же рода было — и оставалось до конца — научное творчество В. М. Марковича.
В последние полтора-два десятилетия в литературоведении произошла отчетливая переориентация с текста на контекст: не художественный текст в его полисемантичности вызывает сейчас преимущественный интерес, а разнообразные контексты, с которыми он так или иначе связан. Осмысление поэтических идей все более отходит на задний план. А для В. М. Марковича (как и для других только что названных филологов) как раз оно, осмысление, и составляет главный нерв литературоведческого исследования. Он оставил нам замечательные образцы таких осмыслений и построенных на их основе концепций; «пушкинская» их часть и составляет книгу «О Пушкине». Эта книга, в какой-то мере, наследство ушедшей эпохи, но наследство полное жизни и, как представляется, крайне актуальное: как бы ни были важны политический, социальный, экономический, психологический и т. п. ряды, с которыми сопряжено литературное произведение, оно, если это высокая литература, а не массовая беллетристика, неизменно остается искусством и все свои другие задачи решает исключительно как искусство, через свои художественные смыслы. Книга Марковича на примере разных пушкинских произведений и показывает филологам новых уже генераций (и хочу думать — будет показывать еще долгое время), как эти художественные смыслы ощутить и выразить их словом науки.
Книга «О Пушкине» несет в себе, передавая его последующим эпохам, и опыт несколько другого рода, возможно, еще более важный. Опыт этот связан уже с метанаучными, гуманистическими целями, которые литературоведение (в лице не очень многих, но самых выразительных своих представителей) так успешно достигало с конца 1950-х годов — в течение нескольких десятилетий. Оставаясь в собственных строгих пределах и не переступая границ науки, оно, одновременно с этим, некоторым образом входило непосредственно в жизнь, указывая своим читателям важнейшие жизненные ориентиры, которые позволяли им, оценивая происходящее вокруг, выбирать определенную жизненную позицию. Ну а если и не выбирать, то, во всяком случае, осознавать возможность такого выбора. Об этом, в частности, выразительно писала О. А. Седакова, имея в виду Ю. М. Лотмана и Тартускую школу.7 Но далеко не только в Тарту происходило подобное. В частности, сверхсмыслы такого типа обнаруживаются в работах Марковича, прежде всего в тех, что посвящены Пушкину. В статьях, составивших нынешний пушкинский том, все время звучит одна идея, образующая магистральный сюжет пушкинистики ученого. Это — идея свободы. Маркович показывает, как эта свобода обуславливает композицию «Евгения Онегина», как проявляется она в политической лирике и, совсем по-другому, определяет мир «Повестей Белкина». Более того, свободу, уже как свободу общения с самим собой, Пушкин передает далеким своим потомкам, что проявляется в поэзии ленинградского андеграунда в ее отношениях с Пушкиным. Эта пушкинская свобода неразрывно связана с милостью, милостью к падшим, т. е. ко всем нам. Свободный человек уважает свободу других людей, и в другом он видит такого же свободного человека, как он сам. «Пушкин, тайную свободу пели мы вослед тебе» — с тактом и сдержанностью, оставаясь литературоведом, В. М. Маркович именно это выделял, в совершенно разных аспектах, в творчестве Пушкина. И его собственное литературоведческое творчество зарядилось тою же самой пушкинской свободой. И продолжает передавать ее своим читателям — как драгоценный и выстраданный вопреки многому дар.
* Маркович В. М. О Пушкине. Работы разных лет. СПб.: Росток, 2023. 351 с.
1 Большинство работ В. М. Марковича такого рода вошли в его книгу: Маркович В. М. Мифы и биографии. Из истории критики и литературоведения в России. СПб., 2007.
2 Лотман Ю. М. Художественная структура «Евгения Онегина» // Труды по русской и славянской филологии. IX: Литературоведение. Тарту, 1966. С. 5–32 (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 184); Бочаров С. Г. Форма плана (некоторые вопросы поэтики Пушкина) // Вопросы литературы. 1967. № 12. С. 115–136.
3 Чумаков Ю. Н. Состав художественного текста «Евгения Онегина» // Пушкин и его современники. Псков, 1970. С. 20–33 (Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена; т. 434).
4 Маркович В. М. После постструктурализма: О книге В. Шмида «Проза как поэзия» // Russian Studies: Ежеквартальник русской филологии и культуры. СПб., 1995. № 2. С. 413–429.
5 Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 11–12. Замечу, так сказать, на полях, что для В. М. Марковича отличие понимания от интерпретации было не столь острым.
6 Бочаров С. Г. Роман Льва Толстого «Война и мир». М., 1963.
7 Седакова О. А. «Вечные сны, как образчики крови…». О Юрии Михайловиче Лотмане и структурной школе в контексте культуры 70-х годов // Лотмановский сборник. [Вып.] 1. М., 1995. С. 262–263.
About the authors
Petr E. Bukharkin
The Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: p_bukharkin@hotmail.com
ORCID iD: 0000-0002-0620-0367
Associate Researcher
Russian Federation, St. PetersburgReferences