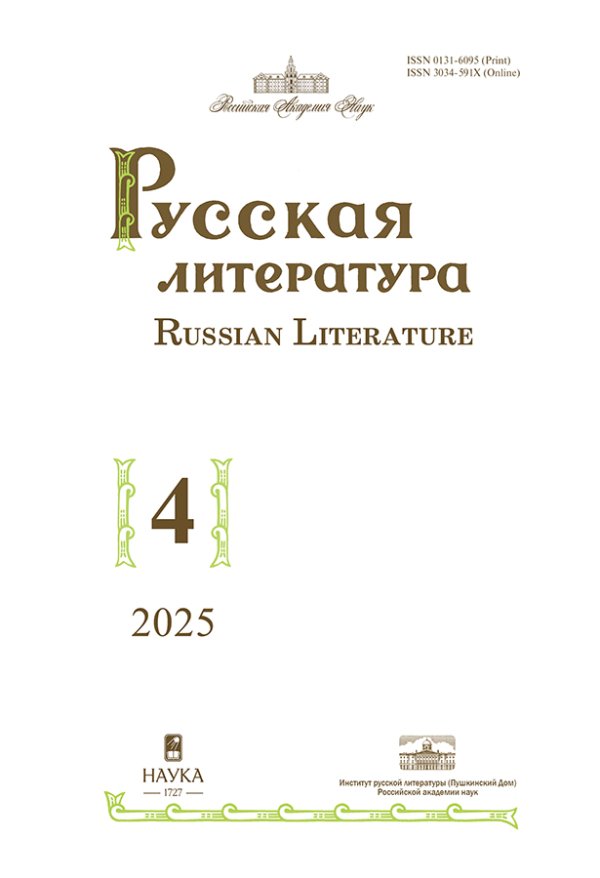Пятисложные безударные интервалы в поэзии Б. Л. Пастернака
- Авторы: Поливанова Д.К.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Выпуск: № 2 (2024)
- Страницы: 217-226
- Раздел: Публикации и сообщения
- URL: https://bakhtiniada.ru/0131-6095/article/view/259345
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2024-2-217-226
- ID: 259345
Полный текст
Аннотация
В работе собраны и проанализированы строки с пятисложным безударным интервалом в лирике Б. Л. Пастернака. Пятисложный безударный интервал создается за счет пропуска одного метрического ударения в строках трехсложных размеров, а также за счет пропуска двух метрический ударений подряд в строках ямба и хорея. Обилие строк такой ритмической структуры является характерной особенностью ритмики Пастернака, а предложенный в работе морфологическо-синтаксический анализ этих строк позволяет выделить характерные для его лирики ритмико-синтаксические клише.
Ключевые слова
Полный текст
В настоящей работе я хотела бы обратиться к одной из бросающихся в глаза ритмических особенностей лирики Пастернака, а именно к пропуску метрического ударения в трехсложных размерах, а также к пропуску двух метрических ударений подряд в двусложниках. В результате такого пропуска в стихотворной строке возникает пятисложный безударный интервал:
И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены
И от болей и эпидемий
И смерти освобождены.
С намеренным однообразьем,
Как мазь, густая синева
Ложится зайчиками наземь
И пачкает нам рукава.1
Для двусложных метров (ямба и хорея) такая ритмика строки не является самой распространенной, но при этом часто встречается как у поэтов XX, так и XIX и XVIII веков («Здесь в мире расширять науки / Изволила Елисавет» (М. В. Ломоносов, «Ода на день восшествия <…> императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»), «К покойнику со всех сторон / Съезжались недруги и други, / Охотники до похорон. / Покойника похоронили» (А. С. Пушкин, «Евгений Онегин», глава I, строфа LIII), «Одни зарницы огневые, / Воспламеняясь чередой, / Как демоны глухонемые, / Ведут беседу меж собой» (Ф. И. Тютчев, «Ночное небо так угрюмо…»)).
Говоря о ритмике 4-стопного ямба у Пастернака, М. Л. Гаспаров отмечает, что он «сохраняет общие контуры своего ритма на всем протяжении творчества Пастернака: I стопа чаще несет ударение, чем II, ритм образует рамочную конструкцию с опорой на первую и последнюю стопу. Это характерный 4-ст. ямб русского модернизма, сложившийся после опытов Брюсова и Белого, и Пастернак пронес его смолоду через всю жизнь».2
Для трехсложников же (дактилей, амфибрахиев и анапестов) пропуски метрического ударения абсолютно нехарактерны; такие примеры в XIX веке уникальны: «Все бинокли приходят в движенье — / Появляется кордебалет» (Ан3, Н. Некрасов), «Треволненья мирского далекая, / С неземным выраженьем в очах, / Русокудрая, голубоокая, / С тихой грустью на бледных устах» (Ан3, Н. Некрасов), «Льетесь безвестные, льетесь незримые, / Неистощимые, неисчислимые» (Д4, Ф. Тютчев).
Пастернак же превращает этот пропуск в дактилях, амфибрахиях и анапестах в постоянный ритмический прием. Обилие пропусков метрического ударения в трехсложных размерах становится характерной особенностью лирики Пастернака, на которую обращали внимание исследователи.
Первым эту характерную черту трехсложников у Пастернака выделил в своей работе Г. П. Струве: он приводит многочисленные примеры, классифицированные по метрам в хронологическом порядке, и отмечает, что этот прием был в не меньшей степени характерен и для его переводных текстов.3 Руководствуясь именно этой работой Струве, М. Л. Гаспаров отмечает, что трехсложные размеры у Пастернака «имеют одну особенность ритма, сразу бросающуюся в глаза, — частые „трибрахии“, пропуски ударений на сильных местах. В традиционной поэзии они встречались только на I стопе дактиля, у Пастернака же, с самых первых его опытов, — также и внутри стиха: „Запрокинувшиеся изнанкой“, „Раскатившеюся эспланадой“. <…> Эта тенденция сохраняется и у позднего Пастернака («…Покачивалась фельдшерица со склянкою нашатыря»), причем — что еще не отмечалось — заметно усиливается: в трехсложниках „Близнеца в тучах“ и „Поверх барьеров“ один внутренний пропуск приходится в среднем на 58 стоп, в „Стихах Юрия Живаго“ и „Когда разгуляется“ — на 31 стопу».4
И действительно, у Пастернака пропуск ударения на первой стопе встречается не только в дактиле («Заночевавшие гости»), но также и в амфибрахии («Разочаровалась? Ты думала — в мире нам / Расстаться за реквиемом лебединым?», «И знаться не хочет ни с кем / Железнодорожная насыпь») и даже в анапесте, когда за счет этого первого пропуска в анапесте строка начинается с пяти безударных слогов («Двадцатипятилетье — в подпольи», «Сколько типов и лиц! / Вот душевнобольной. / Вот тупица», «На Каменноостровском»), так же как и в самой редкой, пятой форме четырехстопного ямба5 («Несовершеннолетний гад»), которая, впрочем, как раз практически не встречается у Пастернака.
На эту же особенность лирики Пастернака ссылается Вяч. Вс. Иванов: анализируя длинные безударные интервалы (от трех до восьми) в дольниках Бродского, он замечает, что «эти ритмические эксперименты Бродского можно было бы считать продолжением (возможно, и через промежуточное посредничество других поэтов) традиции тех вещей Пастернака, где вводятся аналогичные многосложные безударные интервалы в трехсложных метрах».6
О строках же четырехстопного ямба Пастернака с двумя пропусками ударений подряд писал В. С. Баевский: «Как всегда, они передают словно бы живое дыхание автора, перебои его замирающего от восторга, счастья и гнева сердца. Особенно выразительны строки четырехстопного ямба с двумя пеонами (безударными стопами): „Нечаянностях впопыхах“, „И выскользнула из объятья“. Невольно вспоминаются старые стихи поэта: „И сталкивающихся глыб / Скрежещущие пережевы“».7
Мне показалось интересным собрать все строки с пятисложным безударным интервалом в поэзии Пастернака и проанализировать их, предложив несколько их классификаций по разным признакам (ритмическим, синтаксическим и морфологическим). Для анализа были взяты тексты полного собрания стихотворений Б. Л. Пастернака в двухтомном издании, вышедшем в серии «Библиотека поэта».8
Помимо пятисложных безударных интервалов, у Пастернака нередко встречаются и четырехсложные интервалы в строках дольника («Кровоостанавливающей арники», «Насмешливое: „Оставьте“», «Расстраиваться не надо», «Подсматривает с ветвей», «Торжественное затишье», «Полубезумного болтуна», «Лампой висячего водопада»), отметим, впрочем, что чистых дольников у Пастернака мало,9 как правило, строки дольника вкрапляются в тексты, написанные классическими метрами, как, например, в «Вальсе со слезой», написанном четырехстопным дактилем, оказывается также и строка дольника с четырехсложным безударным интервалом: «Яблоне — яблоки, елочке — шишки. / Только не этой. Эта в покое. / Эта совсем не такого покроя. / Это — отмеченная избранница. / Вечер ее вековечно протянется».
А также наоборот встречаются и более длинные безударные интервалы, 6-, 7- и даже 8-сложные.
Интервал в шесть слогов:
«Их мысли ворочаются, как жернова»; «Раскатывающего на роликах плит»; «И вселенная стонет от головокруженья».
Интервал в семь слогов:
«Выпархивало на архипелаг»; «Им вынесено и совершено»; «Захлебывающийся Севастополь»; «У выписавшегося из больницы»; «Оттепелями из магазинов».
Интервал в восемь слогов:
«Захлебывающийся локомотив», «Расскальзывающаяся артиллерия».
Но в данной работе мы сосредоточимся именно на строках с пятисложным безударным интервалом, потому что именно таких строк оказывается больше всего, и это в конечном итоге позволяет говорить о возможных ритмико-синтаксических клише в поэзии Пастернака.
Мы собрали в общей сложности 496 строк с пятисложным безударным интервалом. Среди трехсложников распределение по размерам следующее: в абсолютных цифрах больше всего их приходится на строки, написанные амфибрахием («Со склянкою нашатыря») — 121 пример; меньше всего в дактилях («Пей и пиши, непрерывным патрулем / Ламп керосиновых подкарауленный») — 26 примеров; и 56 примеров среди анапестов («Ты оденешь сегодня манто, / И за нами зальется калитка, / Нынче нам не заменит ничто / Затуманившегося напитка»). Причем в корпусе стихотворных текстов анапестов и амфибрахиев у Пастернака поровну, а дактиля действительно существенно меньше: согласно подсчетам В. А. Плунгяна, на весь корпус стихотворных текстов Пастернака (531 документ) приходится 96 текстов, написанных правильными трехсложными метрами. Среди них анапестом — 44 текста, амфибрахием — 42 текста и всего 10 дактилем. Правильными двухсложными метрами написано 326 текстов (что составляет 61% от всего корпуса), из них ямбом 278 текстов (что составляет 52% от всего корпуса текстов Пастернака), а хореем — 48 текстов.10
Что же касается двусложников, то пятисложный безударный интервал встречается как в ямбах, так и в хореях. В хореях было найдено лишь 16 примеров («Вновь он в этом старом парке. / Заморозки по утрам», «Если только хватит силы, / Он, как дед, энтузиаст, / Прадеда-славянофила / Пересмотрит и издаст»), в ямбах же — 276 («Здесь будет все: пережитое / И то, чем я еще живу, / Мои стремленья и устои, / И виденное наяву»).
Помимо этого, пятисложные безударные интервалы у Пастернака изредка встречаются и в строках акцентного стиха, для которого длинные интервалы считаются нормой: «И что он, вольноопределяющийся, правит винтом» (2*5*3*2*0).
Таким образом, в основном пятисложный безударный интервал встречается в трехстопных трехсложниках и четырехстопных двусложниках, тем самым создавая рамочную ритмику строк (с двумя ударными стопами по краям и пропуском метрического ударения на единственной средней или одной из средних стоп) и сближая эти метры между собой: трехстопный амфибрахий становится, вообще говоря, вне метрического контекста неотличим от четырехстопного ямба, а четырехстопный хорей — от трехстопного дактиля. Именно эта ритмическая близость (рамочная ритмика) таких строк объясняет наше решение анализировать их вместе. В трехстопных анапестах 52 примера, в четырехстопных — 4; в трехстопных амфибрахиях 102 примера, в четырехстопных — 18 («Топтались погонщики и овцеводы, / Ругались со всадниками пешеходы, / У выдолбленной водопойной колоды / Ревели верблюды, лягались ослы»); в трехстопных дактилях 23 примера, в четырехстопном — 2 и в шестистопном — 1. Пятистопных ямбов всего 8 (268 примеров — четырехстопный), а пятистопного и восьмистопного хорея по одному примеру. См.:
«Мне протягивает бандероль» (Ан3), «Не чувствовалось ничего» (Аф3), «В первенстве и правоте» (Д3), «Языческие алтари» (Я4), «Обеденная тишина» (Я4), «Спрашивали о подмоге» (Х4).
В более длинных размерах (четырехстопных трехсложниках, а также пяти-, семи- и восьмистопных двусложниках) пятисложный безударный интервал располагается в конце или начале длинной строки:
«Удаляющейся кавалерии, — плеск» (Ан4), «Снизу доверху выщербленные пещеры» (Ан4), «Как утопленница, кувырком, бестолково» (Ан4), «Я вздрагивал. Я загорался и гас» (Аф4), «...Все яблоки, все золотые шары» (Аф4), «Ламп керосиновых подкарауленный» (Д4), «Виснут серебряною канителью» (Д4), «Вянувший тысячесвечник петуний» (Д4), «В белом доме против кооператива» (Х5), «Неизвестность вздрагивала плавниками камбалы» (Х8), «Будь воскресающею двугорядью» (Я5), «Агония осени. Антагонизм» (Я5), «Украдкой от арктических и неусыпных льдин» (Я7).
Итак, всего было отобрано для анализа 496 строк с пятисложным безударным интервалом. В первую очередь обратим внимание на ритмику словоразделов, т. е. ритмическую структуру слов, благодаря которой этот интервал образуется. В 225 случаях пятисложный безударный интервал создается за счет сочетания трех слов, центральное из которых безударное (как правило, проклитический предлог или союз) («В предвиденьи и наяву», «Лес забрасывает, как насмешник»).
В остальных же случаях этот интервал создается за счет сочетания двух слов, при этом, как правило, безударные слоги распределяются между этими словами равномерно (три — в одном слове, два — в другом). Наиболее часто встречается конфигурация с тремя безударными слогами в первом слове (гипердактилический словораздел) и двумя безударными во втором — 130 примеров: «Покачивалась фельдшерица», «Присматривался новичок».
Несколько реже — 74 примера — случаи, когда в первом слове два безударных слога в конце и во втором три безударных в начале: «Противного стереотипа»; «Безвозгласно великолепье».
Помимо этого, есть и более изысканные сочетания, когда на одно из слов приходится четыре безударных слога, а на второе один слог. При этом опять-таки чаще слово с более длинным безударным интервалом оказывается первым, т. е. имеет четыре безударных слога в конце (сверхгипердактилический словораздел), а за ним следует слово с ударением на второй слог (39 примеров):
«Затуманившегося напитка», «Завивающуюся жгутом», «И невыполотые заносы», «Как на сыплющееся пшено», «Запрокинувшиеся изнанкой», «Ты взвивающимися пилястрами», «Снизу доверху выщербленные пещеры», «В их августовское убранство», «Вся — дыбящееся виденье!», «С невыдохшимися духами», «Их вырвавшееся упорство», «Свершить замечательнейшую экскурсию», «Это волнующаяся актриса», «Ширящееся плесканье», «Щиколоткою греметь», «Повертывается махина», «Подкрадывается зима», «Он свешивается в окно», «Подписывается в четыре», «Как непоследовательно насмешлив!», «Хоть некоторые, куражась», «Что в каменщиковой кувалде», «Приблизившаяся, чудесная», «Рассматриваемой в обед», «Засасывающий словарь», «Гримасничающий закат», «Испытаннейшие часы в эфире», «Невыспавшееся событье», «От стягивавшейся облавы», «И падающие деревья», «И выломанные паркетины?», «Немотствующая неволя!», «Смущающаяся метель», «В вас втюрившуюся каргу!», «разыскиваемый властями?», «Над рукописями трястись», «Вся проволокою колючей», «Как с заповедями скрижаль», «Дрожа, протягиваются в далекость».
Обратных же примеров, когда второе слово имеет ударение на 5-й слог, всего 18:
«Если хочешь, переименую», «В белом доме против кооператива», «Страшным полуоборотом», «Все были предупреждены», «Зарывшись, переночевал», «Который полузанесло», «Красивый, двадцатидвухлетний», «За пыльный золотообрез», «Он звезды переобезьянил», «Деревню пересуматошить», «Не солнцем заворожена», «Все чувства преображены», «Батрачкам наперегонки», «И смерти освобождены», «Баллады самообладанья», «Курьером умоисступленья», «Победы одухотворением», «Плотной кучей, в полузабытьи».
Помимо этого, есть и совсем редкие случаи, в которых все пять безударных слогов приходятся на одно слово (8 примеров):
«И что он, вольноопределяющийся, правит винтом»; «И опять, двадцатипятилетье»; «Артиллерист-вольноопределяющийся, скромный и простенький»; «В золе народонаселенья»; «С сумерничающею смертью»; «И сталкивающихся глыб»; «Здоровающеюся в наручнях»; «Вдруг с непоследовательностью в мыслях».
Еще одной задачей этого исследования было проанализировать такие сочетания с морфологической и синтаксической точки зрения. То есть посмотреть на синтаксическое устройство строк с пятисложным безударным интервалом, а также рассмотреть, какие части речи чаще оказываются в этом сочетании. Распределение найденных примеров по группам в зависимости от того, какие части речи в них оказываются, и от их синтаксического устройства позволяет нам говорить в том числе и о характерных для Пастернака ритмико-синтаксических клише.
- Наверное, самой выразительной и частой оказывается группа примеров, в которых на первом месте находится причастие (как правило, со следующим за ним существительным), таких примеров 79:
«Скрежещущие пережевы», «С сумерничающею смертью», «Открывающихся с чердака», «Завивающуюся жгутом», «Как на сыплющееся пшено», «Ты взвивающимися пилястрами», «Удаляющейся кавалерии, — плеск», «Бушующего обожанья», «Трепещущего серебра», «И крадущейся росомахой», «Это волнующаяся актриса», «Пустующим березняком», «Юродствующий инвалид», «Засасывающий словарь», «Гримасничающий закат», «И падающие деревья», «Немотствующая неволя!», «Смущающаяся метель», «И сталкивающихся глыб», «Здоровающеюся в наручнях», «Будь воскресающею двугорядью», «Учащиеся, слесаря», «Вся — дыбящееся виденье!», «Ширящееся плесканье», «Как раскинувшийся панорамою», «Едко въевшуюся фотографию», «Затуманившегося напитка», «Запрокинувшиеся изнанкой», «Раскатившеюся эспланадой», «Осыпавшихся крепостей», «Осыпавшихся папирос», «Отстроившейся красоты», «Озябнувшие москвичи», «Покачивавшей головой», «Расплывшаяся солдатня», «Их вырвавшееся упорство», «Вянувший тысячесвечник петуний», «В очистившейся панораме», «От вешавшихся фетишей!», «Осклабившийся павиан», «Загнувшаяся тишина», «Как выпавшие удила», «Окуклившийся ураган», «Надвинувшейся новизны», «Невыспавшееся событье», «От стягивавшейся облавы», «В вас втюрившуюся каргу», «С невыдохшимися духами», «И вымершие мостовые», «Неузнаваемая сторона», «Рассматриваемой в обед», «Разыскиваемый властями», «Обездушенный калейдоскоп», «Снизу доверху выщербленные пещеры», «С крученого паныча», «Помешанных клавиатур», «Испытанного гребешки», «И всосанному с молоком», «Раскиданные лоскуты», «Оправленные в города», «Завещанные сентябрем», «Исщипанного полотна», «Опутанные ворожбой», «В накошенные клевера», «С распущенными волосами», «И выломанные паркетины?», «И невыполотые заносы», «Достигнутого торжества», «Натянутая тетива».
К этой же группе стоит отнести и строки дольника с безударным интервалом в четыре слога:
«Кровоостанавливающей арники»; «Украшенная органом»; «Оправленное в резьбу»; «И купленная улыбка»; «Заколдованное число!»; «Лампой висячего водопада»; «О рассроченном платеже»; «Молящихся вышине»; «Это — отмеченная избранница», — а также строки с безударным интервалом в 7 и 8 слогов: «Захлебывающийся Севастополь»; «Захлебывающийся локомотив»; «Расскальзывающаяся артиллерия».
- Следующая группа, которая синтаксически очень близка предыдущей, состоит из определения и следующего за ним существительного — это группа с прилагательным в начале (43 примера):
«И кладбищенским чертополохом», «Противного стереотипа», «Безвозгласно великолепье», «Всплеск тайного многолепестья», «Столиственное торжество», «Стоградусною нищетой», «Не оперные поселяне», «Там памятливей города», «Признательнее государства», «За рыцарскою альмавивой», «В их августовское убранство», «Березы, и прочие окаменелости», «Свершить замечательнейшую экскурсию», «Виснут серебряною канителью», «Гипсовою эпопеею лепит», «Страшным полуоборотом», «С пригородных баррикад», «За пыльный золотообрез», «Ужасное однообразье», «С намеренным однообразьем», «Сквозь прошлого перипетии», «В московские особняки», «Ужасного заимодавца», «Соленое великолепье», «Сыпучего самосверганья», «Для гладкого голосованья», «Непонятым напоминаньем», «По давнему обыкновенью», «Георгиевский кавалер», «Языческие алтари», «Обеденная тишина», «До истинного персонажа», «В их утреннее оживленье», «Убийственная красота», «Иль крошечная крепостца», «Кощунственную телеграмму», «Неведомого мятежа», «Отчаянные холода», «На каменное плоскогорье», «В неслыханную простоту», «Испытаннейшие часы в эфире», «Что в каменщиковой кувалде», «Передаточная колея».
- Следующая группа, в которой сначала идет глагол, а дальше, как правило, за ним следует дополнение или подлежащее (реже еще один глагол или обстоятельство) — 45 примеров:
«Если хочешь, переименую», «Как спаивают, просыпаются», «Случается: отполыхав в признаньях», «Не чувствовалось ничего», «Все были предупреждены», «Смоковница высилась невдалеке», «Проносятся чересполосицей, поездом», «Он высится порожняком», «Накрапывало. Налегке», «Показывались горловые связки», «Раскатывались снеговые крутни», «Заигрывают с пристяжной», «Переписывало мертвецов», «Мне протягивает бандероль», «Подхватывали ковыли», «Что требовали полномочий», «Покачивалась фельдшерица», «Присматривался новичок», «На август напарывались дерева», «Вмешивалось в разговор», «Неизвестность вздрагивала плавниками камбалы», «Протягиваем контрамарки», «Вымеривает половицу», «И дернулись в переговоре», «Меняются репертуары», «Прохаживался адмирал», «Показывался небосвод», «Здоровается горизонт», «Запахивают облака», «Расталкивали бестолковых», «Подбрасывает духота», «Похаживали пристава», «Неистовствовал соловей», «Закусывают попугаи», «Соперничают в опереньи», «Подбрасывали батраки», «Повертывается махина», «Подкрадывается зима», «Он свешивается в окно», «Как я присматривался к матерьялам!», «И вмешивался в разговор, и пепельной», «Дрожа, протягиваются в далекость», «Подписывается в четыре», «И теряется в березняке», «Растягивались в эшелоны».
3.1. С деепричастием:
«Зарывшись, переночевал», «Потягиваясь, поднялась спросонок», «Просвечивая изнутри», «Воспользовавшись темнотой», «Показываясь с поворота», «И, сваливаясь с валуна», «И, выхвативши автомат его», «Отказываясь наотрез».
3.2. С инфинитивом:
«И старое перебирать начну», «Заглядываться недосуг», «Раскачивать колокола».
- Существительное и следующее за ним существительное:
«Ты из сумерек, социалистка», «Смехе, сутолоке, беготне?», «За стаканчиками купороса», «В темном тереме стихотворенья», «Бьется пригород Тьмутараканью в падучей», «Со склянкою нашатыря», «С бессонницей обсерваторий», «Обносками крестовика», «И будущего красоту», «Приятельницы матерей», «С окраинами пропаж», «И музыкой — зеркалом исчезновенья», «Шел в город на сборище учеников», «В садовую изгородь календарей», «Он шел из Вифании в Ерусалим», «Все будущее галерей и музеев», «Ругались со всадниками пешеходы», «Дымами Кассиопею!», «Развалинами старины», «Сумерки — оруженосцы роз», «Прадеда-славянофила», «Плотной кучей, в полузабытьи», «В золе народонаселенья», «Баллады самообладанья», «Курьером умоисступленья», «Победы одухотворением», «С библиотекаршей Наркоминдела», «Готов к пришествию сверхчеловека», «В искатели благополучия», «Цель творчества — самоотдача», «В окрестностях аэропорта», «Как парусников кузова», «Как с заповедями скрижаль», «Вдруг с непоследовательностью в мыслях», «Агония осени. Антагонизм», «Венеция венецианкой», «И молодость учителей», «Развалинами старины».
- Существительное и следующее за ним прилагательное или причастие (часто краткое):
«Как плошкою, иллюминован», «Им милости возвещены», «Не солнцем заворожена», «Все чувства преображены», «Полкомнаты заслонено», «Будущего недостаточно», «Той же пьесою неповторимой», «И об оттепели окаянной», «Расстаться за реквиемом лебединым?», «Как мальчиком в восьмидесятые», «Зарницами первопрестольной», «С оконницей подслеповатой», «На поприще похороненных грез?», «И с публикою деликатной», «Вся проволокою колючей», «И женщиною оскорбленной», «Из города озарена», «И смерти освобождены», «Им милости возвещены», «Вид города неузнаваем», «Блеск заморозков оловянный».
- Существительное и следующий за ним глагол:
«Щиколоткою греметь», «Из Елабуги перенести», «Смоковницу испепелило дотла», «Он звезды переобезьянил», «А мелочи преобладали», «И яростью перешибала грусть», «Все в памяти перемешалось», «Деревню пересуматошить», «Над рукописями трястись», «В пустынности удостоверясь».
- Словосочетания с наречиями:
«Отказываясь наотрез», «Заглядываться недосуг», «Как непоследовательно насмешлив!», «Сначала всё опрометью, вразноряд», «Действительно, невдалеке», «Медленно переливая на теле», «И назревшие невдалеке», «Как цепь, надорванная пополам», «И виденное наяву», «Прославившимся — исполать!», «Предсказывающим наугад», «С винчестерами, вшестером?», «Как утопленница, кувырком, бестолково», «Батрачкам наперегонки», «И улица запанибрата», «Противнику наперерез», «Нечаянностях впопыхах».
Теперь же обратимся к сочетаниям с безударным словом посередине. Помимо отдельных примеров, которые сложно отнести к какой-либо многочисленной «группе» («Светало, но не рассвело», «Накрапывало, — но не гнулись»), отчетливо выделяются строки с союзом «и» посередине (62 примера), причем чаще всего это сочетание двух существительных:
«Перешейки и материки», «И ящерицы, и ключи, и ручьи», «Героев и богатырей», «Чайковского и Левитана», «В полыни и мяте и перепелах», «Топтались погонщики и овцеводы», «Папоротники и пальмы стеной», «В первенстве и правоте», «И местности и времена», «Папоротники и пальмы, и это», «Пентюх и головотяп», «Доверия и недоверья», «А ценности и провиант — казне», «Без палки и поводыря», «И новости и неудобства», «Обмолвки и самообман», «С левкоем и желтофиолем», «На улице и в мастерской», «Надежд и разочарований», «Довольства и оцепененья», «С их туловищ и туалетов», «С их блюдечек и физиономий», «Для галок и красногвардейцев», «В спокойствии и хладнокровии», «Сторицею и чистоганом», «На времени и моряке», «Мечтателю и полуночнику», «От всемогущества и чудотворства», «Уничтоженья и небытия», «Что мученикам и героям», «В предвиденьи и наяву», «И творчество, и чудотворство», «О транспорте и об искусстве», «Без неровностей и без углов», «Дети, юноши и старики», «Уюта и авторитета».
Реже сочетание двух прилагательных:
«Ветви яблоновые и вишенные», «О, как ты обидна и недаровита!», «Голым и полуодетым», «Таинственен и черномаз», «Всё сказочнее и неведомей», «Он дерзок и разгорячен», «Уверенные и угрюмые», «Тем ревностнее и партийней».
А также двух глаголов:
«Зал проветривался и сдавался внаем», «И вздрагивал, и замирал», «Чтоб вытянуться и поймать буек», «Все б сдвинулось и понеслось в опор», «И вскрикивала и покашливала», «Не нервничать и избегать излишеств», «Теряясь и оторопев», «Насилуя и дебоширя», «Озарив нас и оледенив».
Отдельно стоит выделить и строки, в которых пятисложный интервал создается за счет безударного предлога посередине. Таких примеров — 76:
«Разбранившись без обиняков», «Нитки ленивые, без суетни», «Я мучаюсь без результата», «Нарезавшись до положенья риз», «И женщин до потопа», «Изжеваны до одного», «От набережной до ворот», «Отчаянных до молодечества», «От занавеси до дивана», «Взвивается до потолка», «И складывают до захода», «За челюстью дряхлой, за опочивальней», «Вскакивают: за оградою», «Светало. За Владикавказом», «Выбалтывают за рекой», «Он на руку вывалится из расселины», «И, сдерживаясь из последних сил», «Заглядывала из ворот», «Чтоб выкупиться из ярма», «Неразберихой из неразберих», «Выбрасывая из побоища», «И выскользнула из объятья», «Катившийся из-за полмира», «Подглядыванье из-за штор», «В реактивную, на перевязку!», «Их двигало на города», «Я прислушиваюсь на досуге», «Браунинги на простынях», «Похоже на четверостишье», «Передники на животе», «Как колокол на перекладине дали», «Показывался на опушке пастух», «В выбоины на дворе», «Устраиваясь на ночлег», «С каракулями на бортах», «Брели на полузанесенный дом», «Не виданную на войне», «Я, вешающийся на них», «И публика на поплавке», «Как зеркало на подзеркальник», «И пряниками на меду», «В клубящуюся на версты корзину», «Задумали на полчаса», «Осматривался на пригорке», «И выкатилось на равнину», «На выставке, на тротуаре», «И домики на берегу реки», «Чуть падающем на кровать», «Оглядываясь на бегу», «Сходящейся над головой», «Ударится о мостовую», «Где, отрекшись от самоуправства», «Я думаю о терапевте», «Лопается от восторга», «Спрашивали о подмоге», «Кинувшаяся от ив», «Занявшийся от ерунды какой-то», «Мы занавесимся от штукатуров», «А рядом, неведомая перед тем», «Растекающихся по стеклу», «Задерживается по знаку», «Как молнии искра по громоотводу», «Полями, по чересполосице, в поезде», «Заморозки по утрам», «Не выровнен по ватерпасу», «Вы — радугой по хрусталю», «Кончался, по обыкновенью», «Обламываясь под алмазом», «Нет времени у вдохновенья. Болото», «Как у фальшивомонетчиков, — лавой», «В кустарнике у полотна», «Как под щипцами у часовщика», «Обуглены у какаду».
Строк с союзом «как» посередине — 23 примера:
«Лес забрасывает, как насмешник», «В переулке, как в каменоломне», «Их мысли ворочаются, как жернова», «И белая, как рукоделье», «Историю, как стеарин», «Он правильно, как автомат», «Лопатами, как в листопад», «Откупорили б, как бутылку», «И проводы, как провода», «Пленяется, как третьеклассник», «С нас спрашивают, как с волшебников», «Оглядывался, как беглец», «Устроены, как веретена», «Изгладилось, как, побелев», «Стог высится, как сеновал», «Посмотри, как преображена», «И видеть, как в единоборстве», «Все в крестиках двери, как в Варфоломееву», «И тянется, как за походною флягой», «Впиваешься, как в помутнелый флакон», «Все в крестиках белых, как в Варфоломееву», «Дом высился, как каланча», «И каменный как никогда».
За этой несомненно выделяемой особенностью авторской ритмики стоят, как представляется, несколько особенностей поэзии и поэтики Б. Пастернака, которые в совокупности и создают эту особенность звучания.
Первая — пристрастие Пастернака к просторечной (традиционно «не поэтичной») лексике («пентюх и головотяп», «Разбранившись без обиняков», «Он звезды переобезьянил», «Вся — дыбящееся виденье!», «Нечаянностях впопыхах», «Осклабившийся павиан»). Бок о бок с этим идет и пристрастие к длинным словам в целом, скорее поэзии не свойственным («Вдруг с непоследовательностью в мыслях», «Кровоостанавливающей арники»), в том числе к лексике специальной, иногда даже канцеляризмам («вольноопределяющийся», «В белом доме против кооператива», «В золе народонаселенья»), — то, что парадоксальным образом можно воспринять как «прозаизм» в поэзии, — за этим, вероятно, может стоять нараставшее недовольство своей ранней поэзией и стремление писать прозой, писать «яснее» («Нельзя не впасть к концу, как в ересь, / В неслыханную простоту»).
С другой стороны, стоит вспомнить о еще одной специфической черте Пастернака-поэта, а именно о его первоначальном композиторском образовании. Весьма соблазнительно в этой игре на нестандартных паузах усмотреть не только то, что В. С. Баевский называет «живое дыхание автора» и «перебои его замирающего от восторга, счастья и гнева сердца», но и опыт создания специфически организованного не только поэтического, но и звучащего музыкального текста. Это отчетливо заметно, например, в строках «Вальса со слезой»:
Как я люблю ее в первые дни
Только что из лесу или с метели!
Ветки неловкости не одолели.
Нитки ленивые, без суетни
Медленно переливая на теле,
Виснут серебряною канителью.
Ритм этого стихотворения, а именно пропуск одного схемного ударения в строках четырехстопного дактиля, отчетливо передает ритм вальса (три счета в такте), возможно, так же, как и в стихотворении «Вальс с чертовщиной», начинающемся со слов: «только заслышу польку вдали», можно говорить о соответствии ритмической структуры некоторых строк 2/4 польки.11
А. К. Жолковский, описывая законы поэтического мира Пастернака, справедливо полагает, что одной из характерных особенностей является «постановка крайних, новаторских, парадоксальных и других „великолепных“ эффектов на умеряющую основу традиционных поэтических форм — правильных метров, рифм, синтаксических периодов, смысловых связей и т. д.».12 Однако представляется, что выделенное нами регулярное обращение к такой нестандартной вещи, как длинный безударный интервал, до определенной степени корректирует утверждение Жолковского: оказывается-таки, что и на формальном уровне Пастернак от ранних и до поздних стихов позволяет себе проявлять присущую его миру авангардность и парадоксальность. До такой степени, что даже получается говорить и о возможной прямой семантизации этого приема в ряде конкретных случаев: «Проносятся чересполосицей, поездом», «И сталкивающихся глыб / Скрежещущие пережевы», «Медленно переливая на теле», «Неистовствовал соловей» и др.
Наконец, как хорошо видно из приведенных примеров, очень большая часть этих ритмических пауз построена на излюбленных Пастернаком причастиях — а вот тут можно предположить не только лексическое и ритмическое предпочтение, но и его семантизацию — именно причастия передают протяженность времени действия, метафорически по-гетевски выражаясь, протянутое, остановленное прекрасное мгновение, которое Пастернак как будто на протяжении всего своего поэтического пути и изображает.
* Хочу выразить признательность Р. Г. Лейбову и В. А. Плунгяну, ознакомившимся с предварительной версией работы и предложившим ряд важных советов.
1 Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы: В 2 т. / Сост., подг. текста и прим. В. С. Баевского и Е. Б. Пастернака. Л., 1990. С. 21 (Библиотека поэта. Большая сер.) Здесь и далее курсив и полужирный шрифт мой. — Д. П.
2 Гаспаров М. Л. Стих Б. Пастернака // Гаспаров М. Л. Избр. труды. М., 1997. Т. 3. О стихе. С. 514–515.
3 Struve G. Some observations on Pasternak’s ternary metres // Studies in Slavic linguistics and poetics, in honor of Boris O. Unbegaun / Ed. R. Magidoff. New York, 1968. P. 227–244.
4 Гаспаров М. Л. Стих Б. Пастернака. С. 515.
5 По классификации К. Ф. Тарановского.
6 Иванов В. В. Безударные интервалы у Бродского // Иванов В. В. Избр. труды по семиотике и истории культуры. М., 2004. Т. 3. Сравнительное литературоведение. Всемирная литература. Стиховедение. С. 738–739.
7 Баевский В. С. Б. Пастернак — лирик: Основы поэтической системы. Смоленск, 1993. С. 9. Курсив и полужирный шрифт мой. — Д. П.
8 Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы: В 2 т. / Сост., подг. текста и прим. В. С. Баевского и Е. Б. Пастернака. Л., 1990 (Библиотека поэта. Большая сер.); ср.: Пастернак Б. Л. Полн. собр. стихотворений и поэм / Вступ. статья В. Н. Альфонсова; сост., подг. текста и прим. В. С. Баевского и Е. В. Пастернак. СПб., 2003 (сер. «Новая Библиотека поэта»). Материал собирался вручную, поэтому, возможно, были найдены не все примеры, однако предложенный материал кажется репрезентативным.
9 Плунгян В. А. Особенности метрики Пастернака на разных этапах его творчества // Èluósī wénxué de duōyuán shìjiaˇo [Междисциплинарные подходы к русской литературе]. Hángzhōu, 2022. Т. 3. К 130-летию со дня рождения Бориса Пастернака и Осипа Мандельштама. С. 77–78.
10 Плунгян В. А. Особенности метрики Пастернака на разных этапах его творчества. С. 72.
11 Как отмечает Г. В. Куницын в своей выпускной квалификационной работе «Христианские праздники в поэтическом мире Пастернака», защищенной в НИУ ВШЭ в 2020 году и любезно предоставленной автором.
12 Жолковский А. К. Поэтика Пастернака: Инварианты, структуры, интертексты. М., 2011. С. 15.
Об авторах
Дарья Константиновна Поливанова
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Автор, ответственный за переписку.
Email: dasha.polivanova@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-0185-5361
старший преподаватель
Россия, МоскваСписок литературы
- Баевский В. С. Б. Пастернак — лирик: Основы поэтической системы. Смоленск, 1993.
- Гаспаров М. Л. Стих Б. Пастернака // Гаспаров М. Л. Избр. труды. М., 1997. Т. 3. О стихе.
- Жолковский А. К. Поэтика Пастернака: Инварианты, структуры, интертексты. М., 2011.
- Иванов В. В. Безударные интервалы у Бродского // Иванов В. В. Избр. труды по семиотике и истории культуры. М., 2004. Т. 3. Сравнительное литературоведение. Всемирная литература. Стиховедение.
- Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы: В 2 т. / Сост., подг. текста и прим. В. С. Баевского и Е. Б. Пастернака. Л., 1990 (Библиотека поэта. Большая сер.).
- Пастернак Б. Л. Полн. собр. стихотворений и поэм / Вступ. статья В. Н. Альфонсова; сост., подг. текста и прим. В. С. Баевского и Е. В. Пастернак. СПб., 2003 (сер. «Новая Библиотека поэта»).
- Плунгян В. А. Особенности метрики Пастернака на разных этапах его творчества // Èluósī wénxué de duōyuán shìjiaˇo [Междисциплинарные подходы к русской литературе]. Hángzhōu, 2022. Т. 3. К 130-летию со дня рождения Бориса Пастернака и Осипа Мандельштама.
- Struve G. Some observations on Pasternak’s ternary metres // Studies in Slavic linguistics and poetics, in honor of Boris O. Unbegaun / Ed. R. Magidoff. New York, 1968.