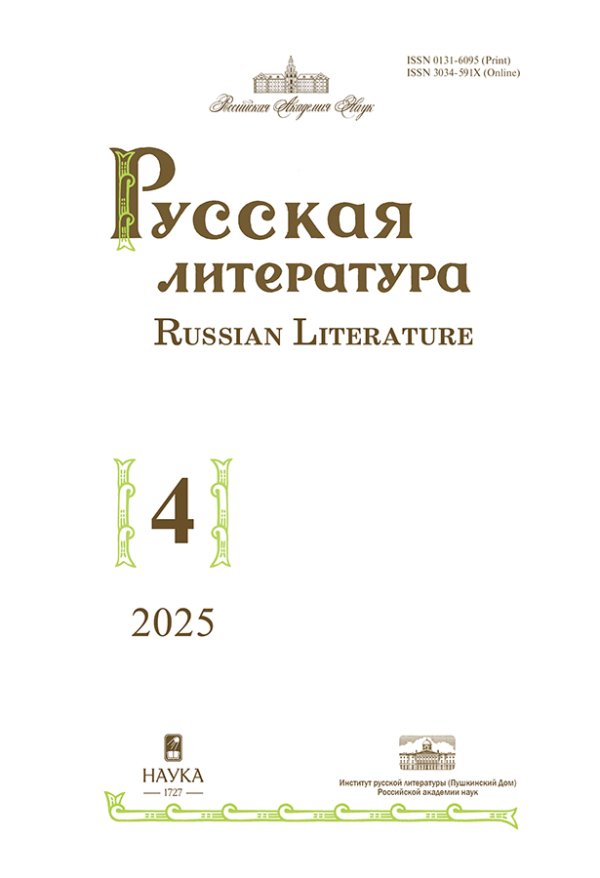About Another Source of The Queen on Spades
- Authors: Parshukova N.A., Romanova E.A.
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 91-97
- Section: A. S. Pushkin, 225th Anniversary
- URL: https://bakhtiniada.ru/0131-6095/article/view/259308
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2024-2-91-97
- ID: 259308
Full Text
Abstract
The article analyzes another possible source of A. S. Pushkin’s novella The Queen of Spades, associated with the French historical realities of the life story of the old countess. The authors believe that the poet might have used The Rollicking Chronicles (Chroniques de l’Œil de Bœuf) by G. Touchard-Lafosse, while the first edition of the book was published shortly before Pushkin’s text. Certain significant realities of The Queen of Spades are easily traceable in this source: Montgolfier’s hot air balloon, Mesmer’s magnetism, playing pharaoh at court, the description of Count Saint-Germain and the principal components of his myth. Comparing the respective parts of Pushkin’s text with the Chronicles, we came up with a slightly different outlook on the well-known work of Russian classical literature.
Full Text
Академик М. П. Алексеев в известной статье 1956 года1 указал на оду Г. Р. Державина «На счастье» (1789) как на возможный источник «Пиковой дамы», «обеспечивший хронологическую точность при сопоставлении двух, казалось бы, столь далеких друг от друга событий — первого опыта воздухоплавания и открытия гипноза как врачебного средства».2 По мнению исследователя, обращение А. С. Пушкина к державинскому тексту в поисках исторического колорита для повести и точных «признаков времени» при описании спальни старой графини «представляется и естественным, и вполне закономерным»: в образную ткань оды на символическом уровне вписан и «шар Монгольфиера», и явление животного магнетизма.3
Однако стоит обратить внимание на то, что оба эти «знака эпохи» у Державина на смысловом уровне никак не выделены среди чрезвычайно разветвленной системы образов и сравнений. В тексте они расположены достаточно далеко друг от друга и внутренне не связаны между собой (счастье в одном случае уподобляется в оде «шару Монгольфиера», который «упадает куда случится», в другом — оно сравнивается с воздействием животного магнетизма4). Их специфический «французский» колорит в произведении, наполненном российскими реалиями (от «успехов российского оружия» до дровяных и сенных магазинов, учрежденных Екатериной), едва угадывается. В дополнение к сказанному отметим, что комментарии самого Державина на строки, в которых упоминается животный магнетизм, отсылают читателя к событиям в пределах местной географии — опытам с животным магнетизмом, имевшим место в Петербурге в 1786 году.5
Между тем очевидно, что интересующий нас отрывок «Пиковой дамы» призван на образном уровне закрепить «парижский след» в биографии старой графини. Как справедливо указывал Алексеев, «все вещи, украшавшие спальню, свидетельствовали прежде всего о Париже XVIII в.».6 В этой связи кажется более естественным и закономерным обратить внимание не на русский, а на французский круг возможных источников, которые могли послужить основой исторического колорита применительно к интересующему нас отрывку.
Одним из таких источников мы считаем сочинение известного французского журналиста, писателя, историка и антиквара Ж. Тушар-Лафоса «Летописи круглого окна», первое издание которого вышло в восьми томах в Париже в 1830–1832 годах.7 На протяжении всего XIX века эта книга, представляющая собрание исторических анекдотов из жизни королевского двора времен правления Людовика XIV, Людовика XV и Людовика XVI, пользовалась огромной популярностью у читателей, ее неоднократно переиздавали и переводили на иностранные языки. Можно найти ее и в каталогах библиотек современников Пушкина. Так, издание 1845 года обнаруживается, например, у В. Ф. Одоевского,8 а также в собрании книг графини А. С. Шереметевой.9 Возможно, имелось данное сочинение и у Пушкина. По крайней мере в каталоге, составленном Б. Л. Модзалевским, числится четвертый том первого издания.10
И полеты на аэростате братьев Монгольфье, и феномен животного магнетизма подробно представлены в «Летописях круглого окна» под соответствующими датами. Впервые о «чудесном средстве» доктора Месмера, которое вот уже несколько месяцев занимает умы «восторженных почитателей новизны», сообщается в третьей главе восьмого тома, где описаны события 1779–1781 годов (8, 296–297). В связи с «Пиковой дамой» любопытно отметить, что первый выход на сцену животного магнетизма происходит у Тушар-Лафоса на фоне карточной игры. С двух сторон отрывок обрамлен упоминаниями об увлечении двора азартными играми («Все теперь играют при дворе, даже Людовик XVI»;11 8, 293), об огромных проигрышах («Возвратимся к придворной игре: отмечу здесь для справки, что, желая уладить свои счеты с господином де Шалабром, граф д’Артуа заплатил ему сто тысяч экю наличными, а также дал обеспечение на пятнадцать тысяч годового дохода»; 8, 294) и о моде на игру в фараон («…в Версале или в Марли все крупно проигрываются в фараон, и вместо веселых развлечений процветает мошенничество в игре»; 8, 312).
В следующей, четвертой, главе восьмого тома помещен подробный рассказ со множеством деталей об удивительном изобретении братьев Монгольфье — аэростате — и опытах, которые проводились в городе Анноне, затем в Париже и в Версале (8, 352–356). Фрагмент заканчивается следующим пассажем: «В то время как я пишу, только и слышны разговоры, что об аэростатах; газеты полны статьями об этом открытии; оно вдохновляет поэтов всех мастей; только ему и воздают хвалу: все охвачены исступлением и восторгом» (8, 356). И наконец, в пятой главе, повествующей о событиях 1784–1786 годов, происходит знаменательная встреча двух громких «изобретений» своего времени: животный магнетизм и Монгольфьеров шар попадают в непосредственное соседство, их разделяет всего несколько абзацев.
Оба явления позиционируются в тексте как чрезвычайно популярные феномены, приковывающие к себе всеобщее внимание. Свое решение посетить модные магнетические сеансы придворная дама, от лица которой ведется повествование, объясняет нежеланием оказаться предметом насмешек, поскольку «признаться в том, что ты не видел заведения Месмера, изобретателя животного магнетизма, означает выставить себя в смешном свете» (8, 373). Далее, после развернутого описания магнетических процедур с применением знаменитого «баке», следует довольно неожиданное для общей игривой тональности сочинения заявление: «По правде говоря, нельзя не признать в этой таинственной силе некую неизвестную первопричину, подчиняющую себе природу: это необъяснимый феномен» (8, 375). Новый виток рассказа о полетах на воздушном шаре (в Версале и в Сен-Клу) также начинается с указания на огромный интерес публики к этому явлению: «Не могу не перейти к аэростатам, которыми двор и город заняты как никогда» (8, 380).
Таким образом, мы можем констатировать, что все три феномена — Монгольфьеров шар, Месмеров магнетизм и карточная игра, — которые позволили Алексееву увидеть в оде Державина «На счастье» один из вероятных источников «Пиковой дамы», присутствуют и в «Летописях круглого окна» Тушар-Лафоса, причем в значительно более развернутом виде и с более точной хронологией. В отличие от державинского стихотворения французское сочинение создает аутентичную картину придворной жизни Версаля конца XVIII века, в которую в качестве составляющей части вписаны и открытие Месмера, и изобретение братьев Монгольфье. Оценка обоих явлений, вложенная автором в уста вымышленной современницы, позволяет в итоге дать ответ на вопрос, почему «два, казалось бы, столь далеких друг от друга события» были введены Пушкиным в описание спальни графини как маркеры «французского контекста». Как указывают специальные исследования, во французской прессе 1780-х годов и в сознании современников полеты на аэростате и животный магнетизм шли рука об руку, нередко пересекаясь.12 Именно так они и предстают в «Летописях круглого окна».13
Дополнительным аргументом в пользу данного произведения как возможного источника французской составляющей «Пиковой дамы» служит, на наш взгляд, присутствие в этом сочинении еще одного крайне важного для пушкинского сюжета «символа эпохи». Мы имеем в виду графа Сен-Жермена. Хронологически он появляется в «Летописях…» несколько раньше рассказов об аэростатах и животном магнетизме, в двадцать второй главе шестого тома, где изложены практически все основные части его мифа (6, 310–326), однако тень этого таинственного персонажа осеняет и главу, повествующую о чудесных «изобретениях» начала 1780-х годов. Спустя несколько страниц после описания неудачного приземления герцога Шартрского и строк, посвященных философу Дидро, следует сообщение о смерти Сен-Жермена, «человека, долгое время вызывавшего восхищение у этой столицы своим непостижимым обаянием, роскошью и богатством, источник которых никому не был известен, а также искусством говорить о самых отдаленных временах таким образом, что суеверные люди были убеждены, что этот удивительный человек прожил не одно столетие» (8, 389).
Анализируя образ Сен-Жермена у Пушкина, В. Шмид, кроме записок Казановы, указывает еще два французских источника, из которых поэт мог почерпнуть информацию об этом историческом лице: мемуары мадам де Жанлис и воспоминания Ж.-Л. А. Кампан.14 Думается, данный список можно расширить, включив в него мемуары госпожи дю Оссэ15 и «Летописи круглого окна» Тушар-Лафоса. В книге последнего, помимо широко известных историй — о беседах Сен-Жермена с Людовиком XV, о восстановлении королевского бриллианта, о курьезном случае с мадам де Жержи, о феноменальных дарованиях графа в музыке, живописи, языках, — имеется упоминание и о его «связи с потусторонним миром», способности вступать в контакт с душами умерших и получать от них информацию (6, 324). В контексте «Пиковой дамы» этот отрывок представляется весьма интересным.
В связи с «Летописями…» несколько в ином свете предстает выстроенный Пушкиным ассоциативный ряд: «дамские игрушки» — «Монгольфьеров шар» — «Месмеров магнетизм». Существует мнение, что причастие «изобретенные», объединяющее все три понятия («…разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и Месмеровым магнетизмом»), дает как будто некоторое основание интерпретировать и магнетизм, и воздушный шар на уровне механических игрушек, своеобразных «развлечений для дам», а вовсе не серьезных научных открытий. Технический призвук, который неизбежно возникает в современном сознании при чтении данного отрывка, вкупе с устойчивым восприятием животного магнетизма как лженаучного явления, упорно подталкивает мысль в сторону негативных коннотаций. Так, О. Меерсон по поводу приведенной цитаты замечает: «Про Месмеров магнетизм сказано, что он был изобретен, а не открыт — то есть сам он дважды поставлен в контекст чего-то механического. Таким образом, Пушкин походя относит и шарлатанство к техническим изобретениям века Просвещения».16 Однако насколько правомерно подобное толкование применительно к пушкинскому тексту и словарю пушкинской эпохи?
Отчасти свет на этот вопрос проливает французский текст «Летописей круглого окна» и его русский перевод. Дважды в русском издании 1873–1875 годов Месмер назван изобретателем животного магнетизма.17 Однако в подлиннике это понятие выражено двумя разными, хотя и близкими по значению словами. В первом случае применительно к чудо-доктору употреблен термин более широкого семантического поля «auteur», который может переводиться не только как «автор», но и как «творец», «создатель» (8, 296); во втором — «inventeur» — «изобретатель», «автор», «создатель», «сочинитель» (8, 373). Согласно французским словарям, эти термины являются синонимами. Что же касается некоторого «технического» оттенка, который присутствует в слове «inventeur» и его русском эквиваленте «изобретатель», следует иметь в виду, что в конце XVIII — начале XIX века он был гораздо менее очевиден, нежели в наше время.
Например, О. де Бальзак, с уважением относившийся и к френологии Галля, и к физиогномике Лафатера, ни в коей мере не считавший эти науки шарлатанством, употребляет применительно к ним в «Луи Ламбере» причастие «inventées», которое переводится на русский как изобретенные.18 Ни механистического, ни технического призвука данное выражение в текст не привносит. Его использование, как можно понять из содержания всего пассажа в целом, связано, прежде всего, с мыслью о принадлежности целого ряда сверхчувственных явлений к области научного знания. В эту же сферу вписано у Бальзака и «открытие» («la découverte»)19 доктора Месмера, «важное и до сих пор еще недостаточно оцененное».20
Не делает большого различия между понятиями «открытие» — «изобретение» и словарь Даля. В нем последнее толкуется как «то, что изобретено, придумано, открыто», т. е. не только как «измысл или вымысел», но и как «открытие», как «умственная находка»; «изобретать» означает, среди прочего, «открывать что-либо новое», особенно «в науках, искусствах, ремеслах».21 Акцента на техническую сторону вопроса Даль не делает. Применительно к научной сфере понятие «изобретенье» у него фактически тождественно понятию «открытие».
На наш взгляд, именно в этом семантически нейтральном ключе следует понимать и пушкинскую ремарку о Монгольфьеровом шаре и Месмеровом магнетизме. Данная трактовка тем более правомерна, поскольку имеются неоспоримые свидетельства устойчивого интереса Пушкина к животному магнетизму.22 Достаточно вспомнить беседу поэта с А. А. Фукс, публикацию в «Литературной газете» заметки Д. М. Велланского23 в защиту Турчаниновой, а также высказывание А. А. Кононова.24 Небезынтересно отметить, что все три указания о вовлеченности Пушкина в круг магнетических тем относятся к самому началу 1830-х годов, ко времени, близкому к написанию «Пиковой дамы». Если верить воспоминаниям Фукс, Пушкин буквально въезжал во вторую болдинскую осень на волне мистических настроений, которые применительно к его мировоззрению больше принято именовать «суевериями». В продолжение всего ужина, как отмечает мемуаристка, по инициативе поэта за столом велся разговор о проблемах, абсолютно чуждых и неинтересных хозяевам дома: о животном магнетизме, «о посещении духов, о предсказаниях и о многом, касающемся суеверия».25 Очевидно, что уже в это время творческое воображение Пушкина активно осваивало сферу «таинственного», продвигаясь в направлении «Медного всадника» и «Пиковой дамы».
По-видимому, неслучайно в сентябре 1833 года животный магнетизм в беседе с четой Фукс оказался в центре внимания. Как известно, в «Пиковой даме» его присутствие не ограничивается историческим контекстом. В отличие от дамских игрушек и Монгольфьерова шара он неоднократно «срабатывает» в повести на уровне сюжета. Под магнетическое воздействие попадает не только Лизавета Ивановна, чувствительная барышня, начитавшаяся сентиментальных романов (в роли импровизированного магнетизера здесь выступает Германн, «часами пристально, не отрываясь смотрящий в окно Лизаветы Ивановны, своими черными глазами…»), но и главный герой, человек рационального склада, инженер по образованию, который сам буквально «загипнотизирован анекдотом Томского».26 При этом, думается, профессия Германна отнюдь не является залогом его трезвого отношения к сверхчувственной сфере бытия. Среди современников Пушкина далеко не все представители точных наук считали животный магнетизм шарлатанством и обманом. Открыто в защиту феномена сомнамбулизма выступал, например, Матвей Степанович Волков (1802–1875 (1878?))27 — военный инженер, экономист, видный ученый, профессор по курсу строительной механики, автор так понравившейся Пушкину статьи о пользе железных дорог. Если прав Алексеев и Германн действительно учился в Петербургском институте путей сообщения, то его сродство с Волковым оказывается еще более разительным: они фактически являются выпускниками одного учебного заведения.28
Подводя итог, хотелось бы обратить внимание еще на одну, чрезвычайно важную в связи с разговором об историческом контексте «Пиковой дамы» черту сочинения Тушар-Лафоса — компилятивность. При создании «Летописей…» автором были использованы многочисленные исторические источники: мемуарная литература, архивные материалы, письма, рассказы очевидцев. Таким образом, во многом данная книга является отражением характерных взглядов читающей публики на несколько веков придворной жизни Франции. И в этом смысле она, безусловно, значима, когда речь идет о попытке реконструкции представлений Пушкина о французских реалиях конца XVIII века. В принципе, расширение круга возможных источников «Пиковой дамы» за счет французской мемуарной и псевдомемуарной литературы, на наш взгляд, позволяет в ряде случаев внести определенные коррективы в трактовку как отдельных фрагментов, так и общих знаковых систем повести, формирующих на уровне символов семантическое поле текста. В частности, сопоставление пассажа, в котором присутствуют в качестве «символов эпохи» Монгольфьеров шар и Месмеров магнетизм, с соответствующими местами из известной книги Тушар-Лафоса «Летописи круглого окна» дает основания для переосмысления роли и места феномена животного магнетизма в творческой лаборатории Пушкина.
1 Алексеев М. П. Пушкин и наука его времени (Разыскания и этюды) // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 9–125.
2 Алексеев М. П. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Л., 1984. С. 116.
3 Там же. С. 117.
4 Державин Г. Р. Соч. / С объяснительными прим. [и предисловием] Я. Грота: В 9 т. СПб., 1864–1883. Т. 1. С. 255, 245.
5 См.: [Державин Г. Р.]. Объяснения на сочинения Державина, им самим диктованные родной его племяннице, Елисавете Николаевне Львовой в 1809 году, изданные Ф. П. Львовым: В 4 ч. СПб., 1834. Ч. 1. С. 20.
6 Алексеев М. П. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. С. 116.
7 [Touchard-Lafosse G.]. Chroniques pittoresques et critiques de l’Œil-de-Bœuf, des Petits Appartements de la Cour et des Salons de Paris, sous Louis XIV, la Régence, Louis XV et Louis XVI / Publiées par M-me la Comtesse Douairière de B***: En 8 vol. Paris, 1830–1832. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте сокращенно, с указанием номера тома и страницы.
8 Каталог библиотеки В. Ф. Одоевского. М., 1988. С. 458.
9 Библиотека графа С. Д. Шереметева: В 2 т. СПб., 1892. Т. 2. С. 60.
10 Модзалевский Б. Л. Каталог библиотеки <А. С. Пушкина> // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. СПб., 1910. Вып. 9/10. С. 194.
11 Здесь и далее перевод с французского сделан Е. А. Романовой.
12 См.: Дарнтон Р. Месмеризм и конец эпохи Просвещения во Франции. М., 2021. С. 17–52.
13 Наглядным примером внутренней сопряженности этих двух явлений в сознании французов, современников Пушкина, может служить пассаж из воспоминаний А. Дюма, в котором, пытаясь дать определение животному магнетизму, известный романист, много раз сам присутствовавший на магнетических сеансах, сравнивает его с аэростатами (Dumas A. Mes mémoires. Montréal, 2012. T. 3. P. 413).
14 Шмид В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении: «Повести Белкина» и «Пиковая дама» / Пер. с нем. А. И. Жеребина (I и II части). 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2013. С. 318–319.
15 Эта книга, судя по каталогу Модзалевского, имелась в библиотеке Пушкина: [Hausset N. du]. Mémoires de Madame du Hausset, Femme de Chambre de Madame de Pompadour / Avec des notes et des éclaircissemens historiques. Paris, 1824. Любопытно, что точно так же, как старая графиня у Пушкина, реагировал, по свидетельству госпожи дю Оссэ, на нелицеприятные замечания в адрес Сен-Жермена и Людовик XV: «Король не терпел, чтобы о нем говорили с презрением и насмешкой» (Ibid. P. 152).
16 Меерсон О. А. Персонализм как поэтика: литературный мир глазами его обитателей. СПб., 2009. С. 213–214.
17 Тушар-Лафос Ж. Летописи круглого окна: хроника частных апартаментов двора и гостиных Парижа при Людовике XIII, Людовике XIV, Регентстве, Людовике XV и Людовике XVI: [В 4 т.]. СПб., 1875 (обл. 1876). Т. 4. С. 311, 343.
18 Balzac H. de. Histoire intellectuelle de Louis Lambert. Paris, 1832. P. 134; Бальзак О. де. Собр. соч.: В 24 т. М., 1960. Т. 19. С. 252.
19 Здесь стоит обратить внимание также на то, что в современном переводе романа О. де Бальзака «Урсула Мируэ» слово «la découverte» переводится и как «открытие», и как «изобретение», что определенно указывает на семантическую близость этих двух понятий в русской языковой практике: «Открыв феномен магнетизма, Месмер приехал во Францию, куда с незапамятных времен являются все изобретатели, желающие, чтобы их открытия получили права гражданства во всем мире»; «Впрочем, этот немец имел несчастье сам погубить свое замечательное изобретение, выказав необузданное корыстолюбие» (Бальзак О. де. Урсула Мируэ; Воспоминания двух юных жен / Пер. с фр.; [предисловие А. Пузикова; комм. В. Мильчиной]. М., 1989. С. 76, 77). Ср. оригинал: «Après avoir retrouvé le magnétisme, Mesmer vint en France, où depuis un temps immémorial les inventeurs accourent faire légitimer leurs découvertes»; «Mais, disons-le, cet Allemand compromit malheureusement sa magnifique découverte par d’énormes prétentions pécuniaires» (Balzac H. de. Œuvres complètes: en 24 v. Paris, 1869–1879. Vol. 5. P. 52, 53; курсив наш. — Н. П., Е. Р.).
20 Бальзак О. де. Собр. соч. Т. 19. С. 252.
21 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 ч. М., 1863–1866. Ч. 2. С. 653.
22 Эта тема достаточно подробно освещена в книге: Громбах С. М. Пушкин и медицина его времени. М., 1989. С. 100–151.
23 Велланский Д. Замечание на статью литературного Французского журнала: Le Furet // Литературная газета, издаваемая бароном Дельвигом. 1830. 17 марта. № 16. С. 128.
24 По мемуарному свидетельству А. А. Кононова, Пушкин на одной из московских встреч в самом начале 1830-х годов «много говорил о Турчаниновой, которая тогда удивляла всех своим глазным магнетизмом; он сказывал, что она готовит о том сочинение» ([Кононов А. А.]. Из записок // Библиографические записки. 1859. Т. 2. № 10. Стб. 308).
25 Фукс А. А. А. С. Пушкин в Казани // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 258.
26 Шмид В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении. С. 314.
27 О животном магнетизме Волков писал неоднократно. См. его статью: Животный магнетизм. Магнитологические представления в Баден-Бадене, в июле 1844 года // Отечественные записки. 1845. Т. 38. С. 39–61; а также книгу: Волков М. С. Отрывки из заграничных писем (1844–1848). СПб., 1857. С. 80–81; 85–88; 91–92; 224–225 и др.
28 Волков окончил Институт в 1821 году, позже являлся его преподавателем (см. об этом: Виргинский В. С. Начало железнодорожного дела в России: до 40-х годов XIX века. М., 1949. С. 16).
About the authors
Nadezhda A. Parshukova
Author for correspondence.
Email: iverskaya-nad@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-7026-3856
Independent Researcher
Russian FederationElena A. Romanova
Email: zerlina@inbox.ru
ORCID iD: 0000-0002-6162-1383
Independent Researcher
Russian FederationReferences
- Alekseev M. P. Pushkin i nauka ego vremeni (Razyskaniia i etiudy) // Pushkin: Issledovaniia i materialy. M.; L., 1956. T. 1.
- Alekseev M. P. Pushkin: Sravnitel’no-istoricheskie issledovaniia. L., 1984.
- Bal’zak O. de. Sobr. soch.: V 24 t. M., 1960. T. 19.
- Bal’zak O. de. Ursula Mirue; Vospominaniia dvukh iunykh zhen / Per. s fr.; [predislovie A. Puzikova; komm. V. Mil’chinoi]. M., 1989.
- Darnton R. Mesmerizm i konets epokhi Prosveshcheniia vo Frantsii. M., 2021.
- Dumas A. Mes mémoires. Montréal, 2012. T. 3.
- Fuks A. A. A. S. Pushkin v Kazani // A. S. Pushkin v vospominaniiakh sovremennikov: V 2 t. M., 1985. T. 2.
- Grombakh S. M. Pushkin i meditsina ego vremeni. M., 1989.
- Katalog biblioteki V. F. Odoevskogo. M., 1988.
- Meerson O. A. Personalizm kak poetika: literaturnyi mir glazami ego obitatelei. SPb., 2009.
- Shmid V. Proza Pushkina v poeticheskom prochtenii: «Povesti Belkina» i «Pikovaia dama» / Per. s nem. A. I. Zherebina (I i II chasti). 2-e izd., ispr. i dop. SPb., 2013.
- Virginskii V. S. Nachalo zheleznodorozhnogo dela v Rossii: do 40-kh godov XIX veka. M., 1949.