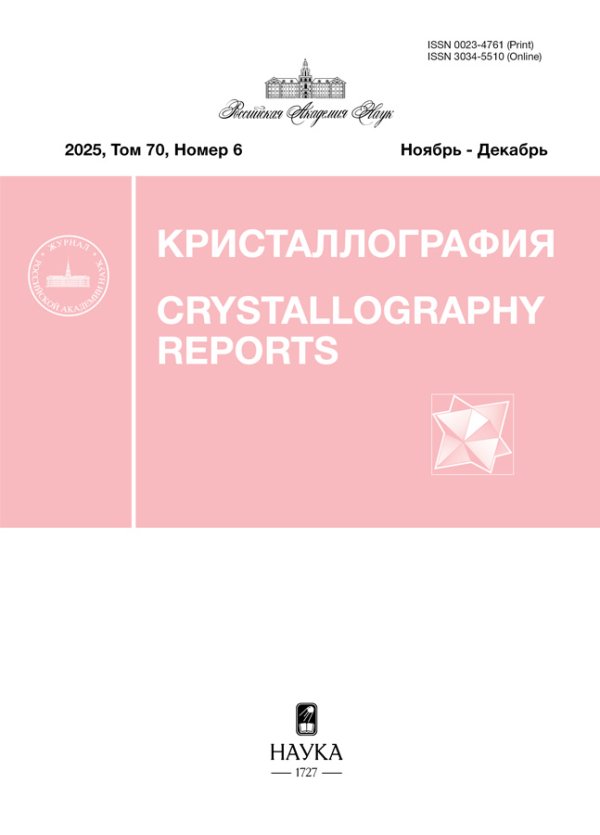Микрофлюидный синтез гибридных микрочастиц карбоната кальция, модифицированных наночастицами серебра
- Авторы: Ермаков А.В.1, Чапек С.В.2, Ленгерт Е.В.1, Конарев П.В.3, Волков В.В.3, Солдатов М.А.2, Трушина Д.Б.1,3
-
Учреждения:
- Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
- Южный федеральный университет
- НИЦ “Курчатовский институт”
- Выпуск: Том 69, № 4 (2024)
- Страницы: 685-693
- Раздел: НАНОМАТЕРИАЛЫ, КЕРАМИКА
- URL: https://bakhtiniada.ru/0023-4761/article/view/264433
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023476124040155
- EDN: https://elibrary.ru/XBWSAF
- ID: 264433
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Разработка передовых методов синтеза нано- и микрочастиц для задач биомедицины вызывает значительный интерес. Предложен метод синтеза субмикронных частиц карбоната кальция с серебряной оболочкой с помощью микрофлюидного чипа, предназначенного для обеспечения контроля над формированием частиц. Точное управление параметрами реакции дает возможность контролируемым образом формировать серебряную оболочку и частицы карбоната кальция. Анализ распределения пор внутри гибридных частиц проведен методом малоуглового рассеяния рентгеновских лучей, что позволило получить представление о сложной структуре пор. Полученные результаты дают информацию о морфологии частиц и могут способствовать разработке новых материалов на основе карбоната кальция для различных применений.
Полный текст
Введение
В последние годы достигнут значительный прогресс в развитии методологии синтеза материалов, предназначенных для систем доставки лекарств [1–5]. На переднем крае научных достижений лежит растущая потребность в производстве многофункциональных носителей для доставки лекарств. Эти носители требуют особой конфигурации структур, таких как структуры ядро–оболочка и многокомпонентные конфигурации. Такие частицы могут одновременно выполнять несколько функций, включая пролонгацию циркуляции в кровотоке, усиление удержания частиц в патологически измененных сосудах и специфическую интернализацию [6–8]. Подобные свойства необходимы для обеспечения эффективной терапии даже на уровне отдельных клеток [9–11].
Перспективной представляется стратегия совершенствования процедур синтеза, которая предполагает использование микрофлюидных технологий, открывающих новые возможности для синтеза и анализа наноструктурированных материалов [12, 13]. Ключевым преимуществом является возможность достижения унифицированных условий реакции, что проблематично в объемных процессах. Кроме того, возможно одновременное проведение анализа in situ с использованием различных методов. Появление междисциплинарных технологий, основанных на микрофлюидике, произвело революцию в концепции устройств “лаборатория на чипе”, предоставив уникальный подход к созданию нано- и микрочастиц [14–16]. Микрофлюидные чипы позволяют создавать однородные капли, максимально увеличивая отношение площади поверхности к объему, в котором проходит реакция, для повышения эффективности кинетики реакции. Такая конструктивная особенность обеспечивает быстрый массоперенос внутри микрореакторов (капель), облегчая взаимодействие между компонентами реакции [17].
Среди материалов, привлекающих значительное внимание в области разработки систем капсулирования и доставки биологически активных веществ, можно отметить карбонат кальция (CaCO3). Его потенциал может быть реализован в разных задачах от трансдермальной доставки до терапии рака [18, 19]. Пористая структура и отличная биосовместимость обеспечивают перспективы применения карбоната кальция в качестве носителя тераностических агентов. Эти свойства обусловлены процессом синтеза карбоната кальция, включающего в себя объединение многочисленных зародышей, что приводит к образованию пористой структуры.
Частицы карбоната кальция в полиморфной модификации ватерита, размер которых варьируется от нескольких сотен нанометров до нескольких микрометров, продемонстрировали высокую загрузочную способность. Они позволяют вмещать большие дозы лекарств, сохраняя при этом биосовместимость частиц и способствуя безопасному долгосрочному хранению загруженных лекарств [19, 20]. Эти свойства наряду с малым средним размером и сферической формой частиц являются решающими факторами с точки зрения доставки лекарств. Различные исследования показали многообещающие характеристики и успешные доклинические результаты использования частиц карбоната кальция для доставки лекарств [21, 22]. Несколько ключевых факторов, таких как электрокинетический потенциал частиц, их загрузочная способность и биосовместимость, особенно влияют на эффективность карбоната кальция как носителя лекарств [23].
Последние достижения в области микроносителей на основе CaCO3 открыли возможности для разработки систем трансдермальной доставки антимикотиков [24], противомикробных препаратов [25, 26], многофункциональных белков [27] и ферментов [28] с широким спектром применений [2]. Наряду со стратегиями загрузки частиц ватерита функциональными соединениями синтез структур ядро–оболочка является еще одной перспективной областью для разработки. Были созданы различные микроносители на основе CaCO3, в том числе использующие карбонат кальция в качестве функционального ядра [29], или полые капсулы с возможностью удаления ядра [30].
В данном исследовании представлен подход, в котором использованы возможности капельного метода в микрофлюидном устройстве, изготовленном с помощью 3D-печати. Основной целью являлось применение этой методологии для синтеза гибридных субмикронных частиц ватерита с серебряной оболочкой CaCO3@Ag. Основное внимание в работе сосредоточено на оценке потенциальной применимости полученных частиц в качестве носителей лекарств. Чтобы всесторонне оценить полезность гибридных частиц в данном контексте, были тщательно проанализированы их свойства, включая размер пор, нагрузочную способность и антибактериальную активность.
Экспериментальная часть
Материалы и реактивы. В работе использовали следующие реактивы: хлорид кальция (CaCl2), карбонат натрия (Na2CO3), касторовое масло, этиленгликоль, бычий сывороточный альбумин (БСА, 66 кДа), нитрат серебра (AgNO3), тетраметилродамин (ТРИТЦ), гексан, изопропиловый спирт, этанол производства Sigma-Aldrich (Германия); глюкоза (C6H12O6) (5%-ный раствор) производства ThermoFisher Scientific (США). В экспериментах использовали деионизированную воду с удельным сопротивлением более 18.2 МОм/см, очищенную с помощью системы Milli-Q Plus (Millipore, США).
Дизайн и изготовление микрофлюидного устройства. Разработка и производство 3D-печатных микрофлюидных чипов показаны в [31]. Топология устройства была спроектирована с использованием системы автоматизированного проектирования (САПР-системы) Fusion 360 (Autodesk, США) и адаптирована для синтеза частиц карбоната кальция путем формирования капель водных растворов солей в касторовом масле [32]. Топология микрофлюидного устройства представлена на рис. 1. Микрореакторы формируются на границе раздела двухфазной системы: касторового масла (вход 1) и водных растворов двух реагентов (входы 2, 3). Размер 200 × 200 мкм был установлен для основных входных каналов, а каналы 400 × 200 мкм использовали для зон реакции и хранения.
Рис. 1. Топология микрофлюидного устройства (1 – вход транспортной фазы, 2 – реагент 1, 3 – реагент 2, 4 – зона реакции, 5 – камера хранения капель, 6 – выход, 7 – общий вид).
3D-принтер MAX UV (Asiga, Сидней, Австралия) использовали для печати микрофлюидного устройства с использованием технологии DLP (Digital Light Processing). Протоколы, опубликованные в [33], были адаптированы для улучшения печати и отделения модели от платформы после печати. Фотополимерную смолу Nano Clear (FunToDo, Нидерланды) использовали при температуре 50°C в процессе формирования слоя. Cразу после печати микрофлюидное устройство промывали изопропиловым спиртом. На последнем этапе чипы подвергали обработке в течение 5 мин с использованием лампы УФ-излучения (типа Flash DR-301C, Asiga, Австралия, Сидней).
Синтез CaCO3 и CaCO3@Ag в микрофлюидном устройстве. Для исследования синтеза карбоната кальция в одиночных каплях провели эксперименты с использованием микрофлюидного устройства (рис. 2). Для кристаллизации карбоната кальция через два входа микрофлюидного устройства подавали небольшие объемы эквимолярных 1 М растворов хлорида кальция и карбоната натрия со скоростью потока 0.3 мл/ч. Растворы солей смешивали в двух экспериментальных режимах: индивидуального использования в виде чистых растворов; их совместного использования с 0.1 М AgNO3 и избыточным количеством NH4OH. Для образования капель использовали систему фокусировки водного потока касторовым маслом со скоростью потока 0.5 мл/ч. Далее образовавшиеся частицы вместе с Ag(NH3)2OH обрабатывали раствором 5%-ной глюкозы при одновременном нагреве всего чипа до 40°C. Продукты реакции собирали на выходе из чипа и быстро переносили в эппендорф объемом 2 мл с последующими несколькими циклами промывки гексаном и этанолом. После промывки этанолом и сушки на воздухе получили сухие порошки частиц.
Рис. 2. Микрофотография плоскости микрофлюидного чипа при формировании капель CaCl2/Na2CO3 в касторовом масле с добавлением 0.1 М AgNO3 и избыточного количества NH4OH с последующей промывкой 5%-ной глюкозой (C6H12O6).
Кроме того, провели контрольные эксперименты, в которых карбонат кальция осаждался в объемной фазе. Для создания контрольного образца CaCO3 использовали методику, подробно изученную в [34]. Для этой цели применяли модифицированный протокол, предполагающий синтез сферических микрочастиц CaCO3 с пористой структурой. Для этого 0.5 мл 0.5 М раствора CaCl2 и 0.5 мл 0.5 М раствора Na2CO3 вводили в вязкую среду (многоатомный спирт), содержащую 4 мл этиленгликоля, в лабораторной стеклянной посуде объемом 25 мл. Затем смесь подвергали перемешиванию с использованием стандартного магнитного якоря длиной 1 см на магнитной мешалке со скоростью вращения 500 об./мин. После двух часов перемешивания полученную суспензию отделяли центрифугированием и дважды промывали водой и спиртом.
Загрузка частиц CaCO3 модельным соединением. Для синтеза модельного конъюгата раствор ТРИТЦ (1 мг) тщательно растворяли в 5 мл этанола. Полученный раствор ТРИТЦ добавляли к раствору БСА (20 мл, 4 мг/мл, карбонат-бикарбонатный буфер, pH 8.5) и непрерывно перемешивали в течение 12 ч при 4°C. Впоследствии раствор ТРИТЦ–БСА подвергали диализу против деионизированной воды в течение четырех дней для удаления остаточных реагентов. Загрузка микрочастиц CaCO3 была достигнута путем замораживания суспензии в присутствии целевого соединения по методике, описанной в [11]. Для этого к 10 мг частиц CaCO3 добавляли 2 мл раствора ТРИТЦ–БСА, смесь помещали в микроцентрифужную пробирку и инкубировали в морозильной камере при –17°C 2 ч, медленно перемешивая. После этого образцы размораживали при комнатной температуре, тщательно промывали и сушили в сушильном шкафу. Цикл замораживания/оттаивания повторяли 3 раза. Также загрузку осуществляли с использованием метода соосаждения, при котором инкапсулированное вещество вводили во время синтеза частиц карбоната кальция. Этот метод загрузки был реализован либо в микрофлюидном чипе, либо в объемной фазе.
Противомикробную активность частиц CaCO3@Ag в отношении штамма кишечной палочки (Escherichia coli) оценивали с использованием модифицированного метода определения минимальной ингибирующей концентрации. Для обеспечения статистической значимости эксперименты проводили в трех повторениях. Штамм E. coli, использованный в исследовании, был выращен и предоставлен Саратовским институтом травматологии и ортопедии (Саратов, Россия). В каждом эксперименте 300 мкл суспензий, содержащих микроорганизмы в концентрации 3 × 105 клеток/мл, смешивали с различными концентрациями суспензий – от 1 до 15 исследуемых частиц на бактериальную клетку. Смеси инкубировали в течение 60 мин. После инкубации по 100 мкл каждой светообработанной суспензии инокулировали на поверхность питательной среды – агара, полученного из 20 мл стерильной 1.5%-ной среды агара, затвердевшей в чашках Петри. Затем чашки Петри инкубировали при 37°C в течение 24 ч, чтобы обеспечить рост отдельных бактериальных колоний на поверхности твердой среды. Первоначальные концентрации клеток в суспензиях корректировали, чтобы предотвратить сплошной рост. В качестве отрицательного контроля использовали образцы бактерий, культивированные в тех же условиях без добавления суспензии исследуемых частиц. Альтернативно для проверки результатов антибактериальную активность частиц гибридного ватерита с оболочками из серебра измеряли с использованием стандартного метода минимальной ингибирующей концентрации.
Физико-химические методы исследования. Анализ размера, формы и морфологии поверхности частиц проводили на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) Jeol 7401F (JEOL, Акишима, Япония). Для этого водную суспензию частиц карбоната кальция наносили на кремниевую пластину, СЭМ-изображения были получены с помощью нижнего детектора вторичных электронов при ускоряющем напряжении 1 кВ и рабочем расстоянии 8–9 мм.
Для определения концентрации модельного соединения в образцах проводили спектроскопические измерения с использованием микропланшетного ридера Infinite 200 PRO (Tecan, Швейцария). Интенсивность флуоресценции определяли количественно и сравнивали с заранее построенной калибровочной прямой для расчета концентрации. Загрузку частиц в массовых процентах рассчитывали как отношение массы включенного вещества к массе частиц.
Гидродинамический размер частиц в водной суспензии определяли методом динамического рассеяния света (ДРС) с помощью автоматического анализатора ZetasizerNano-ZS (Malvern, Великобритания).
Для измерений методом малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР) использовали автоматический дифрактометр «АМУР-К» (Институт кристаллографии, Москва, Россия). Дифрактометр оснащен коллимационной системой “Кратки” и однокоординатным позиционно-чувствительным детектором газа ОД-3М. Измерения МУРР проводили при фиксированной длине волны λ = 0.1542 нм, обеспечивающей диапазон передачи импульса от 0.11 до 10.0 нм–1. Образцы порошков CaCO3 измеряли в специально сконструированной кювете с майларовыми окнами толщиной 15 мкм, помещенной в вакуумную камеру. Расстояние от образца до детектора составляло 700 мм, время экспозиции – 10 мин. Коллимационные искажения корректировали по стандартным методикам, а сигнал рассеяния от пустой кюветы вычитали из интенсивности рассеяния образца с помощью программы PRIMUS из программного пакета ATSAS. Для расчета распределения пор/частиц по размерам в предположении, что они имеют сферическую форму, было использовано параметрическое моделирование распределения по размерам, состоящее из суперпозиции гладких аналитических функций распределения Шульца (программа MIXTURE из пакета ATSAS). Метод нелинейной минимизации использовали для определения положений, полуширин и относительных вкладов функций распределения. Оптимальные стартовые приближения для программы MIXTURE оценивали с использованием двух альтернативных подходов: линейного метода наименьших квадратов с использованием косвенного преобразования Фурье регуляризацией решения по Тихонову для непосредственного поиска распределения пор/частиц по размерам (программа GNOM из пакета ATSAS); на основе гистограммы произвольной формы для непосредственного поиска распределения пор/частиц по размерам (программа VOLDIS).
Результаты и их обсуждение
Основываясь на литературных данных о возможности синтеза частиц карбоната кальция с использованием микрофлюидного чипа, оптимизировали параметры чипа для проведения синтеза [35, 36]. Контролируемый рост частиц карбоната кальция может быть достигнут путем смешивания солей хлорида кальция и карбоната натрия в небольших ограниченных объемах капель, тем самым ограничивая доступный ресурс для кристаллизации. Сочетание AgNO3 и NH4OH при соосаждении приводит к образованию комплекса Ag(NH3)2NO3, который проникает в частицы карбоната кальция, возникающие в процессе кристаллизации:
(1)
Для дальнейшего восстановления серебра, особенно на поверхности частиц и в непосредственной близости от стенок пор, использовали глюкозу. Этот дополнительный этап облегчает процесс восстановления и способствует включению наночастиц (НЧ) Ag в частицы карбоната кальция:
(2)
СЭМ-изображения на рис. 3 визуализируют частицы карбоната, полученные при микрофлюидном синтезе, а также при синтезе в колбе большого объема с использованием этиленгликоля. Результаты СЭМ и ДРС (рис. 4) показывают, что средний размер частиц, синтезированных в чипе, составляет ~650 нм, а метод объемного синтеза позволил получить частицы с минимальным размером ~900 нм. Кроме того, СЭМ-изображения отчетливо демонстрируют изменение морфологии частиц после процесса восстановления серебра. Дополнительно было проведено исследование образца методом СЭМ в режиме обратного рассеяния электронов для определения присутствия тяжелых элементов на поверхности частиц карбоната кальция, включая серебро. На рис. 3в показано объединенное СЭМ-изображение, где светлые области соответствуют областям, которые демонстрируют контрастные характеристики в режиме обратного рассеяния электронов.
Рис. 3. СЭМ-изображения частиц CaCO3, синтезированных в объемной фазе с использованием этиленгликоля (а), и гибридных частиц CaCO3@Ag, синтезированных капельным методом с использованием микрофлюидного устройства, в стандартном режиме (б) и в сочетании с режимом рассеяния обратных электронов (в).
Рис. 4. Результаты ДРС по распределению частиц CaCO3, синтезированных в объемной фазе с использованием этиленгликоля, и гибридных частиц CaCO3@Ag, синтезированных капельным методом с использованием микрофлюидного устройства.
Согласно [37, 38] включение НЧ серебра и золота позволяет эффективно усиливать сигнал комбинационного рассеяния света (КРС). Это дает возможность с помощью спектроскопии КРС обнаруживать вещества, присутствующие в среде в сверхнизких концентрациях. Сочетание терапевтического (антибактериального) свойства НЧ Ag с возможностью их применения для диагностических целей (обнаружения мельчайших количеств различных химических агентов) открывает перспективы создания многофункционального носителя для тераностики. Использование системы ядро–оболочка с НЧ Ag в оболочке позволит как усилить ингибирующее действие на микроорганизмы, как и повысить эффективность диагностики за счет большей площади взаимодействия с микроорганизмами и анализируемой средой.
Полученные образцы были проанализированы методом МУРР (рис. 5). Исходя из предположения сферической формы пор субмикронные частицы ватерита, синтезированные в объемных условиях, демонстрировали распределение радиусов пор по размерам в диапазоне от 3 до 40 нм. Для таких частиц характерно содержание пор как размером в несколько нанометров, так и в несколько десятков нанометров с максимальным радиусом в диапазоне 15–25 нм [23, 38]. Интерпретация данных МУРР в случае образца CaCO3@Ag становится неоднозначной, что связано с наличием рассеивающих неоднородностей двух типов – пор и самих НЧ Ag. Интенсивность и форма кривой не зависят от знака контраста в соответствии с принципом Бабине [39]. Таким образом, сложно отличить рассеяние от пор (с отрицательным контрастом по отношению к плотности матрицы) и от НЧ (с положительным контрастом). Образование и рост НЧ в небольшом объеме в присутствии карбоната кальция могут привести к различным результатам. CaCO3 может выступать в качестве матрицы для роста НЧ Ag, тем самым увеличивая интенсивность рассеяния в диапазоне размеров, соответствующем размерам пор. Однако, судя по кривым распределения Dv(r) на рис. 5б, можно сделать заключение, что имеет место другой механизм. Вероятно, увеличение “хвоста” функции распределения по размерам в диапазоне радиусов от 25 до 40 нм вызвано образованием агрегатов серебра на поверхности частиц CaCO3. Вклад НЧ Ag на этом участке кривой увеличивается, поскольку они имеют тенденцию оседать на неровностях поверхности частиц CaCO3. При этом в диапазоне размеров от 5 до 25 нм распределение становится более равномерным, поскольку выделенные пики при 7.5 и 16 нм сглаживаются. Это может быть связано с внедрением НЧ Ag в образующиеся поры CaCO3. Напротив, кривая распределения CaCO3@Ag имеет более гладкую форму без выраженных пиков, аналогичную случаю, когда НЧ Ag растут в присутствии наноструктурированной поверхности [41]. Реакция серебряного зеркала (2) приводит к образованию полидисперсных НЧ Ag с относительно однородным распределением размеров, что соответствует наблюдениям на СЭМ (рис. 3). В [42] было показано, что формирование оболочки из НЧ на поверхности частиц карбоната кальция методом заморозки растворителя не влияет на их полиморфную композицию и не приводит к перекристаллизации частиц ватерита и увеличению содержания фазы кальцита. Это позволяет сохранить пористость частиц и благоприятно сказывается на их загрузочной способности.
Рис. 5. Экспериментальные кривые МУРР (а) и функции распределений Dv(r) (б) для CaCO3, синтезированного в объемной фазе и внутри микрофлюидного чипа при формировании НЧ Ag.
Эффективность загрузки. Процедура загрузки включала в себя циклическое замораживание суспензии частиц с погружением в раствор ТРИТЦ–БСА. Затем частицы отделяли от раствора центрифугированием и полученную жидкость собирали для спектрофотометрической оценки концентрации модельного вещества. Анализ экспериментальных данных выявил заметные различия в загрузочной способности гибридных частиц ватерита CaCO3@Ag, синтезированных в микрофлюидном чипе, и контрольной группы частиц, полученных методом объемного синтеза. В частности, частицы ватерита, синтезированные с помощью микрофлюидного устройства, продемонстрировали загрузочную способность ~11 мас. %, в то время как объемные частицы ватерита имели загрузочную способность только 9 мас. %. Различие в загрузочной емкости, вероятно, связано с тем, что частицы, полученные с помощью микрофлюидного устройства, имеют поверхность с большей площадью, повышенную пористость и меньший размер. Эти характеристики способствуют усилению взаимодействия и абсорбции конъюгата ТРИТЦ–БСА. Результаты подчеркивают преимущества использования микрофлюидного устройства для синтеза частиц с высокой загрузочной способностью.
Антибактериальные свойства CaCO3@Ag. Наночастицы серебра широко известны своими антибактериальными свойствами. Одним из механизмов антибактериальной активности НЧ Ag является их возможность при контакте с бактериальной клеткой высвобождать положительно заряженные ионы серебра (Ag+), которые обладают высокой реакционной способностью и нарушают целостность клеточной стенки бактерий. Гибридные частицы CaCO3@Ag также должны обладать антибактериальной активностью, несмотря на, вероятно, сниженное взаимодействие НЧ Ag в сравнении с их высокодисперсными суспензиями. Ионы серебра могут проникать через клеточную мембрану, что приводит к нарушению основных функций клеточных компонентов, включая белки и нуклеиновые кислоты. Это нарушение подавляет важнейшие клеточные процессы и препятствует росту бактерий, что в конечном итоге приводит к их гибели. Кроме того, специфические физико-химические свойства НЧ Ag в значительной степени способствуют их антибактериальной активности.
На основании результатов, полученных методом минимальной ингибирующей концентрации, было обнаружено, что суспензия частиц гибридного ватерита в концентрации, превышающей 15 частиц на бактериальную клетку, полностью подавляет рост бактерий (рис. 6а). Кроме того, был применен модифицированный метод оценки, заключающийся в инкубации суспензии бактерий с частицами с последующим нанесением инкубированной суспензии на поверхность питательной среды (агара) и анализом количества колоний. Концентрацию бактериальной суспензии тщательно подбирали, чтобы предотвратить непрерывный рост (рис. 6б, 6в). Так, среднее количество колоний в отсутствие частиц CaCO3@Ag принимали за 100%-ную выживаемость. График на рис. 6г иллюстрирует связь между выживаемостью бактерий и концентрацией частиц. Оценка по этому графику позволила определить минимальную ингибирующую концентрацию, которая попадает в диапазон 12–15 частиц на клетку. Эти результаты соответствуют стандартному подходу, обычно используемому в аналогичных исследованиях.
Рис. 6. Антибактериальная активность частиц гибридного ватерита CaCO3@Ag по стандартному методу минимальной ингибирующей концентрации (а) и модифицированному методу: б – контроль, в – частицы в концентрации 10 частиц на клетку; а также жизнеспособность бактериальных клеток в зависимости от количества гибридных частиц CaCO3@Ag, добавленных в культуральную среду (г).
Заключение
Представлен новый подход к синтезу гибридных частиц карбоната кальция, модифицированных НЧ Ag с использованием микрофлюидного устройства. Синтезированные частицы были охарактеризованы методами СЭМ и ДРС, которые показали их успешное формирование, различие в морфологии и наличие НЧ Ag, распределенных по поверхности ватерита. Эти результаты демонстрируют принципиальную возможность получения гибридных функциональных субмикронных частиц CaCO3@Ag в ходе кристаллизации в микрообъемах и открывают новые возможности для управления параметрами подобных систем. Кроме того, разработанный подход имеет такие преимущества, как масштабируемость и воспроизводимость синтеза. Результаты показали, что синтезированные в микрообъемах частицы проявляют значительное увеличение нагрузочной способности – примерно 11 мас. % по сравнению с 9% для контрольного образца. Анализ данных МУРР выявил значительную долю размеров пор в диапазоне от 3 до 40 нм в полученных частицах, что подчеркивает их потенциал служить высокоэффективными носителями для различных применений, особенно в антибактериальной терапии. Гибридные частицы CaCO3@Ag, синтезированные с использованием микрофлюидного устройства, проявили высокую активность против грамотрицательных бактерий E. coli с ингибирующей концентрацией 12–15 частиц на клетку. Эти результаты имеют важное значение для приложений доставки лекарств и открывают возможности для дальнейших исследований в области нанотехнологий в биомедицине.
Авторы выражают благодарность В.В. Артёмову за изучение образцов методом СЭМ.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Соглашение № 075-15-2021-1363, договор № 210EП от 29.11.2021).
Об авторах
А. В. Ермаков
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Email: trushina.d@mail.ru
Россия, Москва
С. В. Чапек
Южный федеральный университет
Email: trushina.d@mail.ru
Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов
Россия, Ростов-на-ДонуЕ. В. Ленгерт
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Email: trushina.d@mail.ru
Россия, Москва
П. В. Конарев
НИЦ “Курчатовский институт”
Email: trushina.d@mail.ru
Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники
Россия, МоскваВ. В. Волков
НИЦ “Курчатовский институт”
Email: trushina.d@mail.ru
Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники
Россия, МоскваМ. А. Солдатов
Южный федеральный университет
Email: trushina.d@mail.ru
Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов
Россия, Ростов-на-ДонуД. Б. Трушина
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова; НИЦ “Курчатовский институт”
Автор, ответственный за переписку.
Email: trushina.d@mail.ru
Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники
Россия, Москва; МоскваСписок литературы
- Yang D., Gao K., Bai Y. et al. // Int. J. Biol. Macromol. 2021. V. 182. P. 639. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.04.057
- Verkhovskii R.A., Ivanov A.N., Lengert E. et al. // Pharmaceutics. 2023. V. 15 (5). P. 1566. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15051566
- Song W., Zhang Y., Yu D.-G. et al. // Biomacromolecules. 2021. V. 22 (2). P. 732. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.0c01520
- Lengert E.V., Trushina D.B., Soldatov M., Ermakov A.V. // Pharmaceutics. 2022. V. 14 (1). P. 139. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14010139
- Huang Y., Cao L., Parakhonskiy B.V., Skirtach A.G. // Pharmaceutics. 2022. V. 14 (5). P. 909. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14050909
- Trucillo P. // Processes. 2021. V. 9 (3). P. 470. https://doi.org/10.3390/pr9030470
- Zhao X., Wu D., Ma X. et al. // Biomed. Pharmacother. 2020. V. 128. P. 110237. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110237
- Finbloom J.A., Sousa F., Stevens M.M., Desai T.A. // Adv. Drug Deliv. Rev. 2020. V. 167. P. 89. https://doi.org/10.1016/j.addr.2020.06.007
- Turiel-Fernández D., Gutiérrez-Romero L., Corte-Rodriguez M. et al. // Anal. Chim. Acta. 2021. V. 1159. P. 338356. https://doi.org/10.1016/j.aca.2021.338356
- Tu J., Yu A.C.H. // BME Front. 2022. V. 2022. https://doi.org/10.34133/2022/9807347
- Novoselova M.V., German S.V., Abakumova T.O. et al. // Colloids Surf. B. 2021. V. 200. P. 111576. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2021.111576
- Kung C.-T., Gao H., Lee C.-Y. et al. // Chem. Eng. J. 2020. V. 399. P. 125748. https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.125748
- Ma Z., Li B., Peng J., Gao D. // Pharmaceutics. 2022. V. 14 (2). P. 434. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14020434
- Liu Y., Yang G., Hui Y. et al. // Small. 2022. V. 18 (36). https://doi.org/10.1002/smll.202106580
- Huang K.S., Yang C.H., Wang Y.C. et al. // Pharmaceutics. 2019. V. 11 (5). P. 212. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics11050212
- Huang Y., Liu C., Feng Q. et al. // Nanoscale Horizons. 2023. V. 8 (12). P. 1610. https://doi.org/10.1039/D3NH00217A
- Hao N., Nie Y., Zhang J.X.J. // Biomater. Sci. 2019. V. 7 (6). P. 2218. https://doi.org/10.1039/C9BM00238C
- Svenskaya Y., Pallaeva T. // Pharmaceutics. 2023. V. 15 (11). P. 2574. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15112574
- Maleki Dizaj S., Sharifi S., Ahmadian E. et al. // Expert Opin. Drug Deliv. 2019. V. 16 (4). P. 331. https://doi.org/10.1080/17425247.2019.1587408
- Zhao P., Tian Y., You J. et al. // Bioengineering. 2022. V. 9 (11). P. 691. https://doi.org/10.3390/bioengineering9110691
- Westrøm S., Bønsdorff T.B., Bruland Ø.S., Larsen R.H. // Transl. Oncol. 2018. V. 11 (2). P. 259. https://doi.org/10.1016/j.tranon.2017.12.011
- Li R.G., Lindland K., Bønsdorff T.B. et al. // Materials (Basel). 2021. V. 14 (23). P. 7130. https://doi.org/10.3390/ma14237130
- Feoktistova N., Rose J., Prokopović V.Z. et al. // Langmuir. 2016. V. 32 (17). P. 4229. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.6b00717
- Svenskaya Y.I., Lengert E.V., Tarakanchikova Y.V. et al. // J. Mater. Chem. B. 2023. V. 11 (17). P. 3860. https://doi.org/10.1039/D2TB02779H
- Ferreira A.M., Vikulina A.S., Volodkin D. // J. Control. Release. 2020. V. 328. P. 470. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2020.08.061
- Lengert E.V., Savkina A.A., Ermakov A.V. et al. // Mater. Sci. Eng. C. 2021. V. 126. P. 112144. https://doi.org/10.1016/j.msec.2021.112144
- Kiryukhin M.V., Lim S.H., Lau H.H. et al. // J. Colloid Interface Sci. 2021. V. 594. P. 362. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.03.059
- Vikulina A.S., Feoktistova N.A., Balabushevich N.G. et al. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2018. V. 20 (13). P. 8822. https://doi.org/10.1039/C7CP07836F
- Jenjob R., Phakkeeree T., Crespy D. // Biomater. Sci. 2020. V. 8 (10). P. 2756. https://doi.org/10.1039/C9BM01872G
- De Geest B.G., De Koker S., Sukhorukov G.B. et al. // Soft Matter. 2009. V. 5 (2). P. 282. https://doi.org/10.1039/B808262F
- Garcia L., Kerns G., O’Reilley K. et al. // Micromachines. 2021. V. 13 (1). P. 28. https://doi.org/10.3390/mi13010028
- Ermakov A.V., Chapek S.V., Lengert E.V. et al. // Micromachines. 2023. V. 15 (1). P. 16. https://doi.org/10.3390/mi15010016
- Shapovalov V.V., Chapek S.V., Tereshchenko A.A. et al. // Micro Nano Eng. 2023. V. 20. P. 100224. https://doi.org/10.1016/j.mne.2023.100224
- Sukhorukov G.B., Volodkin D.V., Günther A.M. et al. // J. Mater. Chem. 2004. V. 14 (14). P. 2073. https://doi.org/10.1039/B402617A
- Yashina A., Meldrum F., DeMello A. // Biomicrofluidics. 2012. V. 6 (2). P. 022001. https://doi.org/10.1063/1.3683162
- Witt H., Yandrapalli N., Sari M. et al. // Langmuir. 2020. V. 36 (44). P. 13244. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.0c02175
- Tan P., Li H., Wang J., Gopinath S.C.B. // Biotechnol. Appl. Biochem. 2020. P. bab.2045. https://doi.org/10.1002/bab.2045
- Horne J., De Bleye C., Lebrun P. et al. // J. Pharm. Biomed. Anal. 2023. V. 233. P. 115475. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2023.115475
- Marchenko I., Borodina T., Trushina D. et al.// J. Microencapsul. 2018. V. 35 (7–8). P. 657. https://doi.org/10.1080/02652048.2019.1571642
- Feigin L.A., Svergun D.I. Structure Analysis by Small-Angle X-Ray and Neutron Scattering / Ed. Taylor G.W. NY: Springer, 1987. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-6624-0
- Bukreeva T.V., Marchenko I.V., Parakhonskiy B.V., Grigor’ev Y.V. // Colloid J. 2009. V. 71 (5). P. 596. https://doi.org/10.1134/S1061933X09050032
- Mikheev A.V., Pallaeva T.N., Burmistrov I.A. et al. // Cryst. Growth Des. 2023. V. 23 (1). P. 96. https://doi.org/10.1021/acs.cgd.2c00796
Дополнительные файлы