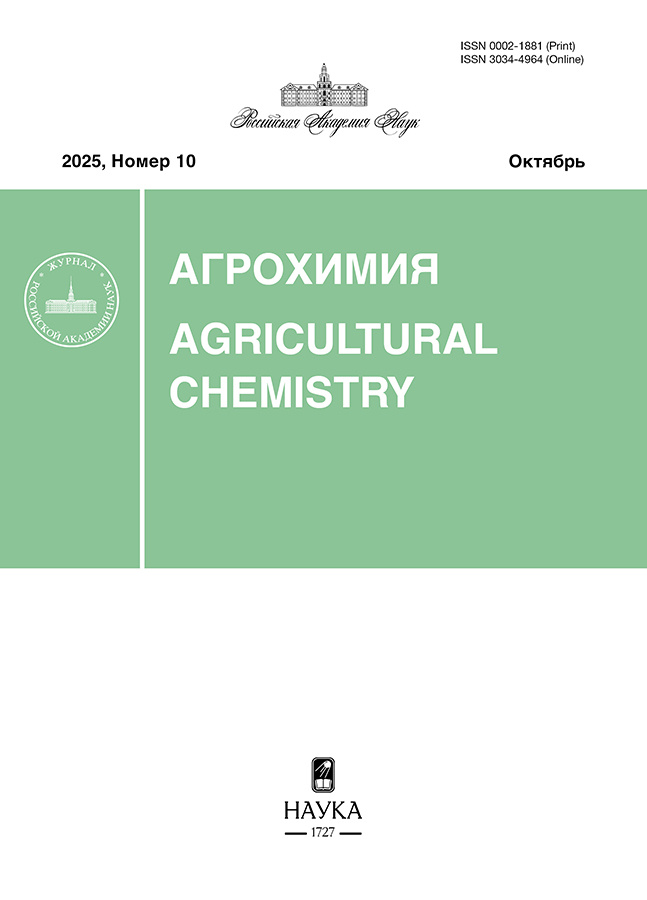Сортовая дифференциация ярового ячменя по устойчивости к кадмию на основе морфометрических, биохимических показателей и продуктивности
- Авторы: Дикарев А.В.1, Дикарев Д.В.1, Крыленкин Д.В.1
-
Учреждения:
- Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”
- Выпуск: № 10 (2024)
- Страницы: 68-82
- Раздел: Экотоксикология
- URL: https://bakhtiniada.ru/0002-1881/article/view/271627
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0002188124100083
- EDN: https://elibrary.ru/ANODEN
- ID: 271627
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В вегетационном опыте с внесением в дерново-подзолистую почву Cd2+ в концентрации 25 и 50 мг/кг выращивали ячмень 4-х сортов, которые по результатам лабораторного эксперимента с проростками оказались контрастными по устойчивости к действию Cd2+. Цель работы – выяснение, сохраняют ли указанные сорта свои свойства как устойчивых или чувствительных к кадмию не только в качестве модели-проростков, но и в процессе всего онтогенеза растений. Оценивали внешний вид растений, высоту растений, биомассу, площадь листьев, активность ферментов, связанных с защитой растения от стрессовых факторов среды, содержание фитогормонов в надземной биомассе, массу зерна, соломы и 1000 зерен, накопление кадмия в надземной биомассе растений (соломе и зерне). В условиях эксперимента выявлены значимые различия между группами устойчивых и чувствительных к действию кадмия сортов. По морфометрическим параметрам и продуктивности при выращивании на загрязненной кадмием почве устойчивые сорта значимо превосходили чувствительные. Эти эффекты наиболее были заметны при дозе кадмия 50 мг/кг, а доза 25 мг/кг недостаточна для уверенной дифференциации сортов на чувствительные и устойчивые. Отмечено, что на 50-е сут эксперимента концентрация стрессовых гормонов возрастала, а ростовых – снижалась при внесении в почву кадмия 50 мг/кг. При этом концентрация стрессовых гормонов у устойчивых сортов возрастала уже на 30-е сут, а ростовых – и на 30-е, и на 50-е сут уменьшалась не настолько сильно, как у чувствительных. Отмечена бóльшая активность антиоксидантных ферментов у устойчивых сортов по сравнению с чувствительными. Устойчивые сорта демонстрировали в целом бóльшую продуктивность при внесении в почву дозы кадмия 50 мг/кг. Чувствительные сорта накапливали кадмий в надземной биомассе в большем количестве, чем устойчивые, при этом различия становились отчетливыми при внесении дозы кадмия 50 мг/кг. Результаты исследования подтвердили, что обнаруженная при оценке воздействия кадмия на проростки дифференциация сортов ячменя по устойчивости сохраняется на протяжении всего жизненного цикла растений и сказывается на урожайности и других хозяйственно-ценных признаках. Полученные данные полезны для оценки последствий техногенного загрязнения агроценозов, задач селекции сортов основных культур, обладающих высокой устойчивостью к кадмию. Кроме того, материалы исследования можно применить при разработке методологии оценки состояния почв, загрязненных тяжелыми металлами, и для задач экологического нормирования.
Ключевые слова
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
В XXI веке загрязнение агросферы токсикантами техногенного происхождения стало одним из факторов, сдерживающих развитие сельского хозяйства и создающих угрозу для здоровья населения. Одним из главных компонентов промышленных выбросов, представляющих опасность для живых организмов, являются тяжелые металлы (ТМ). К таковым относят химические элементы с металлическим типом кристаллической решетки, имеющие плотность >5 г/см3, такие как свинец, кадмий, медь, ртуть, цинк и другие. Наглядным свидетельством серьезности рассматриваемой проблемы является тот факт, что только на территории России более 1 млн га земель сельскохозяйственного назначения загрязнено высокотоксичными соединениями ТМ (I класс опасности) и еще 2.3 млн га – обладающими средней токсичностью (II класс опасности) [1].
Одним из значимых представителей класса ТМ является кадмий. Среди основных путей, по которым он способен поступать в природные и агроэкосистемы, можно указать на горную и топливную промышленность, эксплуатацию аккумуляторов и других источников питания, производство лаков и красок, а также ряд иных отраслей народного хозяйства.
Принято считать, что у большинства растений кадмий не вовлечен в физиологические процессы (лишь у морских диатомей обнаружена Cd-карбониловая ангидраза) [2], в то же время он является токсичным элементом. Токсический стресс у растений может проявляться в изменениях биохимических и физиологических процессов, которые, последовательно нарастая, проявляются на уровне целого организма видимым угнетением жизненных функций [3, 4]. Полагают, что одной из главных причин, за счет которых ТМ способны вызывать такие нарушения, является повышенное накопление в клетке активных форм кислорода (АФК) [3, 5]. Чтобы противостоять вызванному АФК стрессу, живые существа (и растения, в частности) в процессе эволюции выработали ряд механизмов, позволяющих успешно развиваться в условиях негативного воздействия среды. К таковым относят систему антиоксидантной защиты, включающую как высокомолекулярные (энзимы супероксиддисмутазы, каталазы, пероксидазы и др.), так и низкомолекулярные (пролин, глутатион и др.) соединения. Различные концентрации ТМ способны как подавлять, так и стимулировать выработку этих веществ, и, анализируя их концентрации, можно судить об уровнях стресса прежде, чем его последствия проявятся визуально [6, 7]. Не стоит сбрасывать со счетов и тест-системы, основанные на анализе морфологических признаков (высоты растения, площади листьев, биомассы и др.) и продуктивности (структуры урожая), – они тоже способны дать много полезной информации [8]. Однако несмотря на то, что проблема воздействия токсических факторов на растения и устойчивости к ним изучена довольно подробно, остается еще много нерешенных вопросов.
Есть основания утверждать [9, 10], что механизмы поступления и обмена ТМ в целом сходны для всех живых существ. Однако, когда рассматривают именно сельскохозяйственные культуры, важно учитывать не только характеристики самого растения, но и почв, на которых оно произрастает. Физико-химические свойства, гранулометрический состав, плодородие, тип почвы способны существенно модифицировать ответ растения на действие поллютанта.
Из этого следует большое прикладное значение исследований ответа сельскохозяйственных культур на действие ТМ. В условиях стресса продуктивность растений заметно снижается, поэтому знание механизмов устойчивости к токсическим эффектам позволяет добиться сохранения объемов сельскохозяйственного производства в условиях техногенеза. Следует отметить важность рассматриваемого вопроса в целях сохранения здоровья населения, проживающего на загрязненных территориях, поскольку одним из направлений исследований является не только поиск устойчивых к стрессору сортов основных культур, но и выработка мер, предотвращающих поступление вредных веществ в растительный организм.
Ячмень (Hordeum vulgare L.) – одна из основных сельскохозяйственных культур. Он известен с глубокой древности, и его широко возделывают по всему миру в разнообразных почвенных и климатических условиях. Эта культура хорошо изучена на всех уровнях организации, что делает ее подходящей моделью для исследования ответа растений на действие техногенных стрессоров и, в частности, кадмия.
В рамках реализации поставленных задач – исследования устойчивости сельскохозяйственных растений к действию кадмия – были выявлены концентрации кадмия, вызывающие существенное подавление жизненных процессов ячменя. Был исследован внутривидовой полиморфизм 50-ти сортов ячменя различного географического происхождения и выявлен ряд сортов, контрастных по устойчивости к данному ТМ, обнаружены редкие аллельные варианты нескольких энзимов, связанные с устойчивостью или чувствительностью к кадмию [11]. В связи с этим было необходимо проверить результаты лабораторного эксперимента в условиях вегетационного опыта с почвенной культурой с целью ответа на вопрос: будут ли отобранные на основе исследования проростков сорта демонстрировать аналогичные реакции на действие кадмия на протяжении всего жизненного цикла растения?
С целью ответа на этот вопрос был поставлен вегетационный опыт, для которого взяли 4 контрастных по устойчивости к кадмию сорта ячменя из отобранных ранее. В опыте изучили воздействие кадмия на морфологические и биохимические показатели растений ячменя.
Таким образом, цель работы – оценка воспроизводимости результатов лабораторного эксперимента с проростками сортов ячменя различного географического происхождения для исследования устойчивости их к кадмию на всем протяжении жизненного цикла растений по морфометрическим и биохимическим показателям, а также продуктивности.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Эксперимент по изучению воздействия кадмия на рост, развитие, биохимические показатели и продуктивность ярового двурядного ячменя был заложен на дерново-подзолистой супесчаной почве. Для работы были взяты следующие сорта ярового ячменя из мировой коллекции ВИР: устойчивые к действию кадмия – Симфония (Украина, Харьковская обл.) и Местный (Удмуртия); чувствительные к действию кадмия – Са 220702 (Дания) и Malva (Латвия). Методика и процедура выбора этих сортов были описаны в работах [12, 13]. Растения выращивали в пластиковых сосудах емкостью 5 кг по общепринятой методике [14]. Агрохимические характеристики почвы [15] приведены в табл. 1.
Таблица 1. Агрохимические характеристики дерново-подзолистой супесчаной почвы, использованной в эксперименте
Показатель | Величина |
pHKCl | 5.22 ± 0.01 |
Гумус, % | 1.0 ± 0.01 |
Hг, мг-экв/100 г почвы | 1.89 ± 0.02 |
Сумма обменных оснований, мг-экв/100 г почвы | 5.3 ± 0.01 |
Обменный K2O, мг/кг почвы по Масловой | 77.7 ± 1.3 |
Подвижный P2O5, мг/кг почвы по Кирсанову | 127 ± 2 |
Кадмий был внесен в почву в виде Cd(NO3)2 в концентрациях 25 и 50 мг/кг. При выборе концентрации руководствовались данными, полученными в проведенных ранее вегетационных опытах по изучению ответа растений ячменя на действие широкого диапазона доз кадмия [16]. На основе анализа данных о реакции морфометрических и биохимических показателей растений ячменя была выбрана критическая доза (50 мг/кг), которая вызывает существенное угнетение рассмотренных параметров, но еще позволяет растению нормально развиваться и завершить свой жизненный цикл. Предполагали, что, используя эту концентрацию кадмия, можно обнаружить разделение выбранных сортов ячменя на устойчивые и чувствительные к этому ТМ. Кроме того, была взята доза, составляющая половину от критической (25 мг/кг), чтобы оценить уровни токсического стресса в менее жестких условиях.
В варианте 50 мг Cd2+/кг опыт проводили в четырехкратной повторности для каждого сорта, для 25 мг Cd2+/кг – в двукратной, плюс 4 повторности в контроле, всего 40 сосудов. При закладке опыта почву тщательно перемешивали и вносили в нее питательные элементы в виде водных растворов солей NH4NO3 и K2HPO4 из расчета N150P10K10. При внесении в почву питательных веществ учитывали и корректировали количество азота, поступающее с раствором соли кадмия. Контролем служил вариант с NPK без внесения кадмия. При выборе солей питательных элементов и их концентраций руководствовались рекомендациями [14, 15]. Перед посевом почву инкубировали в течение 14 сут при температуре 20–23°C и влажности 60% ПВ. Растения выращивали до товарной спелости в условиях постоянной влажности почвы (60% ПВ). Положение вегетационных сосудов меняли ежедневно по схеме, обеспечивающей однородные условия роста и развития растений. Поливали растения дистиллированной водой.
Отбор проб растений для биометрического и части биохимических анализов проводили через 30 сут после всходов. Биохимические показатели (содержание свободного пролина [17] и малонового диальдегида (МДА) [18]) определяли в пробах листьев. До урожая оставляли по 10 растений/сосуд. В течение всего вегетационного периода вели фенологические наблюдения.
Также в исследовании оценивали эндогенное содержание основных классов фитогормонов: индолилуксусной кислоты (ИУК), индолилмасляной кислоты (ИМК), зеатина, салициловой кислоты (СК) и абсцизовой кислоты (АБК) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). На 30-е и 50-е сут эксперимента отбирали здоровые листья ячменя и замораживали их в жидком азоте. Навеску растительного материала массой 400 мг гомогенизировали в жидком азоте, экстрагировали фитогормоны в 1 мл подкисленного (pH 3.5) 80%-го раствора метанола (HPLC Gradient Grade, T.J. Baker, Нидерланды) с добавлением антиокислителей (50 мкл 0.1%-го раствора ЭДТА и 50 мкл 0.1%-го раствора 2-меркаптоэтанола). Пробирки с суспензией помещали в холодильник на мини-шейкер 3D-типа Sunflower (Biosan, Латвия) на 30 мин, после чего пробы центрифугировали и осадок отбрасывали. Для очистки экстракта применяли твердофазную (неудерживающую) экстракцию на приборе VacMaster-20 (Biotage, Норвегия) с использованием SPE колонок Biotage – ISOLUTE C18 (1 мл).
Качественный и количественный анализ экстрактов проводили на высокоэффективном жидкостном хроматографе Shimadzu LC-30 Nexera с диодно-матричным детектором SPDM20A (Shimadzu, Япония).
Данные обрабатывали с помощью программного обеспечения LabSolutions (Shimadzu, Япония). 10 мкл экстракта вводили в аналитическую колонку с обращенной фазой С18 (Shim-packXR-ODSII, 2 мкм, диаметр 3.0 мм, длина 100 мм, Shimadzu, Япония). Начальные условия: растворитель (А) – метанол, растворитель (B) – 0.1%-ный раствор уксусной кислоты (1 : 9). Температура термостата колонки составляла 35°C, скорость потока – 0.3 мл/мин в течение всего времени разделения. Анализ проводили в 3-х биологических повторностях, каждый образец анализировали дважды.
Для идентификации и количественного анализа применяли метод внешних стандартов, основанный на соотнесении пиков проб и стандартов. Для построения калибровочных графиков использовали стандарты фитогормонов, полученные от Sigma-Aldrich (США). Стандарты разводили в метаноле в концентрациях 5–1000 мкМ.
Процедуру анализа активности ферментов производили следующим образом. С 4–5-ти растений ячменя в каждом сосуде отбирали листья. Их помещали в 3 криопробирки объемом 5 мл (по 5–6 листьев в каждую) и немедленно замораживали в жидком азоте. На 30-е и 50-е сутки было отобрано по 24 образца. Криопробирки хранили в сосуде Дьюара до дальнейшего проведения анализа активности ферментов в лаборатории. В день анализа из каждой криопробирки с образцом отбирали навеску (~0.23 г) и гомогенизировали в фарфоровой ступке в жидком азоте. Гомогенат быстро (избегая размораживания) переносили в чистые пробирки и растворяли в 1 мл холодного буфера. Буфер выбирали, исходя из методики анализа активности соответствующего фермента (для каталазы (CAT), пероксидазы (POX), аскорбатпероксидазы (APX) – 50 мМ калий-фосфатный буфер pH 7.0; для глутатионпероксидазы (GPX) – 50 мМ ТЕ-буфер pH 7.6; для глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы (G6FD) – 0.1 М трис-HCl буфер рН 7.6). Затем содержимое пробирок перемешивали на вортексе (“Микроспин”, Россия) и далее гомогенат центрифугировали в течение 20 мин при скорости 14 500 об./мин на мини-центрифуге (Eppendorf, Германия) с охлаждением. Полученный супернатант использовали для анализа. Пробоподготовка проведена с применением штатива-охладителя (CoolBox, США).
Экстракты анализировали в соответствии с нижеприведенными методиками с использованием беcкюветного спектрофотометра NanoDrop-2000 (Thermo Fisher Scientific, США). Всего проанализировано 48 образцов.
Активность фермента каталазы определяли по динамике разложения пероксида водорода этим ферментом [19, 20], гваяколовой пероксидазы – по ее способности в присутствии пероксида водорода катализировать превращение гваякола в тетрагваякол [19], аскорбатпероксидазы – по определению скорости разложения пероксида водорода исследуемым образцом с образованием воды и дегидроаскорбата [19], глутатионпероксидазы – по cкорости окисления НАДФН посредством глутатионредуктазы [21], глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы – по реакции D-глюкозо-6-фосфат + НАДФ+ ↔ D-глюконо-1,5-лактон-6-фосфат + НАДФH, при которой образуется клеточный НАДФH из НАДФ+ [19].
При уборке урожая через 90 сут после всходов в пробах определяли структуру урожая по следующим показателям: высота растений, общее число стеблей и число продуктивных стеблей, масса колосьев, масса соломы, общее число колосьев и число колосьев с зерном, масса зерна, число зерен.
Статистическую обработку экспериментальных данных проводили стандартными методами с использованием программных пакетов MS Excel 2003 и Statistica 10.0. На графиках и диаграммах приведены средне-арифметические в расчете на одно растение и доверительные интервалы определявшихся показателей (в % к контролю при 95%-ном уровне значимости).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Морфометрические параметры. Внешний вид растений ярового ячменя через 50 сут после появления всходов показан на рис. 1.
Рис. 1. Внешний вид растений ячменя на 50-е сут эксперимента: (а) – устойчивые сорта, слева направо: сорт Симфония (контроль), сорт Симфония (50 мг Cd2+/кг), сорт Местный (контроль), сорт Местный (50 мг Cd2+/кг), (б) – чувствительные сорта, слева направо: сорт Са 220702 (50 мг Cd2+/кг), сорт Са 220702 (контроль), сорт Malva (50 мг Cd2+/кг), сорт Malva (контроль).
Для наглядности фотографии даны для варианта 50 мг Cd2+/кг, поскольку именно в этом случае различия между контрастными по устойчивости сортами были наиболее очевидными. В случае с дозой 25 мг Cd2+/кг визуально различия не обнаруживались, хотя и было отмечено, что у чувствительных сортов образование колосьев происходило на 1–2 нед позже. В целом, на этом этапе органогенеза уже заметны различия во внешнем виде, особенно по высоте растений при действии кадмия и в контрольном варианте. Изменилась и биомасса растений. Также следует отметить, что устойчивые сорта (рис. 1а) демонстрировали меньшее угнетение по сравнению с чувствительными (рис. 1б). Следовательно, доза 50 мг Cd2+/кг является достаточной для обнаружения эффектов воздействия кадмия и дифференциации сортов на устойчивые и чувствительные, что подтверждало данные ранее проведенных нами исследований [15, 25]. Таким образом, рассмотренная концентрация кадмия может считаться критической, вызывающей значимое угнетение процессов роста и развития растений ячменя, но еще не приводящая к гибели организма. В то же время доза 25 мг Cd2+/кг еще не позволяет с уверенностью обнаружить визуальные различия. Есть основания полагать, что более высокие концентрации поллютанта брать для работы по изучению ответа растений ячменя на действие кадмия нет смысла, поскольку они вызовут гибель растения и не позволят обнаружить различия в ответе на стрессор между группами контрастных сортов. Более того, уже при дозе 50 мг Cd2+/кг урожай удалось получить не во всех вариантах, и дальнейшее увеличение содержания поллютанта в почве способно обеднить потенциальный объем данных, которые можно получить в исследовании.
На рис. 2 приведены количественные данные, которые подтвердили визуальное впечатление о влиянии кадмия на морфометрические показатели 4-х контрастных по устойчивости сортов ячменя.
Рис. 2. Влияние загрязнения кадмием на высоту, площадь листьев и биомассу растений ячменя 4-х сортов: (а) – 25 мг Cd2+/кг, (б) – 50 мг Cd2+/кг.
При концентрации 25 мг Cd2+/кг различия между устойчивыми и чувствительными сортами не были отчетливыми (рис. 2а). Например, высота растений всех 4-х сортов значимо не различалась. Несколько более интересные данные удалось получить по площади листьев – чувствительный сорт Са 220702 значимо уступал по этому показателю остальным 3-м сортам. Наиболее полезным оказался параметр биомассы: по нему устойчивые сорта заметно опережали чувствительные, однако в каждой из групп показатели менялись в пределах ошибки, т. е. при этой дозе ТМ уже отмечали некоторую дифференциацию между группами контрастных сортов, но она была еще не достаточно отчетливой. Необходимо также отметить, что концентрация кадмия 25 мг/кг индуцировала заметный стимулирующий эффект показателя биомасса, но только у устойчивых сортов, у которых результаты превышали контроль до 150–160%.
В то же время при концентрации кадмия 50 мг/кг наблюдали заметное угнетение развития как чувствительных, так и устойчивых сортов. Однако это утверждение справедливо не для всех сортов и не для всех показателей (рис. 2б). При этом внутривидовые особенности ответа растений на токсический стресс четко отследить не удалось. Например, высота растений всех 4-х сортов менялась на уровне, близком к контрольному, или оказывалась, несущественно меньше такового (до 92% у устойчивого сорта Местный). Сорт Симфония, правда, немного опережал остальные по этому показателю, но на незначительную величину (102% от контроля). Внутривидовые показатели площади листьев различались существенно, однако их не удалось связать с выявленной ранее устойчивостью к кадмию. Например, значимое угнетение демонстрировали как устойчивый сорт Местный (45% от контроля), так и чувствительный Malva (44%). В то же время у устойчивого сорта Симфония и чувствительного Са 220702 также наблюдали угнетение этого показателяя (78 и 77% соответственно), но гораздо меньшее, чем у 2-х других сортов. Что касается биомассы, то она сокращалась при действии кадмия у всех сортов, кроме сорта Симфония, у которой, напротив, даже отмечена стимуляция (112% от контроля).
Таким образом, по чувствительности к действию кадмия исследованные показатели можно выстроить в следующий ряд. Сильнее всего на токсический стресс реагировала площадь листьев, и именно при ее анализе была заметна наибольшая разница между сортами. В меньшей степени изменялась биомасса растений, и это единственный из 3-х показателей, по которому устойчивые сорта существенно превосходили чувствительные. Высота растений изменялась не столь сильно и в целом она сохранялась на уровне, близком к контрольному. При этом разница между устойчивыми и чувствительными сортами в этом случае была незаметна вовсе.
Из полученных данных можно сделать вывод, что различия между устойчивыми и чувствительными сортами могут выявляться на организменном уровне, но ответ при этом носил неоднозначный характер. Далеко не всегда устойчивые сорта демонстрировали значимые отличия от чувствительных по рассмотренным показателям, иногда наблюдали противоречивые результаты. Четкой зависимости от концентрации кадмия тоже не отмечено, но, вероятно, это было связано с тем, что доза поллютанта еще далека от летальной. В этих условиях организм еще успешно справлялся со стрессовой нагрузкой, а общие биологические механизмы защиты, нацеленные на предотвращение проникновения во внутреннюю среду нежелательных веществ, оказывались достаточно эффективными. При этом особенности ответа растений ячменя на токсическое действие кадмия, описанные ранее [11] для проростков, сохранялись и у взрослых растений.
Биохимические параметры. Действие повреждающих агентов вызывает включение у живых организмов механизмов защиты. Например, ТМ инициируют нарушение функционирования ферментативных систем, способствуют образованию перекисных и свободнорадикальных соединений. Реакции структурных и ферментативных систем клеток с этими соединениями провоцируют обширные повреждения и нарушения ферментативных циклов метаболизма, объединяемых под общим термином оксидативный стресс. Одним из классов соединений, которые организм направляет на нейтрализацию вредных воздействий, служит ряд аминокислот – γ-аминомасляная кислота, пролин, цистеин [22, 23], среди которых особый интерес вызывает пролин [24].
Экспериментальные данные по содержанию МДА и пролина в листьях ячменя при действии кадмия представлены на рис. 3.
Рис. 3. Изменения содержания пролина (а) и МДА (б) в надземной биомассе 4-х сортов ярового ячменя при загрязнении почвы кадмием.
При концентрации Cd2+ 25 мг/кг у всех 4-х сортов содержание МДА существенно возрастало по сравнению с контролем (в 1.5–2.5 раза). В целом содержание данного метаболита было несколько меньше у устойчивых к кадмию сортов, что особенно заметно для сорта Симфония (для сорта Местный этот эффект не столь явен) (рис. 3а). При второй дозе кадмия (50 мг/кг) у всех сортов содержание МДА снижалось. Вероятно, это было связано с активизацией защитных систем растения, которые более активно реагируют на стресс и тормозят процессы перекисного окисления липидов, результатом чего является накопление МДА. При этом существенных различий между группами устойчивых и чувствительных сортов выявить не удалось (рис. 3б). Это могло быть связано с тем, что внутривидовые различия на биохимическом уровне организации растения не столь существенны, чтобы их можно было выявить при дозе загрязнителя, превышающей некоторый предел. Сильный стресс во всех случаях ведет к подавлению развития растения, вне зависимости от того, устойчивое оно или чувствительное к такому воздействию.
Содержание пролина, одного из защитных соединений, синтез которого в растении активизируется при оксидативном стрессе, демонстрировало иную закономерность. В наших предыдущих исследованиях с другими культурами (конскими бобами, салатом, редисом), связанных с анализом воздействия другого тяжелого металла (свинца) [25], уже при концентрации свинца 50 мг/кг почвы отмечали резкое увеличение концентрации пролина, вполне объяснимое с точки зрения его роли как защитного соединения. Аналогичный эффект наблюдали и в данном эксперименте, причем в обоих вариантах (рис. 3а). например, при дозе кадмия 25 мг/кг концентрация пролина возрастала до 2-х раз по сравнению с контролем у 2-х из исследованных сортов. А при дозе кадмия 50 мг/кг этот показатель превышал контроль от 2-х до 7-ми раз, что очевидно было связано с увеличением стрессовой нагрузки. При этом различий между группами устойчивых и чувствительных сортов выявить не удалось, более того, выявлен несколько парадоксальный эффект. У одного из чувствительных сортов (Са 220702) отмечено самое низкое содержание пролина из всех 4-х сортов, в то время как у другого (Malva) оно оказалось самым высоким. Следует заметить, что у последнего сорта и содержание МДА было максимальным, таким образом, высокие уровни пролина у этого сорта должны быть связаны со значительной чувствительностью к стрессу.
Таким образом, исследование рассмотренных параметров не позволило связать устойчивость или чувствительность сортов с содержанием пролина и МДА. Из этого можно сделать вывод, что реакция на воздействие кадмия определяется иными физиологическими процессами и требует дополнительного изучения.
Разобрав выше ответ растений ячменя на действие кадмия на уровне низкомолекулярных антиоксидантов и связанных со стрессом метаболитов, имеет смысл изучить другие соединения, которые уже непосредственно оказывают воздействие на метаболизм. Поэтому еще одним параметром, рассмотренным в настоящем исследовании, было содержание фитогормонов в надземной биомассе растений. Причины, по которым анализ содержания данных веществ интересен для понимания механизмов ответа растений на техногенный стресс, заключаются в следующем. Для многоклеточных организмов характерен тип регуляции, который связан с взаимодействием между отдельными клетками, тканями и органами. Чтобы осуществлять такую координацию, в растениях вырабатываются фитогормоны. Эти, как правило, низкомолекулярные (Мr = 28–346) вещества синтезируются в процессе естественного обмена веществ и оказывают регуляторное влияние, причем их действующие дозы крайне малы (10–5–10–3 моль/л).
В большинстве случаев, но не всегда, гормоны образуются в одних клетках и органах, а оказывают влияние на другие, т. е. гормоны транспортируются по растению, и их влияние носит дистанционный характер. Большинство физиологических процессов, в первую очередь рост, формообразование и развитие растений, регулируется гормонами. В связи с этим они считаются регуляторами роста, что определяет интерес к ним в рамках фитотоксикологических исследований. Разумно предположить, что наблюдаемое угнетение роста и развития растений ячменя при действии кадмия в той или иной степени связано с работой гормональной фитосистемы. При этом вероятно эта активность различается у контрастных по устойчивости сортов.
Обычно фитогормоны разделяют на те, которые имеют стимулирующий характер – ауксины, гибереллины и цитокинины, и ингибиторы, такие как абсцизовая кислота. Следует отметить, что гормональная система растений менее специализирована, чем у высокоорганизованных животных, имеющих обособленные эндокринные железы. В растительных организмах для включения и выключения морфогенетических и физиологических программ используются одни и те же фитогормоны в разных соотношениях. Поэтому можно ожидать, что в настоящем эксперименте у устойчивых сортов будут выявлены повышенные концентрации стимулирующих гормонов, в то время как у чувствительных сортов, напротив, в условиях стресса будут преобладать ингибирующие.
Оценку содержания фитогормонов производили в пробах, взятых в вариантах с внесением в почву Cd2+ в дозе 50 мг/кг, чтобы проследить эффекты, наблюдавшиеся в критических условиях стресса. Дозу 25 мг кадмия/кг не рассматривали, поскольку по результатам оценки морфометрических показателей при ней растения еще не проявляли явных признаков развития стресса.
Ауксины относятся к важнейшим фитогормонам растений, контролирующим направленные ростовые движения, полярность развития всех органов, клеточный цикл. К числу их функций также относят стимуляцию активности ионных каналов, рост клеток растяжением и дифференцировку специфических типов клеток [26]. Согласно данным, представленным на рис. 4а, на загрязненной кадмием почве у растений ячменя сортов Местный и Са 220702 снижались концентрации основного ауксина растений ИУК на 30-е сут развития.
Рис. 4. Содержание фитогормонов в листьях 30- (а) и 50-суточных (б) растений ячменя 4-х сортов при внесении в почву Cd2+ в дозе 50 мг/кг.
На 50-е сут у всех сортов концентрации гормона были меньше контроля (рис. 4б), и наиболее отчетливо это наблюдали у чувствительного сорта Маlva. Под действием ТМ, в частности кадмия, у растений нарушается полярный транспорт ауксинов, опосредованный с PIN-белками, что ведет к замедлению развития корневой системы. Помимо этого, кадмий приводит к накоплению NO – соединения, которое вызывает подавление транспорта, метаболизма и сигналинга ауксинов [27].
На 30-е сут эксперимента наиболее сильно снижались концентрации ауксина ИМК у сорта Маlva (рис. 4а). Кроме того, пониженный синтез ИМК демонстрировал и устойчивый сорт Симфония. У остальных сортов значимых отличий от контроля в содержании ИМК не выявлено. На 50-е сут эксперимента концентрации ИМК были снижены у сорта Маlva и сорта Симфония (рис. 4б). В случае сортов Маlva и Симфония уровни ИМК в анализированных образцах в целом были существенно меньше по сравнению с ИУК, особенно ярко это прослежено на 30-е сут онтогенеза. Эти результаты согласуются с литературными данными о том, что содержание ИУК составляет ≈80–95% всех ауксинов растений [27]. Остальные натуральные ауксины присутствуют в растениях в меньших количествах. Впрочем, у сортов Са 220702 и Местный наблюдали обратный эффект. На 50-е сут у сорта Местный содержание ИМК оказалось значимо больше, чем ИУК, но у других сортов содержание этих 2-х гормонов было сходным.
Содержание зеатина в целом было довольно невысоким и не позволяло разделить сорта по группам устойчивых и чувствительных, лишь на 50-е сут эксперимента у сорта Са 220702 его содержание было больше, чем у других сортов, но меньше контроля (рис. 4). Вероятно, это связано с тем, что на этом этапе происходило активное развитие колоса и созревание зерна. Цитокинины, к которым относится зеатин, играют ведущую роль в регуляции развития генеративных органов [28], чем и был обусловлен его повышенный синтез на 50-е сут развития ячменя. Известно, что важной функцией цитокининов является регуляция корневого поглощения питательных веществ, в особенности азотистых, а в фазе развития колоса потребность в них весьма высока. Поэтому нитраты стимулируют биосинтез цитокининов, увеличивая экспрессию гена IPT3, что в свою очередь запускает экспрессию цитокинин- и нитрат-регулируемых генов [29]. Вероятно, эти процессы угнетаются в условиях токсического стресса, что и проявляется в снижении уровня синтеза зеатина.
В некоторых образцах 30-суточных растений ячменя сорта Симфония не произошло качественного разделения хроматографических пиков зеатина с соседними пиками метаболитов, поэтому данные отсутствуют. Это можно объяснить таким образом. Спектр регуляторных функций цитокининов весьма широк, потому логично предположить, что у растений, испытывающих токсический стресс, процессы старения идут более активно, чем у интактных. Связанные с этим нарушения клеточного цикла и трофических процессов приводят к уменьшению синтеза зеатина.
АБК известна как “гормон стресса”, являясь основным регулятором ответных реакций на негативное воздействие среды [30]. При стрессе уровень содержания АБК повышается, что ведет к мобилизации адаптивных ресурсов растения. Экзогенное введение АБК повышает устойчивость к засухе, холодоустойчивость, ослабляет солевой стресс [31]. Поскольку стрессовое воздействие вызывает быстрое накопление АБК, увеличение ее количества можно рассматривать как индикатор стрессового состояния растения. В полном соответствии с этим в нашем эксперименте концентрации АБК были значимо повышены в обеих фазах онтогенеза у всех сортов. Впрочем, чувствительный сорт Са 220702 демонстрировал более низкие, чем у остальных сортов уровни АБК на 30-е сут, хотя и в этом случае содержание АБК было больше контроля (рис. 4).
СК – фитогормон фенольной природы, который является одним из главных метаболитов, вовлеченных в формирование ответа на действие вирусов и иных патогенов. Кроме того, наряду с АБК СК непосредственно участвует в защите растения от действия основных абиотических стрессоров, таких как ТМ, засоление, дефицит/избыток воды и тепловой стресс [32, 33]. СК способствует активации антиоксидантной системы, усиливает метаболизм азота и интенсивность фотосинтеза, что ведет к усилению ассимиляции CO2. Это вполне согласовалось с нашими данными. Так же, как и в случае с АБК, концентрация СК возрастала в тканях импактных растений. Рост содержания СК отмечен на 30-е сут у всех сортов, но в наибольшей степени у Са 220702 и Местного (рис. 4а), на 50-е сут этот эффект стал еще больше (рис. 4б).
Повышенное содержание СК может стимулировать синтез пролина – одного из маркеров стресса растений. Благодаря этому снижается интенсивность перекисного окисления липидов, и клеточные мембраны повреждаются в меньшей степени [34]. Наши данные подтвердили увеличение содержания пролина в ходе эксперимента: у чувствительного сорта Malva и устойчивого Симфония содержание обоих метаболитов оказалось особенно высоким (рис. 3а, 4б).
Таким образом, было показано, что загрязнение почвы кадмием в концентрации 50 мг/кг приводило к существенному снижению содержания ростостимулирующих фитогормонов (ИУК, ИМК, зеатина) и повышению концентраций стрессовых фитогормонов (АБК, СК). Также можно отметить, что к 50-м сут эксперимента содержание стрессовых гормонов у чувствительных сортов возрастало в целом сильнее, чем у устойчивых, а содержание ростовых гормонов у устойчивых сортов уменьшалось в меньшей степени, чем у чувствительных.
Нами также было исследовано содержание в тканях растений, подвергшихся воздействию токсического стресса, низкомолекулярных антиоксидантов (пролина) и продуктов патологических процессов, происходящих в организме в подобных условиях (МДА). Кроме того, был проанализирован синтез метаболитов, непосредственно вовлеченных в стрессовый ответ (фитогормонов). Однако для составления полной картины биохимических процессов, происходящих в организме растений, произраставших на загрязненной кадмием почве, необходимо также оценить и активность высокомолекулярных соединений, т. е. ферментов. Анализ этого показателя может предоставить ценные данные относительно физиологического состояния растительного организма. Угнетение активности одних энзимов (анаболических) свидетельствует о заметном подавлении жизненных процессов, а рост активности других (антиокислительных) прямо указывает на развитие состояния острого стресса. Эффективность работы последних прямо связана с тем, насколько успешно живой организм преодолевает негативное воздействие среды. Логично предположить, что феномен устойчивости к стрессу может определяться более высокой активностью определенных ферментов.
Так же, как и в случае с фитогормонами, анализ активности ферментов производили в пробах, которые были взяты у растений, выращенных на почве с внесенным в нее кадмием в дозе 50 мг Cd2+/ кг. Дозу 25 мг Cd2+/кг не рассматривали по тем же причинам, приведенным при оценке фитогормонального статуса.
Установлено, что внесение кадмия способствовало росту активности каталазы на 30-е сут эксперимента у всех изученных сортов. Тем не менее, на 50-е сут онтогенеза активность каталазы у чувствительного сорта Ca 220702 оказалась статистически значимо меньше, чем в контроле (рис. 5б).
Рис. 5. Активность ферментов в листьях 30- (а) и 50-суточных (б) растений ячменя 4-х сортов.
При этом в данном варианте активность этого фермента для всех сортов в целом снижалась по сравнению с теми показателями, которые были отмечены на 30-е сут.
У устойчивых к действию кадмия сортов Симфония и Местный на 30-е сут активность POX при действии ТМ была статистически значимо больше, чем в контроле (р = 0.049). Впрочем, высокой она оказалась и у чувствительного сорта Malva. При этом на 50-е сут у сорта Симфония значимые различия между дозой и контролем сохранились, хотя активность фермента снизилась. У остальных сортов она снижалась еще больше, оказавшись в этом случае меньше контроля. Особенно отчетливо это проявилось у чувствительных сортов. Например, у чувствительного сорта Са 220702 на 50-е сут эксперимента активность POX была статистически значимо меньше, чем в контроле (р = 0.049). Вероятно, низкая активность этого фермента, особенно по мере созревания растений и вела к их чувствительности к окислительному стрессу.
Активность APX так же, как и активность CAT и POX, статистически значимо снижалась в растениях чувствительного сорта Са 220702 (р = 0.049) на 50-е сут эксперимента. В то же время у устойчивого сорта Симфония она значимо возрастала. Обнаружено, что на 30-е сут активность GPX несколько возрастала у устойчивого сорта Местный, а на 50-е сут она была достаточно высокой у устойчивого сорта Симфония. Повышенной она оказалась и у чувствительного сорта Са 220702.
Активность фермента G6FD оставалась на близком к контролю уровне у всех сортов на 30-е сут эксперимента, но иной эффект наблюдали на 50-е сут опыта. У чувствительного сорта Malva она значимо снижалась (р = 0.049), у устойчивого Симфония – возрастала.
Структура урожая. Особый интерес представляют данные, полученные в конце цикла вегетации растений ячменя. На их основе можно сделать вывод о том, сохранялась ли устойчивость или чувствительность каждого сорта к кадмию на протяжении всего онтогенеза растительного организма, и как эти особенности сказались на хозяйственно ценных показателях качества зерна.
Экспериментальные данные, характеризующие влияние кадмия на продуктивность ярового ячменя, представлены на рис. 6.
Рис. 6. Влияние загрязнения кадмием на основные показатели продуктивности 4-х сортов ярового ячменя: (а) – 25 мг Cd2+/кг, (б) – 50 мг Cd2+/кг.
Так же, как и в остальных случаях, загрязнение почвы кадмием в дозе 25 мг/кг не привело к существенным различиям между группами контрастных по устойчивости сортов ячменя (рис. 6а). Однако следует отметить, что показатель массы 1000 зерен у устойчивых сортов был несколько больше, чем у чувствительных (оставался на уровне, близком к контролю (91–92%), в то время как у чувствительных был меньше (77–86%), но в то же время масса зерна сорта Симфония оказалась меньше (29%), чем у остальных сортов (44–49%). Показатель “масса соломы” лишь у чувствительного сорта Malva заметно отличался от остальных, проявляя существенное угнетение (44% от контроля, у остальных сортов – 54–66%). В целом, все 3 показателя демонстрировали угнетение по сравнению с контролем, но уверенно дифференцировать сорта на основе этих данных не удалось.
Более информативным оказался вариант с внесением кадмия 50 мг/кг (рис. 6б). В этом случае угнетение развития чувствительных сортов было выражено заметно отчетливее. Устойчивые сорта тоже демонстрировали уменьшение рассмотренных показателей, но в меньшей степени. Наиболее отчетливые различия отмечены для массы зерна. Для чувствительных сортов она составила 22 и 33% от контроля, в то время как для устойчивых – 52 и 73%, при этом наиболее чувствительным оказался сорт Са 220702, а самым устойчивым – Симфония (разница между ними была более чем в 3 раза). По массе соломы различия между группами контрастных сортов тоже отмечали, но менее заметные. Величина показателя у обоих чувствительных сортов менялась в пределах ошибки (49 и 54%), величина параметра у устойчивого сорта Симфония также укладывалась в этот диапазон (53.6%). И только сорт Местный существенно превосходил остальные (82%). Масса 1000 зерен оказалась наименее информативным показателем, и изменения его величины были несущественными. Сорт Местный имел наибольшую величину этого показателя (117%), однако она значимо не отличалась от таковой у чувствительного сорта Malva (111%).
Подводя итог, можно сказать, что доза кадмия 50 мг/кг являлась критической для ячменя при выращивании на дерново-подзолистой почве и позволила уверенно разделить сорта, контрастные по устойчивости к этому ТМ. Не все показатели, характеризующие структуру урожая, оказались одинаково ценными для анализа особенностей воздействия техногенного стресса на продуктивность. По уровню информативности все 3 показателя можно разместить в следующий ряд: масса зерна – масса соломы – масса 1000 зерен. При этом все сорта сохраняли свои свойства как устойчивых, так и чувствительных к кадмию на протяжении всего жизненного цикла растений, и это отражалось на их продуктивности. Доза кадмия (50 мг/кг) еще не вызывала гибели растений, позволяя в большинстве случаев получить урожай. Довольно затруднительно сказать, какой из сортов обладает наибольшей устойчивостью или чувствительностью к кадмию, поскольку рассмотренные показатели реагировали на воздействие ТМ различным образом, и в некоторых случаях результаты могли даже противоречить друг другу. Хотя в целом статус каждого сорта сохранялся.
Оценка содержания кадмия в тканях растений. Результаты анализа содержания ТМ в тканях растений ячменя контрастных по устойчивости к кадмию сортов представлены на рис. 7.
Рис. 7. Содержание кадмия в соломе и зерне 4-х сортов ячменя, контрастных по устойчивости к кадмию: (а) – 25 мг Cd2+/кг, (б) – 50 мг Cd2+/кг.
Можно было ожидать, что устойчивые к действию Cd2+ сорта имеют тенденцию накапливать вредные ионы в меньшем количестве, чем чувствительные, что в определенной степени и определяет их способность относительно легко переносить стресс и успешно завершать жизненный цикл, дав урожай. В целом можно сказать, что отмеченные в данном случае эффекты вполне соотносились с другими полученными данными и подтверждали высказанное предположение.
По результатам анализа выявлено повышенное накопление кадмия в сухом веществе растений, в первую очередь в соломе (от 1.5- до 8-кратного увеличения содержания ТМ по отношению к таковому в почве в варианте 50 мг Cd2+/кг). В то же время переход кадмия в зерно оказался куда меньше, а именно 0.162–0.278% от внесенного в почву количества кадмия (только для устойчивых сортов, у чувствительных урожай получить не удалось). Тем не менее, накопление кадмия в зерне минимум в 81 раз превышало нормы (0.1 мг/кг), установленные гигиеническими требованиями безопасности продовольственного сырья и продуктов (СанПиН 2.3.2.1078-01).
Отмечено, что, как и с большинством предыдущих показателей, значимые различия между группами контрастных сортов выявлены в вариантах с внесением в почву 50 мг Cd2+/кг. В среднем чувствительные сорта накапливали кадмий в существенно больших количествах, чем устойчивые. В то же время в случае с вариантом 25 мг Cd2+/кг четкой дифференциации как между группами контрастных сортов, так и между отдельными сортами выявить не удалось. Более того, наибольшее накопление ТМ при этой дозе кадмия было отмечено в соломе устойчивого сорта Симфония (хотя с зерном была обратная ситуация, и максимальное накопление кадмия выявлено у чувствительного сорта Malva). Таким образом, отчетливой закономерности вскрыть не удалось, и это свидетельствовало о том, что внутривидовой полиморфизм устойчивости к ТМ наиболее ярко проявлялся при дозах поллютанта, близких к летальным.
На основе полученных данных можно сделать вывод, что формирование внутривидового полиморфизма по устойчивости ячменя к действию кадмия по крайней мере определяется особенностями накопления ТМ в тканях растений. Кадмий активно поступает в организм растения из почвы, накапливаясь в соломе в количестве, значительно превышающем исходное, однако в генеративные органы его переходит существенно меньше. Причем эти закономерности отмечают в первую очередь при внесении в почву высоких доз Cd2+. Вероятно, при меньших концентрациях стрессора защитные системы растений, связанные с селективным поступления ионов через корень, еще достаточно эффективны в ограничении поступления во внутреннюю среду организма нежелательных веществ. В определенной степени барьерную роль играет и проводящая система растения, ограничивающая поступление кадмия в генеративные органы. Бóльшая эффективность работы этой системы у устойчивых сортов позволяет им успешно завершить жизненный цикл и дать урожай даже в условиях серьезной стрессовой нагрузки. Что касается растений чувствительных сортов, то их развитие в большинстве случаев фактически останавливается в фазе кущения, а колос не образуется совсем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ полученных экспериментальных данных показал, что на всех этапах развития растений ячменя на дерново-подзолистой почве токсическое воздействие кадмия выражено в достаточной степени. При дозе кадмия 25 мг/кг наблюдаемые эффекты уже обнаруживались, но еще не столь сильно, чтобы проявиться как значимые различия между группами устойчивых и чувствительных сортов. В то же время при дозе 50 мг Cd2+/кг различия становились отчетливыми, было отмечено существенное угнетение чувствительных сортов, в то время как устойчивые относительно успешно переносили токсический стресс. Оценка внешнего вида растений наглядно продемонстрировала внутривидовой полиморфизм ячменя в ответе на действие кадмия. В процессе анализа морфометрических показателей растений ячменя установлено, что при действии кадмия наблюдается подавление развития растительного организма, однако четкой дифференциации между группами контрастных сортов выявить не удалось. Отмечено, впрочем, что Cd2+ в дозе 25 мг/кг стимулировал развитие биомассы устойчивых сортов. Аналогичный эффект наблюдали и при дозе 50 мг Cd2+/кг, но только у устойчивого сорта Симфония.
Установлено, что обнаруженная при оценке воздействия кадмия на проростки дифференциация сортов ячменя на устойчивые и чувствительные сохранялась на протяжении всего жизненного цикла растения. Особенно отчетливо она проявилась при анализе показателей продуктивности. Так же, как и при изучении проростков, значимые различия между группами контрастных сортов выявлены при дозе 50 мг Cd2+/кг. Внесение кадмия в указанной концентрации в почву приводило к значительному сокращению урожая чувствительных сортов, в то время как устойчивые сорта хотя и демонстрировали определенное угнетение, но все же в меньшей степени. В целом у чувствительных сортов по сравнению с устойчивыми оказалась меньше и масса соломы. Доза 25 мг Cd2+/кг оказалась недостаточной для развития значимых токсических эффектов и четкого разделения сортов на чувствительные и устойчивые.
Оценка накопления кадмия в надземной биомассе растений ячменя дала следующие результаты. В целом отмечено, что устойчивые сорта склонны накапливать в своих тканях ТМ в меньших количествах, чем устойчивые. Данный эффект проявлялся уже при дозе 25 мг Cd2+/кг и особенно при анализе накопления кадмия в зерне. Что касается соломы, то в этом случае различия были не столь очевидными: например, устойчивый сорт Симфония лидировал по накоплению кадмия в соломе, в то время как в зерне в этом случае содержалось минимальное среди всех 4-х сортов количество ТМ. При дозе 50 мг Cd2+/кг становилось совершенно очевидным, что в тканях чувствительных сортов кадмий накапливался в значительно больших количествах, чем устойчивых. Таким образом, можно полагать, что одна из причин формирования устойчивости к ТМ состоит в том, что у устойчивых сортов более эффективно работают механизмы, препятствующие поступлению токсических ионов в растительный организм.
Оценка биохимических показателей дала более противоречивые результаты. Например, при дозе 25 мг Cd2+/кг изменение содержания пролина не обнаружило отчетливых закономерностей, характеризующих различия в ответе на действие токсического стресса контрастных по устойчивости сортов ячменя. При внесении в почву 50 мг Cd2+/кг содержание данной аминокислоты в тканях возрастало, но нельзя сказать, чтобы у той или иной группы сортов оно было в целом больше или меньше. Лишь чувствительный сорт Malva продемонстрировал практически 7-кратный рост содержания пролина по сравнению с контрольным вариантом, значительно превзойдя по этому показателю все остальные сорта. Вероятно, растения этого сорта, будучи высокочувствительными к стрессу, нуждались в активной выработке этого метаболита для преодоления последствий негативных воздействий среды. Что касается содержания МДА, то в этом случае тоже не удалось выявить значимых различий между группами чувствительных и устойчивых сортов – показатели изменялись в пределах ошибки. Можно отметить, что при дозе кадмия 50 мг/кг уровень содержания МДА в тканях растений оказался меньше, чем при дозе 25 мг/кг. Подобные результаты, вместе с наличием четкого разделения особенностей реакции на вызванный кадмием стресс между группами контрастных по устойчивости сортов по продуктивности и морфометрическим показателям, свидетельствовали о том, что устойчивость или чувствительность растений ячменя к кадмию не связана прямо с выработкой пролина или накоплением МДА, а контролируется иными физиолого-биохимическими процессами. Рассмотренные показатели наглядно показали активную реакцию организма на стресс, однако не позволили увязать с ними эффекты устойчивости или чувствительности.
Оценка содержания фитогормонов в надземной биомассе, выполненная для дозы 50 мг Cd2+/кг, дала следующие результаты. Согласно полученным данным, при действии кадмия у растений ячменя сортов Местный и Са 220702 снижались концентрации основного ауксина растений ИУК на 30-е сут развития. На 50-е сут у всех сортов концентрации гормона были меньше контроля, но значимые различия выявлены только у чувствительного сорта Маlva. Касательно уровней ИМК, то на 30-е сут эксперимента отмечали и рост, и снижение содержания этого гормона у разных сортов независимо от того, устойчивые они или чувствительные. На 50-е сут содержание ИМК снижалось у 3-х сортов, но устойчивый сорт Местный демонстрировал уверенный рост этого показателя. Содержание зеатина оказалось пониженным в обоих рассмотренных вариантах, что могло свидетельствовать об угнетении развития генеративных органов растений при вызванном ТМ стрессе. Содержание АБК были значимо повышено в обеих фазах онтогенеза у всех сортов, за исключением сорта Са 220702 на 30-е сут эксперимента, хотя и в этом случае уровни содержания АБК заметно возрастали на 50-е сут. На 30-е сут у сортов Са 220702 и Местный увеличивалось содержание салициловой кислоты (СК) в тканях, на 50-е сут она возрастала у всех сортов, и только для сорта Местный это проявлялось в меньшей степени. В целом можно утверждать, что содержание ростовых гормонов сокращалось, а стрессовых – росло. При этом у устойчивых сортов количество стрессовых гормонов возрастало раньше (на 30-е сут), а ростовых на 50-е сут уменьшалось не настолько сильно. При различиях в каждом конкретном случае это в итоге могло способствовать их устойчивости к действию кадмия.
Касательно активности изученных ферментов можно утверждать, что концентрация кадмия в почве 50 мг/мл способствовала изменениям данного параметра. Характер таковых, вероятно, зависит от принадлежности сорта к категории чувствительный/устойчивый и от концентраций АФК в клетках в той или иной фазе вегетации растений. В целом чувствительные сорта Ca 220702 и Malva демонстрировали меньшую активность антиокислительных ферментов, чем устойчивые, что становилось заметно на 50-е сут эксперимента. В то же время у устойчивых сортов Симфония и Местный отмечали значимое повышение активности гваяколовой пероксидазы относительно контроля. Бóльшая активность таких ферментов способствовала более эффективному преодолению токсического стресса.
Материалы исследования могут быть полезны для сбора исходных данных для решения задач селекции устойчивых к действию тяжелых металлов сортов основных сельскохозяйственных культур. Несомненно и фундаментальное значение работы в рамках углубления понимания феномена устойчивости живых систем к средовому стрессу и механизмов его формирования.
Об авторах
А. В. Дикарев
Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”
Автор, ответственный за переписку.
Email: ar.djuna@yandex.ru
Россия, 249035 Обнинск, Калужская обл., Киевское шоссе, 1, корп. 1
Д. В. Дикарев
Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”
Email: ar.djuna@yandex.ru
Россия, 249035 Обнинск, Калужская обл., Киевское шоссе, 1, корп. 1
Д. В. Крыленкин
Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”
Email: ar.djuna@yandex.ru
Россия, 249035 Обнинск, Калужская обл., Киевское шоссе, 1, корп. 1
Список литературы
- Алексахин Р.М., Фесенко С.В., Гераськин С.А. Методика оценки экологических последствий техногенного загрязнения агроэкосистем. М.: Изд-во МГУ, 2004. 206 с.
- Clemens S. Molecular mechanisms of plants metal tolerance and homeostasis // Planta. 2001. V. 212. P. 475–486.
- Dandan L., Dongmei Z., Peng W., Nanyan W., Xiangdong Z. Subcellular Cd distribution and its correlation with antioxidant enzymatic activities in wheat (Triticum aestivum) roots // Ecotoxicol. Environ. Saf. 2011. V. 74. P. 874–881.
- Sgherri C., Quartacci M.F., Izzo R., Navari-Izzo F. Relation between lipoic acid cell redox status I wheat grown in excess copper // Plant Рhysiol. Biochem. 2002. V. 40. P. 591–597.
- Полесская О.Г. Растительная клетка и активные формы кислорода. М.: Университет, 2007. 139 с.
- Correa A.X. da R., Rorig L.R., Verdinelli M.A., Cotelle S., Ferrad J.F., Radecki C.M. Cadmium phytotoxicity: quantities sensitivity relationships between classical endpoints and antioxidative enzyme biomarkers // Sci. Total Environ. 2006. V. 357. P. 120–127.
- Leon A.M., Palma J.M., Corpas F.J., Gomez M., Romero-Puertas M.C., Chaterjee D., Mateos R.M., del Rio L.A., Sandalio L.M. Antioxidative enzymes in cultivars of pepper plants with different sensitivity to cadmium // Plant Physiol. Biochem. 2002. V. 40. P. 813–820.
- Liu X., Zhang S., Shan X.Q., Christie P. Combined toxicity of cadmium and arsenate to wheat seedlings and plant uptake and antoxidative enzymes response to cadmium and arsenate co-contamination // Ecotoxicol. Environ. Saf. 2007. V. 68. P. 305–313.
- Drazkiewicz M., Skorzynska-Polit E., Krupa Z. The redox state and activity of superoxide dismutase classes in Arabidopsis thaliana under cadmium and copper stress // Chemosphere. 2007. V. 67. P. 188–193.
- Baker A.J.M. Metal tolerance // New Phytol. 1987. V. 106. P. 93–111.
- Гераськин С.А., Дикарев А.В., Дикарев В.Г., Дикарева Н.С. Анализ внутривидового полиморфизма ячменя по устойчивости к действию кадмия // Агрохимия. 2021. № 8. С. 49–56.
- Дикарев А.В., Дикарев В.Г., Дикарева Н.С. Влияние нитрата свинца на морфологические и цитогенетические показатели растений ярового двурядного ячменя (Hordeum vulgare L.) // Агрохимия. 2014. № 7. C. 45–52.
- Дикарев А.В., Дикарев В.Г., Дикарева Н.С., Гераськин С.А. Внутривидовой полиморфизм ярового ячменя (Hordeum vulgare L.) по устойчивости к действию свинца // Сел.-хоз. биол. 2014. № 5. С. 78–87.
- Журбицкий З.И. Теория и практика вегетационного метода. М.: Наука, 1968. 260 с.
- Агрохимические методы исследования почв. М.: Наука, 1975. 656 с.
- Дикарев В.Г., Гераськин С.А., Дикарев А.В., Дикарева Н.С. Сравнительный анализ эффективности использования интеркалярных и апикальных меристем ячменя для биоиндикации генотоксического действия свинца // Экол. генетика. 2018. Т. 16. № 3. С. 37–46.
- Bates L.S., Waldern R.P., Teare I.D. Rapid determination of free proline for water-stress studies // Plant and Soil. 1973. V. 39. № 1. P. 205–207.
- Heath R.L., Packer L. Photoperoxidation in isolated chloroplasts. I. Kinetics and stoichiometry of fatty acid peroxidation // Arch. Biochem. Biophys. 1968. V. 125. № 1. P. 189–198.
- Биссвангер Х. Практическая энзимология. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. 328 с.
- Разыграев А.В., Петросян М.А., Базиян Е.В., Полянских Л.С. Исследование активности каталазы в гетеротопиях в экспериментальной модели эндометриоза // Журн. акушер. и женск. болезней. 2019. Т. 68. № 6. С. 57–63.
- Paglia D.E., Valentine W.N. Studies on the quantitative and qualitative characterization of erythrocyte glutathione perox-idase // J. Lab. Clin. Med. 1967. V. 70. № 1. P. 158–169.
- Шевякова Н.И. Роль γ-аминомасляной кислоты, пролина, цистеина в нейтрализации вредных воздействий на растительный организм // Физиология растений. 1983. Т. 30. № 4. С. 768–783.
- Бритиков Е.А. Биологическая роль пролина. М.: Колос, 1975. 124 с.
- Кузнецов В.В., Шевякова Н.И. Пролин при стрессе: Биологическая роль, метаболизм, регуляция // Физиология растений. 1999. Т. 46. № 2. С. 321–336.
- Дикарев А.В., Дикарев В.Г., Дикарева Н.С. Исследование фитотоксичности свинца для растений редиса и салата при выращивании на разных типах почв // Агрохимия. 2019. № 6. С. 72–80.
- Bücker-Neto L., Paiva A.L.S., Machado R.D., Arenhart R.A. Interactions between plant hormones and heavy metals responses // Genet. Mol. Biol. 2017. V. 40. P. 373–386.
- Sauer M., Robert S., Kleine-Vehn J. Auxin: simply complicated // J. Exp. Bot. 2013. V. 64. P. 2565–2577.
- Sakakibara H. Cytokinins: activity, biosynthesis, and translocation // Annu. Rev. Plant Biol. 2006. V. 57. P. 431–449.
- Лутова Л.А., Ежова Т.А., Додуева И.Е., Осипова М.А. Генетика развития растений. СПб.: Наука, 2010. 539 с.
- Wani S.H., Kumar V., Shriram V., Sah S.K. Phytohormones and their metabolic engineering for abiotic stress tolerance in crop plants // Crop. J. 2016. V. 4. P. 162–176.
- Vishwakarma K., Upadhyay N., Kumar N., Yadav G. Abscisic acid signaling and abiotic stress tolerance in plants: A Review on current knowledge and future prospects // Front. Plant Sci. 2007. V. 8. P. 161.
- Ding P., Ding Y. Stories of salicylic acid: a plant defense hormone // Trend. Plant Sci. 2020. V. 25. № 6. P. 549–565.
- Khan M.I.R., Fatma M., Per T.S., Anjum N.A. Salicylic acid-induced abiotic stress tolerance and underlying mechanisms in plants // Front. Plan. Sci. 2015. V. 6. P. 462.
- La V.H., Lee B.-R., Zhang Q., Park S.-H. Salicylic acid improves drought-stress tolerance by regulating the redox status and proline metabolism in Brassica rapa L. // Hortic. Environ. Biotechnol. 2019. V. 60. P. 31–40.
Дополнительные файлы