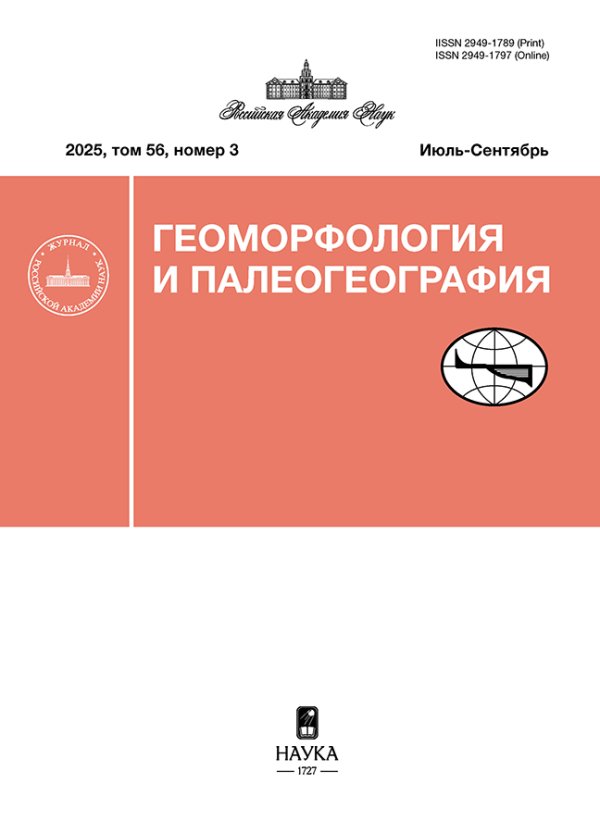Pleistocene loess-soil sequence and aeolian relief of Western Siberia: chronology and features of their formation
- Authors: Zykina V.S.1,2, Zykin V.S.1,2,3, Malikova E.L.1
-
Affiliations:
- Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, SB RAS
- Institute of Geography RAS
- Novosibirsk State University
- Issue: Vol 55, No 2 (2024)
- Pages: 34—62
- Section: LOESS-SOIL SERIES OF NORTHERN EURASIA
- URL: https://bakhtiniada.ru/2949-1789/article/view/276397
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949178924020029
- EDN: https://elibrary.ru/POMXAO
- ID: 276397
Cite item
Full Text
Abstract
The article discusses the current state of chronostratigraphy and paleogeography of the loess-soil sequence of the Pleistocene of Western Siberia, which is one of the most complete in Northern Eurasia. It is shown that genetically loess is closely related to eolian formations formed as a result of activation of eolian processes in earlier arid epochs of the Late Cenozoic in North Asia. A deflationary and accumulative eolian relief, paragenetically associated with the formation of the subaerial formation, is described, showing a slight transfer of material that forms the loess stratum. It has been established that the eolian relief and the activation of eolian processes occurred during the cold periods of the Pleistocene with the predominance of southwestern winds. The basis of the stratigraphic subdivision and correlation of sections of the loess strata are fossil soils formed under strictly defined climatic conditions. Consistent tracking of the loess and soil horizons of the loess sequence of the Pleistocene of Western Siberia, taking into account radiocarbon and luminescent dating and the use of climatostratigraphic correlations, showed that its structure and composition clearly reflect the uniqueness of each paleogeographic epoch, associated with changes in the intensity of atmospheric circulation in the cold and warm epochs of the Pleistocene. The features of each specific epoch are recorded in a combination of unique individual features of certain horizons of the loess-soil sequence. In the alternating horizons of loesses and soils, a record of global and regional changes in landscapes and climate has been preserved, reflecting the originality and uniqueness of the paleogeography of each time epoch. The structure and composition of the loess strata reflect the different intensity of atmospheric circulation during the cold and warm epochs of the Pleistocene. It is shown that the chronological sequence of the loess-soil sequence of Western Siberia, based only on OSL dates, does not always coincide with the loess-soil sequence of Western Siberia, built on the integration of various approaches, with the predominant use of the paleopedological method, and therefore needs to be corrected. The best correlation results are achieved by combining all available dating methods with the involvement of biostratigraphic, sedimentological and geological data, based on the climatostratigraphic principle.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Четвертичная субаэральная формация и парагенетически связанный с ней эоловый рельеф широко распространены на обширной территории Евразии. Основным компонентом этой формации является плейстоценовая лёссово-почвенная последовательность. Ее состав и строение отражает общую интенсивность атмосферной циркуляции (Muhs, Bettis, 2003; Muhs, 2013). Обычно она имеет покровное залегание и отчетливое циклическое строение, обусловленное закономерным климатически обусловленным чередованием разновозрастных горизонтов лёссов, ископаемых почв и криогенных образований, отражая последовательную смену влажных и аридных эпох плейстоцена (Muhs, 2013). Ее общая мощность составляет несколько десятков метров. Основным элементом лёссово-почвенной последовательности является лёсс, представляющий собой, по мнению большинства исследователей (Волков, 1971, 1980; Додонов, 2002; Зыкина, Зыкин, 2012; Кесь, Федорович, 1975; Muhs, 2013; и др.), серовато-желтую, серовато-коричневую или желтовато-серую, рыхлую, однородную, неслоистую, мелкопористую, карбонатную породу, сложенную преимущественно алевритом, образовавшимся из пыли, выпавшей из атмосферы в результате эоловой деятельности. Аккумуляция лёсса происходила в интервалы усиления эоловых процессов. Установлено, что лёсс в больших количествах формировался в зоне умеренного климата только во время оледенений, его образование в межледниковья неизвестно (Broecker, 2000). Лёссово-почвенная последовательность представляет собой один из наиболее значительных архивов глобальных и региональных изменений природной среды и климата на обширной внутриконтинентальной территории. Это одна из немногих внутриконтинентальных толщ, строение которой отражает структуру глобальных изменений климата в плейстоцене в масштабах океанической изотопно-кислородной шкалы. Лёссово-почвенная последовательность фиксирует изменения увлажнения и термического режима в течение четвертичного периода, имеющие сложный, нелинейный характер. Лёссово-почвенная последовательность распространена в различных климатических зонах (Додонов, 2002; Muhs, 2013). Особенно слабо изучены механизмы, контролирующие аридизацию климата умеренных широт (Manabe, Broccoli, 1990). В изучении субаэральной формации и эолового рельефа России большую роль сыграли работы Н.С. Болиховской, М.Ф. Веклича, А.А. Величко, И.А. Волкова, А.Е. Додонова, Н.И. Кригера, Т.Д. Морозовой, Н.А. Сиренко, Б.А. Федоровича.
В Евразии лёссы образуют три субширотных пояса, разделенных в пространстве и соответствующих климатическим зонам накопления лёссов (Додонов, 2002). Они отличаются строением лёссово-почвенной толщи, климатическими и ландшафтными условиями осадконакопления и почвообразования. Южный субтропический пояс охватывает лёссы Китая, Пакистана, Ирана, Средней Азии и Ближнего Востока между 30° и 45° с. ш. Среднеширотный лёссовый пояс простирается от Западной Европы до Центральной Якутии между 50° и 65° с. ш. Северный лёссовый пояс расположен на северо-востоке Евразии, в Северной Якутии в пределах от 68° до 73° с. ш. Расчленение и корреляция лёссовой толщи основаны преимущественно на климатостратиграфическом принципе, основным постулатом которого является обоснованное многочисленными данными положение о синхронности климатических событий на планете. Он позволяет выделять и прослеживать стратиграфические подразделения, отражающие климатические события, продолжительностью тысячи и десятки тысяч лет. Дополнительным доказательством одновременности климатических событий на планете можно считать синхронное увеличение скорости таяния ледниковых щитов Антарктиды и Гренландии в последнее десятилетие в связи с развитием глобального потепления.
Одна из наиболее полных лёссово-почвенных последовательностей среднего и верхнего плейстоцена установлена в Западной Сибири (Волков, 1971; Зыкина и др., 1981; Добрецов и др., 2003; Зыкина, Зыкин, 2012). Западно-Сибирская лёссовая провинция расположена в центральной части среднеширотного лёссового пояса. Мощность лёссовой толщи этой территории достигает 120 м (Зыкина, Зыкин, 2012). Находясь почти в центре Евразийского континента, лёссовая толща Западной Сибири является важнейшим элементом для межрегиональных стратиграфических корреляций и сравнительного анализа ландшафтно-климатических изменений в аридных и семиаридных областях этого континента в плейстоцене, а также для выявления особенностей циркуляции атмосферы в областях западного переноса и регионов муссонной циркуляции. Строение лёссовой толщи Западной Сибири отражает разработанная в течение длительного времени (Волков, 1971; Зыкина и др., 1981; Зыкина, Зыкин, 2012; и многие другие) стратиграфическая последовательность, построенная на климатостратиграфическом принципе и непосредственном прослеживании горизонтов лёссов и почв с установлением отчетливых взаимоотношений между ними, а также комплексном применении палеопедологического, палеонтологического, литологического, палеомагнитного, радиоуглеродного и люминесцентного методов (рис. 1).
Рис. 1. Стратиграфическая схема лёссово-почвенной последовательности плейстоцена Сибири (Зыкина, Зыкин, 2012, с уточнениями). Горизонты почв: 1 — гумусовые, 2 — иллювиальные; 3 — криогенные образования; 4 — лёссы; 5 — стадии потепления; 6 — холоднее и короче, чем голоцен; интервалы: 7 — имеющие 14С-даты, 8 — имеющие люминесцентные даты; ПК — педокомплекс; Л — лёсс.
Fig. 1. Stratigraphic scheme of the loess-soil sequence of the Pleistocene of Siberia (Zykina, Zykin, 2012, with refinement). Soil horizons: 1 — humus soil horizons, 2 — illuvial soil horizons; 3 — cryogenic formations; 4 — loess; 5 — stage warming; 6 — colder and shorter than the Holocene; intervals: 7 — interval having 14C date, 8 — interval having luminescent dates; ПК — pedocomplex; Л — loess.
Так как строение и состав лёссово-почвенной последовательности плейстоцена тесно связано с процессами, происходящими в глобальном цикле накопления пыли: источник — транспорт — отложение, кратко охарактеризуем область развития этих процессов.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭОЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В КАЙНОЗОЕ СЕВЕРНОЙ АЗИИ
Лёсс входит в состав отчетливо парагенетически фациально дифференцированной в пространстве и времени группу субаэральных отложений (Волков, 1971). В ней достаточно четко различаются области широкого развития дефляции и накопления влекомого, преимущественно песчаного эолового наноса и области преобладания накопления взвешенного эолового наноса (лёсса). Генетически лёсс тесно связан с эоловыми образованиями, сформировавшимися в результате активизации эоловых процессов в более ранние аридные эпохи кайнозоя Северной Азии, наследуя их особенности. Более древними аналогами лёссов являются красноцветные карбонатные суглинки, алевриты и глины (Кесь, Федорович, 1975; Зыкин, 1982; Daxner-Höck et al., 1997; Ding et al., 1998; Höck et al., 1999), обычно распространенные в предгорной части межгорных котловин и имеющие покровное залегание. Формирование эоловых отложений в кайнозое Западной Сибири, связанное с интенсификацией эоловых процессов и аридизацией средних широт Азии, имеет длительную историю и прерывистый, неравномерный характер накопления эоловых осадков. Их образование в Северной Азии началось на рубеже эоцена и олигоцена на ее южных окраинах, в низкогорных районах. Здесь они встречаются в нижней части склонов горных хребтов по окраинам межгорных впадин и представлены неслоистыми красноцветными карбонатными глинами, алевритами и суглинками. Это буранская свита в Зайсанской впадине, свиты шанд-гол и бэгэр в Долине Озер в Монголии, карачумская свита во впадинах Юго-Восточного Алтая, а также красноцветная субаэральная толща на южном склоне хребта Восточный Танну-Ола (Зыкин, 2012). Дальнейшее развитие аридизации привело к образованию около 30 млн л. н. в Зайсанской впадине настоящих пустынь современного типа. На границе буранской и ошагандинской свит в Зайсанской впадине, в предгорьях хребта Сайкан установлены следы настоящей пустыни современного типа (Зыкин, 2012) в виде пустынной мостовой, карбонатной коры, пустынного загара, ветрогранников, растрескавшихся галек и валунов в результате интенсивной солнечной инсоляции, свидетельствующие о том, что в Северной Азии в это время существовали обширные дефляционные котловины, источники эоловой пыли и энергичные ветры, транспортирующие эоловый материал. Мощная толща красноцветных эоловых суглинков и глин, чередующихся с ископаемыми почвами, формировавшаяся в интервале 22—6.2 млн л. н., установлена на северо-восточном склоне Тибетского плато (Guo et al., 2002). Ее образование китайские исследователи связывают с аридизацией климата, обусловленной поднятием Тибета.
Две фазы интенсификации эоловой активности и аридизации климата выявлены в неогене. В конце позднего миоцена сильнейшая аридизация климата в Западной Сибири в павлодарское время привела к редукции стока, возникновению дефляционных котловин, поверхности денудации, карбонатных кор, а также формированию эоловых красноцветных отложений, заполнивших речные долины и котловины и образовавших покровы на междуречьях (Зыкин, 1982). Детальные исследования хорошо охарактеризованной палеонтологически карабулакской свиты в Зайсанской впадине, на северном склоне хребта Сайкан на р. Калмакпай показало, что она сложена желтовато-коричневыми, с красноватым оттенком, карбонатными, среднезернистыми, алевритовыми, полимиктовыми песками с большим количеством полых корнеходов растений. Эти особенности строения карабулакской свиты позволяют рассматривать ее, как толщу формировавшуюся преимущественно эоловым путем, в зоне накопления влекомого эолового наноса. Время образования карабулакской свиты по фауне млекопитающих определено концом позднего миоцена (Вангенгейм и др., 1993). К северным склонам Казахского мелкосопочника и его речным долинам приурочены хорошо охарактеризованные фауной млекопитающих эоловые красноцветные отложения, датированные терминальным миоценом (Зыкин, 1982). В Шилко-Ононской области Забайкалья миоценовая и плиоценовая эпохи аккумуляции разделяются эпохой денудации. В это время здесь Е.И. Корнутова (1984) предполагает существование пустынных условий, обусловивших пустынный загар и образование ветрогранников. Отсутствие в малакофауне Западной Сибири на протяжении всего раннего плиоцена видов из Средней Азии, среди которых известны представители родов Corbicula и Odhneripisidium, без орографических преград между этими территориями, можно объяснить только наличием в это время единственного препятствия — устойчивой зоны пустынь в Средней Азии и Юго-Западном Казахстане. По данным Б.И. Пинхасова (1984), в конце позднего миоцена и раннем плиоцене в Западной Туркмении, Прикаспии, Южном Приаралье и Кызылкумах происходили процессы денудации в условиях жарких аридных пустынь или полупустынь при отсутствии гидрографической сети. В начале позднего плиоцена в Западной Сибири фиксируется менее интенсивная эпоха аридизации климата, во время которой в Павлодарском Прииртышье образовались дефляционные котловины с клиньями усыхания на дне, заполненные красноцветными субаэральными отложениями аксорских слоев, а также накапливались субаэральные красноцветы вторушкинской свиты Восточного Казахстана, терекской свиты Горного Алтая и чикойской свиты Западного Забайкалья и Северной Монголии (Зыкин, 2012). Эта аридная эпоха совпадает с резкой тектонической активизацией, как во всей Внутренней Азии — поднятием Тибета, Гималаев, Тянь-Шаня, так и во многих регионах мира, а также глобальным похолоданием климата. В конце раннего плейстоцена, близ рубежа хронов Брюнес и Матуяма на юге Западно-Сибирской равнины началось лёссовое осадконакопление, связанное с аридизацией климата в холодные эпохи.
ЭОЛОВЫЙ РЕЛЬЕФ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Образование лёссовой толщи Западно-Сибирской равнины в плейстоцене сопровождалось формированием эолового рельефа, широко распространенного на этой территории. Этапы его формирования, как было показано еще И.А. Волковым (1976), соответствуют образованию горизонтов лёссовой толщи Западно-Сибирской равнины и совпадают с фазами активизации эоловых процессов. Ориентировка эолового рельефа является наиболее надежным индикатором важного параметра циркуляции атмосферы — направления господствующих ветров во время его образования в геологическом прошлом. Несмотря на то, что современные эоловые образования занимают в Западной Сибири небольшие участки, связанные в основном с антропогенной деятельностью, хорошо сохранившийся реликтовый эоловый рельеф, возникший в четвертичное время, занимает значительные площади. Эоловый рельеф Западной Сибири состоит из отрицательных дефляционных и аккумулятивных форм рельефа.
На юге Обь-Иртышского междуречья эоловый рельеф образует единую систему обособленных, сомкнутых, но разобщенных, пространственно дифференцированных и парагенетически связанных территорий различного протекания эоловых процессов с закономерной ориентировкой форм рельефа согласно однонаправленным юго-западным ветрам, отчетливо отражающую последовательность процессов в глобальном цикле накопления пыли: источник-транспорт-отложение. В западной части междуречья, в Западной Кулунде расположена обширная территория, представляющая дефляционную поверхность с огромным количеством замкнутых преимущественно неглубоких дефляционных котловин, различных размеров (рис. 2).
Рис. 2. Дефляционный рельеф времени последнего оледенения в западной части Кулундинской равнины с большим количеством выдутых ветром мелких округлых котловин, заполненных в настоящее время водой (источник: ArcGIS Earth).
Fig. 2. Deflationary relief of the time of the last glaciation in the western part of the Kulunda Plain with a large number of small rounded basins blown by the wind and filled with water in Holocene (source: ArcGIS Earth).
Редкие крупные котловины резко контрастируют с многочисленными мелкими. В них часто располагаются бессточные озера. Дефляционная поверхность и многочисленные котловины служили источником материала для образования лёссовых толщ и аккумулятивных форм эолового рельефа. На Кулундинской равнине восточная периферия этой территории непосредственно примыкает к Приобскому лёссовому плато, а севернее, в Барабе причленяется к площади распространения гривного рельефа, где замкнутые котловины перемежаются с гривами.
По мнению А. Гоуди с соавторами (Goudie et al., 2016), площадь распространения плоских замкнутых эоловых котловин (панов) на юге Западно-Сибирской равнины одна из крупнейших в мире. Доказательством дефляционного происхождения этих котловин в аридном климате являются пустынная мостовая, ветрогранники, карбонатная кора и пустынный загар на обломках и гальках коренных пород, растрескавшиеся крупные гальки и мелкие валуны на дне и склонах глубокой дефляционной котловины оз. Аксор в Павлодарском Прииртышье, образовавшейся во время ермаковского оледенения, соответствующего морской изотопной стадии (МИС 4) (Зыкин и др., 2003). Глубина котловины относительно междуречной равнины превышает 70 м. Уровень озера на 27.5 м ниже современного меженного уровня Иртыша. Для времени последнего сартанского оледенения в этой котловине установлено отчетливое циклическое чередование озерных песков, полигональных первично-песчаных жил и горизонтов пустынного выветривания и селективного выдувания, отражающие резкие изменения температуры и увлажнения климата тысячелетней продолжительности. На холодный климат времени активизации эоловых процессов указывают мерзлотные деформации на склонах котловины озера Аксор. Об аридном климате начальных стадий дефляции во время сартанского оледенения в МИС 2 свидетельствуют клинья усыхания на дне котловины оз. Чаны, образовавшейся в это время. Они также встречаются в основании гривной толщи в обрыве котловины оз. Чаны у пос. Квашнино. Часто на подветренном, северо-восточном берегу дефляционных котловин присутствуют вытянутые вдоль этого берега серповидные гривы (лунеты), сформированные материалом, выдутым из котловины (рис. 3).
Рис. 3. Серповидные, поперечные господствующим ветрам эоловые гряды (гривы) времени последнего оледенения на подветренных берегах озерных котловин, сложенные материалом, вынесенным из них, и продольная грива на юго-восточном берегу оз. Саргуль.
Fig. 3. Crescent-shaped, transverse to the prevailing winds, eolian ridges (grivas) on the lee shores of lake basins, composed of material taken out of them, and a longitudinal griva on the southeastern shore of the Lake Sargul.
Расположение дефляционных котловин юго-западнее относительно поперечных ветру аккумулятивных форм (грив) показывает значительное усиление юго-западных циклонических ветров, оказывавших мощное эрозионное и аккумулятивное воздействие на земную поверхность в умеренных широтах. Более древними образованиями, по-видимому, являются бессточные дефляционные, достаточно крупные котловины озер Чаны, Кулундинского, Кучук, Кызыл-Как, Теке, Киши-Карой, Силетитениз, Улькен-Карой. Глубина этих дефляционных котловин превышает 70 м. Эоловый вынос материала из них происходил неоднократно во время эпох похолоданий и аридизации климата.
Рис. 4. Гривный рельеф Чановской котловины времени последнего оледенения, сложенный продольными юго-западным ветрам низкими гребнями (гривами).
Fig. 4. The grivas relief of the Chany depression of the time of the last glaciation, composed of low longitudinal ridges (grivas) to the southwest winds.
Севернее дефляционной поверхности и северо-западнее Приобского плато, на Барабинской равнине, широко распространен хорошо сохранившийся гривный рельеф последнего оледенения, состоящий из вытянутых с юго-запада на северо-восток гряд высотой 5—15 м, параллельно господствующим в настоящее время ветрам (рис. 4). Обычно длина грив составляет несколько километров, а ширина до 1.5 км. Аккумулятивные эоловые формы рельефа на этой территории обычно парагенетически связаны с дефляционными формами рельефа в виде замкнутых неглубоких котловин, часто вытянутых в том же направлении. Несколько меньший размер имеют серповидные гривы, расположенные на северо-восточных бортах выдутых котловин. В основном гривы приурочены к участкам достаточно крупных неглубоких понижений, выработанных в результате площадной дефляции на их начальных этапах (Чановская котловина — рис. 4, Суминское займище и др.). Гривы сложены коричневато-желтыми, преимущественно мелкозернистыми, не слюдистыми песками, супесями и алевритами. Для них характерна типичная эоловая слоистость, представленная субгоризонтальными слоями неодинаковой мощности до 5 см, с неровными, неправильно мелкоямчатыми, несколько деформированными волнистыми границами между ними. Внутри слоев развита мелкая, несимметричная эоловая рябь. Материал, слагающий гривную толщу, выдут из многочисленных дефляционных котловин, расположенных юго-западнее.
Рис. 5. Геологический разрез юго-восточного борта котловины оз. Чаны. 1 — суглинок; 2 — солифлюксий; 3 — песок; 4 — алеврит; 5 — мерзлотные клинья; 6 — погребенная почва; 7 — эоловые отложения; 8 — озерные отложения.
Fig. 5. Geological section of the southeastern flank of the Chany Lake basin. 1 — loam; 2 — solifluction deposits; 3 — sand; 4 — silt; 5 — ice wedge casts; 6 — buried soil; 7 — aeolian deposits; 8 — lacustrine deposits.
Гривы образованы двумя разновозрастными генерациями эоловых отложений, часто разъединенными позднеледниковой суминской почвой, клиньями усыхания или мерзлотными образованиями. Обнаружено также разделение двух гривных толщ озерными осадками с возрастом около 17.5 тыс. л. (¹⁴C дата 14295±185 BP, СОАН-6114) (Зыкин и др., 2009; рис. 5). В местах аккумуляции лёссового покрова эти толщи фациально переходят в тулинский и ельцовский лёссы. Иногда встречаются цокольные гривы, имеющие в основании абразионную гряду, сложенную криотурбированными озерными алевритами, по-видимому, каргинского возраста и облекаемую эоловыми песками, соответствующими ельцовской генерации лёссов. Примером подобной гривы является грива п-ва Мыс в северо-западной части оз. Чаны. Субаэральный генезис грив подтверждается характером границ между отдельными слоями, входящими в гривную толщу. Они не имеют следов эрозионного воздействия водной среды. В толще, слагающей гривы, отсутствует материал водной сортировки и следы оглеения, но присутствуют горизонты выветривания, несимметричная эоловая рябь, а также слабо развитые почвенные горизонты и мелкие трещины усыхания. Основание гривной толщи резкое неровное. В ее основании часто встречаются клинья усыхания, а в ее базальном слое, сложенном мелким гравием, в долине р. Оми у пос. Сергино, вдали от выходов коренных пород, был обнаружен состоящий из них мелкий ветрогранник. Севернее широтного отрезка Оби гривная толща сложена рыхлыми эоловыми песками (Величко, Тимирева, 2005) c горизонтами ветрогранников. Распространение субаэральных эоловых отложений и форм рельефа Западно-Сибирской равнины во время последнего оледенения показывает, что в то время эта территория представляла огромную холодную пустыню с характерными для нее эоловыми обстановками осадконакопления, обширными дефляционными поверхностями и замкнутыми дефляционными котловинами.
Уникальным объектом Западной Сибири является возвышенная территория Приобского степного плато, названная И.А. Волковым (1976) Приобской увалистой равниной, занимающей территорию Восточной Кулунды. Преобладание в его строении лёссовых пород позволяет относить его к лёссовым плато. Плато простирается от предгорий Алтая на юге до района г. Новосибирска на севере и имеет общий слабый наклон с юга на север.
На юге к Приобскому плато причленяется с запада территория дефляционной поверхности с огромным количеством выдутых котловин различных размеров и глубины, служащих источником материала для образования увалов. Сближенность источников пыли с территорией ее аккумуляции в виде лёссовых покровов показывает, что в эпохи эоловой активизации пыль не поднималась высоко в атмосферу, а отлагалась вблизи ее источников. На севере и северо-западе к Приобскому плато примыкает Барабинская равнина с широко развитым гривным рельефом. Характерной особенностью поверхности плато являются гигантские гряды (увалы), вытянутые прямолинейно с юго-запада на северо-восток и разделенные 14 широкими прямолинейными ложбинами. Протяженность увалов достигает 120—350 км, а ширина от 15 до 70 км (рис. 6).
Рис. 6. Гипсометрическая карта увалов Приобского лёссового плато. Увалы (оконтурены красной линией) представляют собой крупные гряды, вытянутые прямолинейно с юго-запада на северо-восток, почти параллельно друг другу. Протяженность увалов достигает 120—350 км, а ширина от 15 до 70 км. Они разделены широкими прямолинейными ложбинами шириной от 8 до 20 км; относительная высота увалов над ложбинами составляет от 5 до 100 м. Гипсометрическая карта выполнена на основе SRTM c разрешением 30 м (источник: https://opentopography.org/). Оформление выполнено в ArcGIS Pro.
Fig. 6. Digital elevation model of the Uvals of the Priobskoye Loess Plateau. Ouvals (local name for crests) are ridges elongated in a straight line from the southwest to the northeast, almost parallel to each other (outlined by the red line). The length of the ouvals reaches 120—350 km, and the width is from 15 to 70 km. They are separated by wide rectilinear hollows from 8 to 20 km wide; relative height of ouvals above hollows is from 5 to 100 m. The map is based on SRTM DEM with 30 m resolution (source: https://opentopography.org/) and was designed in ArcGIS Pro.
Они возвышаются над разделяющими их ложбинами от 5 до 100 м. Ширина ложбин колеблется от 8 до 20 км. Увалы почти параллельны друг другу и имеют плоские вершины и очень пологие склоны. Увалы сложены лёссово-почвенной толщей среднего-верхнего плейстоцена, включающей 10 ископаемых педокомплексов (Зыкина, Зыкин, 2012), что свидетельствует о длительном времени формирования увалов, охватывающем средний и поздний плейстоцен. Ориентировка увалов и межувальных понижений почти параллельна северному фронту Горного Алтая.
Свидетельствами эолового происхождения увалистого рельефа Приобского плато являются строение увалов и межувальных понижений, сложенных лёссово-почвенными образованиями, горизонты которых параллельны современной поверхности увалов, прямолинейность этих форм рельефа, пологие склоны увалов без следов до голоценовой водной эрозии и вытянутость увалов и межувальных понижений согласно господствующим ветрам, а также отсутствие унаследованности тектоническим структурам фундамента, показанное многими исследователями (Малолетко, 1976). Межувальные понижения (ложбины) являются коридорами длительного выдувания во время холодных эпох плейстоцена. Морфологические особенности рельефа Приобского степного плато, его обособленность, размеры составляющих его элементов рельефа, позволяют рассматривать эту территорию крупнейшей на Земле системой мега-ярдангов (Pötter et al., 2023), формировавшейся в аридном климате при преобладающем участии эоловых процессов. Наиболее полно отражает историю формирования эолового рельефа в плейстоцене разрез у пос. Белово, представляющий поперечный разрез Порозихинско-Алейского увала (рис. 7). В нем отчетливо виден переход от отложений пластовой равнины, сформированной горизонтально залегающими горизонтами лёссов и почв, к толще лёссов, в которой горизонты почв и лёссов расположены почти параллельно современному рельефу, в том числе склонам увалов. Начало формирования увалов и коридоров выдувания (ложбин между ними), по-видимому, соответствует времени образования даниловского лёсса, залегающего под чарышской почвой, соответствующей МИС 13.
Рис. 7. Геологическое строение разреза Белово (Зыкина, Зыкин, 2012). 1 — суглинок; 2 — алеврит; 3 — супесь; 4 — песок; 5 — песок неясно слоистый; 6 — ископаемая почва; 7 — местоположения разрезов; педокомплексы: 8 — шадринский, 9 — чарышский, 10 — володарский, 11 — беловский, 12 — евсинский, 13 — искитимский, 14 — койнихинский, 15 — бердский.
Fig. 7. Geological structure of the Belovo section (Zykina, Zykin, 2012). 1 — loam; 2 — sandy silt; 3 — sandy loam; 4 — sand; 5 — indistinctly layered sand; 6 — fossil soil; 7 — locations of transects; pedocomplexes: 8 — Shadrinsky, 9 — Charyshsky, 10 — Volodarsky, 11 — Belovsky, 12 — Evsinsky, 13 — Iskitimsky, 14 — Koinikhinsky, 15 — Berdsky.
Западнее, на правобережье Оби к Приобской увалистой равнине примыкает обширная территория, сложенная лёссовыми покровами, чередующимися с горизонтами ископаемых почв.
ЛЁССОВО-ПОЧВЕННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЛЕЙСТОЦЕНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Западно-Сибирская лёссовая провинция расположена в центральной части среднеширотного лёссового пояса. Мощность лёссовой толщи этой территории достигает 120 м. Лёссово-почвенная последовательность Западной Сибири представляет собой один из наиболее полных палеоклиматических архивов Северной Евразии (Волков, 1971; Зыкина и др., 1981; Добрецов и др., 2003; Зыкина, Зыкин, 2012). Отраженная в нем запись климатических событий четко фиксирует периодические изменения природной среды и климата Сибири, происходившие в течение ее формирования. Уникальной особенностью лёссовой толщи Западной Сибири является наличие в ней ископаемых почв, объединенных в педокомплексы, состоящие из 2—3 почв, разделенных маломощными слоями лёссов. Педокомплексы отделены друг от друга значительно более мощными слоями лёсса.
Основой стратиграфического расчленения и корреляции разрезов лёссовой толщи являются ископаемые почвы (Волков, 1971; Зыкина, 1986, Зыкина, Зыкин, 2012; и др.), сформированные в строго определенных климатических условиях, неповторимых для каждой теплой эпохи. Возможность этих стратиграфических операций обусловлена установлением в вертикальной последовательности почвенных и лёссовых горизонтов в единых наиболее полных разрезах их неповторимых особенностей и морфотипических признаков, отражающих уникальность и продолжительность каждой климатически обусловленной эпохи почвообразования и лёссонакопления, отраженных в глобальных записях климата. Возможность использования ископаемых почв в качестве четких стратиграфических и палеогеографических уровней подтверждается синхронностью формирования верхнеплейстоценовой верхней искитимской почвы и ее возрастных аналогов на сотни километров в различных районах Сибири, установленной радиоуглеродным методом (Зыкина и др., 1981; Зыкина и др., 2000; Зыкина, Зыкин, 2012; Haesaerts et al., 2005). Каждому стратиграфически выдержанному горизонту ископаемой почвы соответствуют определенные криогенные деформации, свойственные каждой почве.
К настоящему времени на юге Западной Сибири изучено более 100 лёссово-почвенных разрезов. Сопоставление разрезов на основании прослеживания стратиграфически выдержанных почвенных и лёссовых горизонтов, имеющих одинаковые морфотипические признаки на большой территории, при отсчете стратиграфических горизонтов сверху от современной поверхности и снизу от границы Брюнес–Матуяма, позволило разработать детальную стратиграфическую схему лёссово-почвенной формации юга Западной Сибири (Зыкина, Зыкин, 2012) и установить почти полную последовательность субаэрального осадконакопления (рис. 1). Для установления стратиграфической последовательности использовалось комплексное применение радиоуглеродного (Зыкина и др., 1981; Зыкина и др., 2000; Зыкина, Зыкин, 2012; Haesaerts et al., 2005; и др.) и люминесцентного (Zander et al., 2003; Frechen et al., 2005; Chlachula, Little, 2011) датирования, биостратиграфические и палеомагнитный методы (Зыкина, Круковер, 1988; Архипов и др., 1997; Круковер, 1992; Krukover, 2007; Смолянинова и др., 2011; и др.). Расчленение и корреляция лёссовой толщи основаны на климатостратиграфическом принципе. Стратиграфическая последовательность контролировалась положением главного магнитостратиграфического репера плейстоцена — границы Брюнес–Матуяма. Палеомагнитные данные из разреза Мраморный показывают, что граница Брюнес–Матуяма проходит в самой верхней части евсинского педокомплекса (Поспелова, Гнибиденко, 1982; Волков и др., 1984), а в разрезах Белово, Вяткино, Володарское — в суглинке между почвами евсинского педокомплекса (Зыкина и др., 2000; Чиркин и др., 2009; Смолянинова и др., 2011).
В последние годы для уточнения хронологической основы лёссово-почвенной шкалы плейстоцена Западной Сибири было проведено люминесцентное датирование нескольких лёссовых разрезов (Курбанов и др., 2020; Вольвах и др., 2021; Зыкина и др., 2021; Вольвах 2022; Meshcheryakova et al., 2022; Volvakh et al., 2022), в том числе лектостратотипического для нескольких горизонтов лёссово-почвенной шкалы разреза Ложок. Было получено в общей сложности 98 люминесцентных дат. Полученные результаты оказались весьма дискуссионными. Многие даты хорошо укладываются в разработанную стратиграфическую схему лёссовой толщи Западной Сибири. Другая часть дат показала несоответствие установленной ранее стратиграфической последовательности лёссовой толщи этой территории и привела авторов к пересмотру стратиграфического положения некоторых горизонтов в конкретных разрезах верхнего плейстоцена, с чем мы не всегда можем согласиться.
При корреляции разрезов последнего межледниковья и определения их возраста, как и других событий плейстоцена, мы исходим из их продолжительности и их термического режима, отраженных в глобальных климатических ритмах (изотопно-кислородные записи в донных осадках Мирового океана и полярных ледяных кернах), данных о мощности, продолжительности формирования и термических условиях формирования плейстоценовых почв в разных регионах мира, которые, в общем, совпадают с нашими данными. Поэтому если слабо развитая автоморфная ископаемая почва, формировавшаяся в более прохладных условиях и более короткое время, чем современная, на основании люминесцентных дат по полевым шпатам, относится к последнему межледниковью, которое было теплее и продолжительнее современного, то предпочтение отдавалось климатостратиграфической корреляции на основе палеопедологического метода.
В полной лёссово-почвенной последовательности среднего-верхнего плейстоцена в пределах палеомагнитной эпохи Брюнес Западной Сибири выделяется 10 педокомплексов, соответствующих теплым нечетным МИС, включая голоцен. Ниже рубежа хронов Брюнес и Матуяма расположен малиновский педокомплекс, состоящий из двух почв.
Евсинский педокомплекс открывает субаэральные отложения среднего плейстоцена Западной Сибири. На Приобской увалистой равнине педокомплекс представлен двумя ископаемыми почвами — луговой и лугово-черноземной, разделенных прослоем опесчаненного, оглеенного, карбонатного суглинка. Нижняя луговая почва имеет гумусовый горизонт мощностью до 1.5 м, а верхняя лугово-черноземная — 1.2 м. Общая мощность педокомплекса составляет 3.2 м. Почвы имеют тяжелый механический состав: содержание илистой фракции в нижней почве — до 33.9 %, а верхней почве — до 38.6 %. Для почв характерны гуматный состав органического вещества, высокие отношения Сгк/Сфк, преобладание фракции гуминовых кислот, связанной с кальцием. В Новосибирском Приобье педокомплекс состоит из двух совмещенных ископаемых почв. Нижней луговой солонцеватой соответствует иллювиальный горизонт с мелкоореховато-призматической структурой мощностью 0.5 м, а верхняя лугово-черноземная представлена плотным, гумусовым горизонтом мощностью 0.65 м. Верхняя часть горизонта разбита сетью трещин усыхания, свидетельствующих о длительном этапе выветривания почвы. Для почв характерна значительная оглиненность (фр. <0.001 мм до 45 %).
Педокомплекс регионально распространен, охарактеризован ранневяткинской микротериофауной, возрастным аналогом которой является фауна тираспольского комплекса (Зыкина и др., 2000). Приведенные выше палеомагнитные данные определяют его сопоставление с МИС 19, к которой приурочена граница Брюнес–Матуяма (Bassinot et al., 1994). Ниже педокомплекса находится местонахождение мелких млекопитающих поздней стадии развития раздольинского комплекса, относимого к эпизоду Харамильо (Зажигин, 1980).
Расположенный выше салаирский лёсс установлен в низовьях р. Бердь и прослежен в разрезах Приобской увалистой равнины в виде серовато-коричневого, плотного, карбонатного, опесчаненного в основании суглинка мощностью 3—6 м. Иногда он имеет неясную горизонтальную слойчатость и является материнской породой для беловского педокомплекса. Салаирский лёсс соответствует мансийскому горизонту стратиграфической схемы Западно-Сибирской равнины и отнесен к МИС 18.
Беловский педокомплекс мощностью 10.2 м, широко представленный на Приобской увалистой равнине, состоит из трех ископаемых почв, разделенных горизонтами суглинков. Нижняя почва полигенетического строения, прошедшая начальную луговую стадию развития и завершающую лугово-черноземную, имеет мощность профиля до 1.5 м. Выше, отделенная 1.0 м лёссовидного суглинка, расположена луговая средняя почва, мощность профиля которой равна 1.0 м. Завершает педокомплекс верхняя лугово-черноземная почва с мощностью профиля 1.15 м, расположенная выше на лёссовидном суглинке мощностью 1.8 м. Нижняя ископаемая почва имеет самый большой гумусовый горизонт (до 1.2 м), очень много нор землероев размером 10—15 см, карбонатные новообразования представлены псевдомицелием, пятнами, конкрециями. Верхняя почва не достигает мощности и зрелости нижней почвы, однако превосходит среднюю. Все почвы имеют тяжелосуглинистый механический состав (фракция <0.001 мм в bl1 до 41.3 %; bl2 до 36.2 %; bl3 до 38.4 %), состав органического вещества показывает доминирующее содержание гуминовых кислот, преимущественно фракции, связанной с кальцием. В почвах комплекса обнаружены остатки грызунов среднеплейстоценового вяткинского комплекса (Круковер, 1992), которые по эволюционному уровню соответствуют фауне типового местонахождения вяткинского комплекса, описанного В.С. Зажигиным (1980). Беловский ПК отнесен к талагайкинскому горизонту и перекрывается вяткинским покровом лёсса. Он сопоставлен с МИС 17.
Вяткинский лёсс представлен суглинком тяжелым, серовато-коричневым, уплотненным, карбонатным, в кровле с признаками оглеения и ожелезнения. Мощность его равна 9 м. Содержание фракции <0.001 мм и преобладающей крупной пыли несколько меньше, чем в салаирском лёссе. Он соответствует талагайкинскому горизонту и МИС 16. Стратиграфическое положение его определяется распространением на характерном беловском педокомплексе, имеющем биостратиграфическую характеристику.
Володарский педокомплекс имеет мощность до 3.2 м и состоит из двух палеопочв. Верхняя почва луговая представлена гумусовым (1.5 м) и карбонатно-глеевым (0.3 м) горизонтами, непосредственно ниже которого залегает чернозем слабо выщелоченный, с гумусовым горизонтом 0.5 м и иллювиально-карбонатным — 0.9 м. Почвы имеют тяжелый механический состав (фракция <0.001мм — 39.5—41.5 %) и повышенную плотность. Для обеих почв характерна гуматная направленность формирования системы гумусовых веществ, гуматный состав гумуса аккумулятивных горизонтов, соотношение Cгк/Cфк больше единицы. Данная эпоха почвообразования отличается от более ранних теплых эпох формированием в первую половину потепления почв черноземного типа, что возможно лишь при расчлененном рельефе и низком уровне грунтовых вод. Фауна грызунов из нор землероев почв соответствует среднеплейстоценовому вяткинскому комплексу, более позднему этапу ее развития (Круковер, 1992). Родовой и видовой состав мелких млекопитающих вяткинского комплекса, характерного для среднего плейстоцена, указывает на преобладание в теплые эпохи этого времени на Обь-Иртышском междуречье открытых степных пространств (Зажигин, 1980). Обе почвы достаточно мощные и значительно оглиненные сформировались в условиях умеренного теплого и влажного климата. Педокомплекс отнесен к талагайкинскому горизонту, сопоставляется с МИС 15.
Даниловский лёсс мощностью 20 м выделен на Приобской увалистой равнине в разрезе Белово на левобережье Оби (Зыкина и др., 2000), представлен суглинком тяжелым коричнево-серого цвета. Его нижняя часть толщиной 1 м от основания оглеена и опесчанена, а выше замещается слоем мелкозернистых, полимиктовых, хорошо сортированных, не слюдистых песков влекомого наноса с преобладанием горизонтально-слоистых прослоев мощностью 6.0 м и затем переходит в суглинок до 14 м мощности, тяжелый (фракция <0.001мм — 33.3 %), серовато-коричневого цвета, плотный, с марганцовистым крапом и точечным ожелезнением, с мелкими сфероидами до 1 см в диаметре. Даниловский лёсс соответствует тильтимскому горизонту стратиграфической схемы четвертичных отложений Западно-Сибирской низменности и сопоставляется с МИС 14.
Чарышский педокомплекс представлен почвенной толщей полигенетического строения, в профиле которой отчетливо видно совмещение двух черноземов. Нижняя почва сформировалась по типу черноземов оглиненных, чему соответствует хорошо развитый оструктуренный иллювиальный горизонт с максимальным содержанием илистой фракции (фракция <0.001 мм — 41.3 %), мощность которого 1.3 м. Верхняя почва развивалась по типу черноземов обыкновенных, мощность гумусового горизонта 0.7 м. Формирование нижнего чернозема происходило в более влажных условиях, чем в завершающую. Наличие карбонатных новообразований (белоглазки) в верхней части иллювиального горизонта нижней почвы свидетельствует о последующем более аридном этапе почвообразования. Общая мощность педокомплекса равна 2 м. Процесс гумусообразования обеих почв характеризуется гуматной направленностью и высокими абсолютными значениями Cгк/Cфк (1.83 и 2.28) гумусового горизонта. Чарышские черноземы отличаются от современных черноземов Западной Сибири большей мощностью гумусовых горизонтов, что связано с большим временем их формирования. Педокомплекс отнесен к тильтимскому горизонту, а по своему строению соответствует структуре теплой стадии МИС 13.
Морозовский лёсс выделен на Приобской увалистой равнине в разрезе Белово (Зыкина и др., 2000), представлен суглинком тяжелым (фракция <0.001мм до 35.5 %) коричневато-серого цвета, плотным, карбонатным (псевдомицелий и мелкие карбонатные конкреции), содержащим мелкие марганцовистые конкреции и точки, а также единичные листоватые глинистые округлые новообразования (сфероиды). К основанию слоя появляются мелкие глеевые пятнышки и горизонтально-полосчатое ожелезнение. Мощность лёсса равна 7 м. Морозовский лёсс сопоставляется с низямским горизонтом, соответствует МИС 12.
Шадрихинский педокомплекс представлен сложно построенной палеопочвенной толщей полигенетического строения мощностью 3 м, в которой совмещены профили двух ископаемых почв: нижней серой лесной и верхней — чернозема луговых степей. К профилю нижней почвы относятся фрагменты элювиального и иллювиального с ореховато-призматической структурой горизонтов, мощность которых равна 2 м. К верхней почве мощностью 1 м относятся гумусовый и карбонатно-иллювиальный горизонты. Гумусовый горизонт верхней почвы имеет мощные гумусированные языки-затеки шириной у основания до 15 см и глубиной до 1.5 м, секущие нижележащий иллювиальный горизонт. Повышенная оглиненность толщи (фракция <0.001мм 39.6—41.4 %), заметная выщелоченность, накопление гидроксидов железа и алюминия в хорошо оструктуренном иллювиальном горизонте коричневого цвета, а также его характерное микростроение (Зыкина, Зыкин, 2012), свидетельствуют о довольно влажных условиях формирования этой почвы. Последующая фаза педогенеза протекала по черноземному типу. Это констатируется наличием хорошо оформленного гумусового горизонта и карбонатного, выполненного глазковыми формами и псевдомицелием, наличием нор землероев. Гумусонакопление было ведущим почвообразовательным процессом этого времени. Состав органического вещества и микроморфологические признаки гумусового горизонта (Зыкина, Зыкин, 2012) подтверждают черноземный характер верхних почв. Микростроение иллювиальных горизонтов свидетельствует о проявлении процессов лёссиважа и оподзоливания. Эти процессы почвообразования характерны для современных серых лесных почв. Нижняя лесная почва характеризуется гуматно-фульватным и фульватным составом гумуса. Шадрихинский педокомплекс хорошо прослеживается в лёссово-почвенных разрезах как важный стратиграфический репер, для него характерна фауна мелких млекопитающих среднеплейстоценового возраста. Он отнесен к тобольскому горизонту и сопоставлен с МИС 11.
Шибаевский лёсс мощностью до 5 м представлен залегающим в виде покрова желтовато-коричневым лёссовидным суглинком, имеющий в нижней части местами неясную горизонтальную слоистость. Он соответствует самаровскому горизонту и сопоставлен с МИС 10.
Шипуновский педокомплекс мощностью 3.0 м состоит из трех ископаемых почв, разделенных прослоями лёссовидных суглинков небольшой мощности. Верхняя палеопочва — чернозем слабо развитый, имеет мощность гумусового горизонта (AU) 0.2 м и переходного (ВС) — 0.3 м. Средний чернозем с гумусовым горизонтом 0.6 м и иллювиальным 0.4 м, отделен от нижней почвы суглинком в 0.35 м. Гумусовый горизонт нижней лугово-черноземной палеопочвы имеет мощность горизонта 0.75 м, а иллювиального 0.4 м. В лугово-черноземной почве проявились три характерных процесса — гумусонакопление, лёссиваж и оглеение, доминирующим почвообразовательным процессом чернозема было гумусонакопление (Зыкина, Зыкин, 2012). Максимальное содержание илистой фракции отмечается в нижней почве (<0.001мм до 35.6 %) и практически равномерное, но несколько ниже (<0.001мм до 25.3 %) в двух вышележащих почвах. Для палеопочв характерна гуматная направленность формирования системы гумусовых веществ, гуматный состав гумуса аккумулятивных горизонтов, соотношение Cгк/Cфк больше единицы. Педокомплекс отнесен к теплому ширтинскому интервалу. В структуре теплого шипуновского интервала отчетливо выделяется три теплых фазы, соответствующие по строению МИС 9.
Чулымский лёсс мощностью 5м представлен суглинком желтовато-серого цвета, уплотненным, карбонатным, неслоистым, с пятнами оглеения, ожелезнения и марганцовистой пунктации, присутствующими в нижней части горизонта. Он отнесен к тазовскому горизонту и сопоставлен с МИС 8.
Койнихинский педокомплекс (kn1—2) в Новосибирском Приобье состоит из двух черноземных палеопочв. Профиль верхней почвы представлен гумусовым (AU — 0.3 м) и переходным (BC — 0.2 м) горизонтами. Для нижнего чернозема характерен лучше сформированный и большей мощности профиль (АU — 0.4 м, ВCA — 0.6 м), что связано с более интенсивным почвообразованием ранней фазы педогенеза. Общая мощность педокомплекса составляет 1.8 м (Zykin, Zykinа, 2015). На Приобской увалистой равнине педокомплекс представлен почвенной толщей полигенетического строения, состоящей из двух совмещенных черноземных почв вторично поверхностно оглеенных (АUg — 0.3 м; AU — 0.3 м; BCA — 0.7 м). По сравнению с более древними среднеплейстоценовыми черноземами почвы койнихинского педокомплекса имеют меньшую мощность гумусовых горизонтов и профилей. По морфотипическим признакам они ближе к современным черноземам. Педокомплекс охарактеризован микротериофауной среднеплейстоценового возраста (Круковер, 1992). Он соответствует тазовскому горизонту, его стратиграфическое положение определяется залеганием непосредственно под горизонтом сузунского лёсса, имеющего OSL дату 158.2±9.9 тыс. л. н., соответствующую МИС 6 (Вольвах, 2022). Педокомплекс сопоставлен с МИС 7. Нижней палеопочве педокомплекса в записях Антарктиды (Petit et al., 1999) и Девилс Холл (Winograd et al., 1997) соответствует наиболее выраженный пик подстадии МИС 7е.
Сузунский лёсс мощностью до 6м представлен легким и средним суглинком, желтовато-коричневого цвета, слабо пористым, неслоистым, хорошо сортированным. Горизонт менее оглиненный (фракция <0.001 мм 22.3—25.1 %), карбонатный. Он включен в состав тазовского горизонта, сопоставлен с МИС 6. Стратиграфическое положение определяется распространением его непосредственно ниже характерного бердского педокомплекса, а также полученной OSL датой 158.2±9.9 тыс. л. н. (Вольвах, 2022).
Бердский педокомплекс представлен двумя ископаемыми палеопочвами черноземного типа. Нижняя полигенетического строения почва мощностью 1.5 м (AU — 0.9 м; BI — 0.6 м) состоит из двух совмещенных черноземов, формировавшихся в казанцевское межледниковье. В раннюю половину межледниковья развивались черноземы с оструктуренными иллювиальными горизонтами, а в позднюю — черноземы с отчетливым карбонатно-иллювиальным горизонтом. Казанцевская эпоха почвообразования сопоставлена со стадией 5е изотопно-кислородной шкалы. Важным критерием отнесения этой палеопочвы к МИС 5е является наличие следов существенного развития криогенных процессов в виде криотурбаций и грунтовых жил, соответствующих МИС 5d, являющейся одной из самых холодных в Сибири (Карабанов и др., 2001). Значительная мощность казанцевских почв, зрелость и оглиненность профилей (фракция <0.001 мм 37.7—41.5 %), сближает их с почвами среднего плейстоцена и значительно отличает от вышележащих почв позднего плейстоцена. Ревизия лёссовых разрезов показала, что по морфотипическим признакам и положению в разрезах особенно четко прослеживается нижняя почва бердского педокомплекса, имеющая максимальную мощность профиля и наличие мощных криогенных гумусированных языков-затеков гумусового горизонта. Стратиграфическое положение нижней бердской почвы, сформировавшейся в казанцевское межледниковье, подтверждается полученными в разрезе Белово OSL датами: из гумусового горизонта — 126.8±6.4, иллювиального — 152.2±10.3 и верхней части сузунского лёсса — 158.2±9.9 (Вольвах, 2022).
Верхняя бердская почва в разрезах Западной Сибири представлена черноземом карбонатным слабо развитым. Его макро- и микроморфологические признаки, гуматный состав органического вещества гумусового горизонта, равномерное распределение основных окислов и илистой фракции по профилю почвы свидетельствуют о формировании этих почв в условиях степных ландшафтов. Она значительно отличается от нижней почвы слабо дифференцированным профилем небольшой мощности (гор. AU — 0.2 м; ВС — 0.25 м) и меньшей продолжительностью времени формирования (Зыкина, и др., 1981, 2000). Черноземов, сходных с современными, не формировалось из-за кратковременности эпохи и специфики климатических условий. Верхняя почва соответствует ермаковскому горизонту и сопоставлена с подстадией МИС 5с.
Тулинский лёсс представлен лёссовидным суглинком желтовато-серого или коричневато-серого цвета, неслоистого, местами переходящего в легкий лёссовидный суглинок мощностью до 7 м. Он залегает на бердском педокомплексе, имеющем OSL даты, и перекрыт осадками каргинского горизонта, что определяет его фиксированное стратиграфическое положение. Выделен в составе ермаковского горизонта, сопоставляется с МИС 4.
Искитимский педокомплекс представлен двумя слабо развитыми черноземами. Профиль верхней почвы состоит из гумусового (AU – 0.25 м) и переходного (BC – 0.5 м) горизонтов. Нижняя почва имеет более зрелый и лучше дифференцированный на генетические горизонты профиль (AU – 0.30—0.35 м; Вса — 0.6 м), что связано с более интенсивным и длительным почвообразованием ранней фазы педогенеза. Общая мощность педокомплекса составляет 1.65—1.7 м. Возраст образования верхней искитимской почвы по данным радиоуглеродного датирования расположен в интервале 24—35 тыс. л. н. (Зыкина и др., 1981). Искитимский педокомплекс практически всегда присутствует в разрезах лёссово-почвенных последовательностей и является прекрасным стратиграфическим репером. Его сохранность зависит от условий геоморфологического положения разрезов. Так на междуречных пространствах, в верхних частях склонов к долинам рек, вторых надпойменных террасах он представлен наиболее полно, и зачастую не столь сильно преобразован в условиях криогенеза. Морфотипические признаки и свойства искитимских почв сходны современным почвам, развивающимся в умеренно-континентальном климате по типу черноземных. Однако они не достигли зрелости профилей современных почв, что связано, вероятно, с меньшей продолжительностью времени их формирования. Педокомплекс отнесен к каргинскому горизонту и сопоставлен с МИС 3.
Ельцовский лёсс представлен коричневато-желтым карбонатным лёссовидным суглинком, пористым, неслоистым, слабо оглиненным (фракция <0.001 мм — 19.3 %), мощностью 2 м. Он объединяет субаэральные отложения времени сартанского оледенения, включая и комплекс отложений, слагающих гривы южной части Западной Сибири. Ельцовский лёсс формировался от 19—18 до 15—14 тыс. л. н. в условиях глубокой аридизации климата (Зыкина и др., 1981). Почва выделена в составе сартанского горизонта и соответствует 2 стадии изотопно-кислородной шкалы.
Суминская почва представлена в разрезах Западной Сибири слабо оструктуренным иллювиальным горизонтом мощностью 0.4 м. Верхняя граница горизонта неровная, разбита сетью трещин шириной у основания 2—5 см и глубиной до 12 см. Наличие в нем карбонатных новообразований в виде белоглазки, псевдомицелия связано с вмыванием их из современной почвы. Этому способствовал тяжелый механический состав горизонта (фракция <0.001 мм — 32.8 %) и некоторое обогащение оксидами железа и алюминия по сравнению с содержанием их в подстилающей и перекрывающей толщах. Радиоуглеродная дата 14200±150 BP, 17300±230 BP (СОАН-78), полученная по костям мамонта, свидетельствует о позднеледниковом возрасте костеносного слоя, залегающего на поверхности горизонта. Почва выделена в составе сартанского горизонта и соответствует теплому времени внутри МИС 2.
Баганский лёсс представлен песчанистым алевритом и суглинком легким, плохо сортированным коричневато-желтого и коричневато-серого цвета, карбонатным, пористым, имеет мощность 1 м. Он залегает на суминском педокомплексе, а при его отсутствии с горизонтом выветривания на ельцовском лёссе. Баганский лёсс выделен в составе сартанского горизонта и соответствует 2 стадии изотопно-кислородной шкалы.
Последовательное сопоставление строения разрезов лёссово-почвенной толщи плейстоцена Западной Сибири и, особенно, строения педокомплексов со структурой теплых нечетных стадий изотопно-кислородной шкалы (Lisiecki, Raymo, 2005) и других глобальных записей климата — теплых стадий байкальской летописи (Prokopenko et al., 2001), записей температуры и пыли из ледяных кернов станции Восток в Антарктиде (Petit et al., 1990, 1999) и магнитной восприимчивости лёссово-почвенной последовательности Китая (Kukla et al., 1990; и др.), позволило установить (Zykina, Zykin, 2003, 2008; Зыкина, Зыкин, 2012), что строение ископаемых педокомплексов в полных разрезах лёссовой толщи Западной Сибири отчетливо отражает структуру теплых нечетных стадий непрерывных глобальных последовательностей, состоящих из сближенных теплых событий, разделенных относительно короткими холодными событиями. Как количество педокомплексов и лёссовых горизонтов в лёссово-почвенной последовательности Западной Сибири в пределах эпохи Брюнес совпадает с числом изотопно-кислородных стадий, так и количество почв в педокомплексах соответствует количеству теплых событий в теплых нечетных стадиях. Мощность ископаемых почв в автоморфных условиях прямо пропорциональна продолжительности одновозрастных теплых эпох в глобальных записях климата. Сопоставление структуры полной лёссово-почвенной последовательности Сибири в пределах хрона Брюнес со строением непрерывных глобальных климатических записей дает возможность не только выявить периодичность, но и показать соответствие изменений климата и природной среды этой территории в плейстоцене глобальным изменениям, а также является важным инструментом региональных и глобальных корреляций.
Как показал сравнительный последовательный анализ, строение и состав лёссовых и почвенных горизонтов лёссовой толщи плейстоцена Западной Сибири отчетливо отражает неповторимость каждой палеогеографической эпохи, связанной с изменением интенсивности атмосферной циркуляции в холодные и теплые эпохи плейстоцена. В теплые эпохи слабой активности атмосферной циркуляции преобладало биогенное осадконакопление и формировались почвы, в холодные эпохи активизации атмосферной циркуляции атмосфера была насыщена пылью, которая, осаждаясь, образовывала лёссовые покровы. Каждая эпоха почвообразования среднего и позднего плейстоцена имеет свои характерные особенности строения почв, их географического распространения и отражает присущие ей ландшафтно-климатические условия. Общий уровень потепления и увлажнения, а также продолжительность теплых эпох среднего и позднего плейстоцена отражались на интенсивности педогенеза и мощности профиля ископаемых почв. Как правило нижние почвы педокомплексов в полных разрезах Западной Сибири сохраняют признаки интенсивного проявления педогенеза, имеют максимально развитый зрелый профиль значительной мощности, с хорошей дифференциацией на генетические горизонты, значительное количество кротовин и высокое содержание органического вещества. Эти особенности отражают высокий термический режим и длительное время формирования этих почв в условиях межледниковых эпох. Верхние почвы педокомплексов и интерстадиальные почвы в лёссах резко отличаются от межледниковых почв гораздо меньшей интенсивностью педогенеза. Они имеют менее мощный профиль по сравнению с межледниковыми почвами, меньшую степень его проработки, его слабую дифференциацию на генетические горизонты и характеризуют более короткие и более прохладные условия интерстадиалов.
Отчетливое совпадение времени формирования мощных лёссовых горизонтов с холодными стадиями глобальных записей климата, а также обогащение пылью холодных интервалов антарктического и гренландских кернов, свидетельствуют о формировании лёссов в периоды похолодания и аридизации климата. Подтверждением накопления лёссовых горизонтов в холодные эпохи является наличие в микростроении лёссов практически по всей их мощности признаков криогенных процессов. Во всех горизонтах лёсса отмечается кольцевая ориентировка минерального скелета по краям микроструктурных отдельностей и в межагрегатных пустотах, обусловленная процессами вымораживания (Зыкина, Зыкин, 2012).
Так как в стратиграфической шкале лёссово-почвенной последовательности среднего и верхнего плейстоцена Западной Сибири стратиграфические горизонты, прослеженные на значительные расстояния, отчетливо соответствуют стадиям изотопно-кислородной шкалы океанических осадков и других глобальных записей климата, она должна являться единственной эталонной шкалой для внутри региональных корреляций сибирских разрезов. Расчленение и прослеживание стратиграфических элементов лёссовой толщи возможно с точностью до подстадий изотопно-кислородной шкалы океана. Нерешенным вопросом является время начала лёссонакопления в Западной Сибири. Обнаруженное в разрезе у пос. Раздолье переслаивание лёссов, с залегающими ниже раздольинскими слоями, содержащими аналоги таманской фауны мелких млекопитающих (Зажигин, 1980) позволяет опустить начало формирования лёссово-почвенной последовательности в Западной Сибири к рубежу около 1.2 млн лет.
ГЕОХРОНОЛОГИЯ ЛЁССОВО-ПОЧВЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
На основании люминесцентного и радиоуглеродного датирования и пространственно-временного прослеживания ископаемых почв разрабатывается уточненная хронология формирования лёссово-почвенной последовательности верхнего плейстоцена Западной Сибири. Использование впервые полученных 98 люминесцентных дат (Курбанов и др., 2020; Вольвах и др., 2021; Зыкина и др., 2021; Вольвах, 2022; Meshcheryakova et al., 2022; Volvakh et al., 2022), а также многочисленных данных по радиоуглеродному датированию, материалов по строению и составу лёссово-почвенной последовательности среднего и позднего плейстоцена Западной Сибири позволило уточнить интервалы формирования ее горизонтов.
Одной из наиболее полных лёссово-почвенных последовательностей Сибири является разрез Приобского лёссового плато в левобережном Порозихинско-Алейском увале (между пос. Володарское, Белово и Вяткино), представляющий поперечное сечение увала, обнажающееся в береговых обрывах р. Оби. У пос. Белово он обладает наибольшей мощностью и подробной стратиграфической информацией (рис. 7) на протяжении более 4 км. Впервые для верхнеплейстоценовой части лёссовых отложений Барнаульского Приобья получены первые 25 OSL дат (Вольвах, 2022). Большая часть люминесцентных дат выше бердского педокомплекса противоречит радиоуглеродной дате из верхней искитимской почвы — 23160±550 (СОАН-2499), соответствующей калиброванной дате 27450±580 cal BP, и поэтому здесь не приводится. Даты 121.6±7.1 тыс. л. н. и 126.8±6.4 тыс. л. н. из гумусового горизонта нижней почвы бердского педокомплекса и дата 152.4±10.3 тыс. л. н. из сузунского лёсса, являющегося материнской породой для этой почвы, отчетливо свидетельствуют о времени формирования почвы в последнее межледниковье (МИС 5е).
Проведено дополнительное изучение уникального по своей полноте разреза у пос. Красногорское, расположенного в низкогорьях Горного Алтая (Зыкина и др., 2019). Здесь отмечается значительная мощность лёссово-почвенной последовательности, достигающая 24.5 м, в которой выделяется полная серия средне- и позднеплейстоценовых уровней почвообразования, соответствующих МИС 3, 5, 7, 9, 11 (Зыкина и др., 2021). По образцу из гумусового горизонта верхней искитимской почвы разреза имеется радиоуглеродная дата 23065±420 BP, 27320±430 cal BP (СОАН 9484), и вторая радиоуглеродная дата (Babek et al., 2011), полученная по кости гигантского оленя (Megaloceros antiquus), найденной в гумусовом горизонте этой же почвы — 22100±1100 BP, 26550±1200 cal BP (Gd-16386). Методом OSL было получено 10 дат. Некоторые из этих дат имели неоднозначную интерпретацию, поэтому учтено только шесть новых дат из лёссовых отложений верхнего плейстоцена, включающего бердский и искитимский педокомплексы. Определение возраста лёссов и почв проведено двумя вариантами люминесцентного датирования: OSL для зерен кварца и ИКСЛ для полевых шпатов. Верхний образец из ельцовского лёсса, залегающего над искитимским педокомплексом, имеет OSL возраст 25.4±1.6 тыс. л. н., что соответствует времени его формирования, коррелятное МИС 2. Три последующих даты, укладывающихся в диапазон 40—48 тыс. л. н., отобраны из лёсса, разделяющего верхнюю и нижнюю почвы искитимского педокомплекса. Возраст данного лёсса хорошо согласуется со временем осадконакопления в стадию МИС 3. Из верхней и нижней части сузунского лёсса, являющегося материнской породой для нижней бердской почвы, по фракции полевого шпата получено две даты возрастом 127.5±7.2 и 149.4±9.0 тыс. л. н. Обе даты (верхняя с учетом доверительного интервала) подтверждают возраст вышезалегающего бердского педокомплекса. Баганский лёсс, являющийся материнской породой для современного чернозема, и нижележащий, перекрывающий искитимский педокомплекс ельцовский лёсс, имеющий дату 25.4±1.6 тыс. л. н., сопоставляются с МИС 2. Искитимский педокомплекс состоит из двух черноземов, имеющих по сравнению с современными черноземами слабо дифференцированные незначительной мощности профили. Верхняя почва развивалась на лёссовидном суглинке, перекрывающем нижнюю искитимскую почву, из которого получено три OSL даты (39.7±2.7, 46.6±4.7, 48.4±3.3 тыс. л. н.).
Из верхне-среднеплейстоценовой лёссово-почвенной последовательности разреза у пос. Солоновка (Зыкин и др., 2017), расположенного в Ануйском увале прифасовой части гор Алтая, в слабо пониженной части поверхности увала получена серия OSL дат (Вольвах, 2022; Meshcheryakova et al., 2022). Так, нижняя почва бердского педокомплекса имеет возраст 112±12 тыс. л., полученный OSL методом из гумусового горизонта, который с учетом доверительного интервала соответствует стадии МИС 5e. Значительная мощность гумусового горизонта и хорошо дифференцированный профиль почвы, наличие мощных и глубоких гумусированных языков-затеков свидетельствует о формировании ее в последнее межледниковье (МИС 5е). Выше залегающая палеопочва, имеющая небольшую мощность гумусового горизонта и профиля, без перерыва в осадконакоплении залегает над нижней бердской почвой. Отсутствие перерыва в осадконакоплении, сближенность почв, незначительный прослой лёсса между ними, глубина их залегания от современной поверхности позволяет рассматривать эти почвы как единый педокомплекс.
Разрез Ложок является опорным для лёссово-почвенной последовательности Западной Сибири. В нем находятся лектостратотипы всех стратиграфических подразделений лёссовой тощи верхнего плейстоцена — искитимского, бердского, койнихинского педокомплексов и баганского, ельцовского, тулинского, суминского горизонтов лёсса. В настоящее время карьер задернован. Он находится на правобережье Оби, в районе г. Искитима на междуречье рек Шипуниха и Койниха, являющихся притоками р. Бердь. Детальное послойное описание разреза с прослеживанием горизонтов и установления взаимоотношения между ними, проведенное во время существования карьера протяженностью 400 м и глубиной до 10 м, приведено в работах И. А. Волкова (1971), В. С. Зыкиной с соавторами (1981) и В. С. Зыкиной и В. С. Зыкина (2012). В последующем, стенка карьера вскрывалась небольшими зачистками и скважинами. Для определения абсолютного возраста отложений лёссово-почвенной последовательности разреза Ложок была отобрана серия из 38 образцов. Полученные результаты люминесцентного датирования (Вольвах и др., 2021; Вольвах, 2022) оказались весьма дискуссионными: возраст лектостратотипа бердского педокомплекса в основании разреза составил 180—220 тыс. л. н., что соответствуют МИС 7 и отнесен койнихинскому педокомплексу. Слаборазвитая интерстадиальная почва, являющаяся лектостратотипом искитимского педокомплекса и скоррелированная с МИС 3, по данным люминесцентного метода оказалась датированной в интервале 112—151 тыс. л. н. и отнесена к нижней бердской почве, а также сопоставлена с последним казанцевским межледниковьем. Тулинский лёсс переименован в сузунский лёсс, а сузунский в чулымский лёсс. Помимо этого, в разрезе по данным OSL, незначительный перерыв между искитимским педокомплексом и ельцовским лёссом определен значительным временным хиатусом около 80 тыс. л. (Курбанов и др., 2020; Вольвах, 2022; Volvakh et al., 2022).
Одним из недостатков хронологической интерпретации разреза Ложок является отнесение незначительно развитой, маломощной почвы со слабой степенью проработки почвенного профиля к последнему межледниковью, так как хорошо известно, что почвы последнего межледниковья на территории России, в том числе в Сибири и в сопредельных странах обладают признаками интенсивного проявления педогенеза, имеют максимально развитый зрелый профиль значительной мощности, отражающие высокий термический режим и длительное время их формирования.
ОБСУЖДЕНИЕ ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ЛЁССОВО-ПОЧВЕННЫМ СЕРИЯМ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Для объяснения некоторого несоответствия частных возрастных моделей лёссово-почвенных последовательностей в отдельных разрезах, построенных на основании только люминесцентных дат, и хроностратиграфического положения горизонтов региональной лёссово-почвенной последовательности Западной Сибири, построенной на климатостратиграфическом принципе с учетом радиоуглеродного (Зыкина и др., 1981; и др.) и люминесцентного (Zander et al., 2003; Frechen et al., 2005; Chlachula, Little, 2011) датирования, биостратиграфического и палеомагнитного методов (Зыкина, Круковер, 1988; Архипов и др., 1997; Круковер, 1992; Krukover, 2007; Смолянинова и др., 2011; и др.) проведен сравнительный анализ как вертикальной последовательности горизонтов лёссов и почв, так и их пространственного распространения. Последовательное прослеживание лёссовых и почвенных горизонтов лёссовой толщи плейстоцена Западной Сибири с учетом радиоуглеродных и люминесцентных дат и применением климатостратиграфических корреляций показало, что ее строение и состав отчетливо отражают неповторимость каждой палеогеографической эпохи, связанной с изменением интенсивности атмосферной циркуляции в холодные и теплые эпохи плейстоцена. Особенности каждой конкретной эпохи записаны в сочетании неповторимых индивидуальных признаков определенных горизонтов лёссово-почвенной последовательности, проявившихся в их вертикальном разрезе.
Рис. 8. Строение нижней почвы бердского педокомплекса (МИС 5 е): (а) — карьер Тогучин, (б) — карьер Ложок. Суглинок: 1 — сильно гумусированный, 2 — средне гумусированный, 3 — слабо гумусированный, 4 — лёссовидный; норы землероев: 5 — заполненные лёссовидным суглинком, 6 — заполненные гумусированным суглинком; 7 — трещины усыхания; 8 — псевдомицелий и пятна белоглазки; 9 — вертикальная трещиноватость; 10 — щебень.
Fig. 8. Structure of the lower soil of the Berdsk pedocomplex (MIS5e): (а) — Toguchin Quarry, (б) — Lozhok Quarry. Loam: 1 — strongly humusified loam, 2 — moderately humusified loam, 3 — slightly humusified loam, 4 — loess-like loam; burrows of shrews: 5 — filled with loess-like loam, 6 — filled with humusified loam; 7 — cracks of desiccation; 8 — pseudomycelium and spots of white-eye weevil; 9 — vertical fracturing; 10 — rubble.
Нарушение последовательности горизонтов лёссов и почв при интерпретации данных только люминесцентного датирования приводит к существенным ошибкам. В основном это касается определения генезиса и продолжительности формирования почв и соответствия их глобальным теплым эпохам, а также в установлении роли перерывов и их длительности. Наиболее отчетливо это проявилось в разрезе Ложок. Так, во вскрытой части разреза прослеживаются бердский и искитимский педокомплексы, четко отличающиеся друг от друга. Нижняя почва бердского педокомплекса (рис. 8) характеризуется максимальной мощностью, характерной для сибирских межледниковий, высокой степенью зрелости почвенного профиля, обусловленными продолжительностью формирования, хорошей дифференциацией на генетические горизонты, значительным количеством кротовин, высоким содержанием органического вещества.
Важным критерием отнесения этой палеопочвы к МИС 5e является наличие следов значительного развития криогенных процессов в виде криотурбаций и грунтовых жил, соответствующих МИС 5d, являющейся одной из самых холодных в Сибири. С этого времени в Сибири начинается раннезырянское (ермаковское) оледенение. По люминесцентному датированию большинство разрезов этой почвы относится к последнему межледниковью (Белово, Красногорское, Песчанка, Петропавловское). Хотя разрез почвы в карьере Ложок является ее лектостратотипом, она на основании люминесцентного датирования по зернам полевых шпатов отнесена к койнихинскому педокомлексу (Курбанов и др., 2020; Вольвах, 2022; Volvakh et al., 2022). Наиболее представительные разрезы установлены и детально изучены в Новосибирском регионе в карьерах у пос. Тогучин, Линево, Ложок и г. Искитим (рис. 9), а также Алтайском крае у пос. Белово, Вяткино, Усть-Пристань, Алферово, Красногорское, Солоновка и Петропавловское.
Рис. 9. Корреляция разрезов лёссово-почвенной последовательности плейстоцена Новосибирского региона. Горизонт почв: 1 — гумусовый, 2 — иллювиальный; 3 — алеврит; 4 — алеврит опесчаненный; 5 — Mn-крап; 6 — карбонаты (а) и карбонатные конкреции (б); 7 — новообразования Fe; 8 — оглеение; 9 — трещины усыхания (а) и гумусированные затеки (б); 10 — Fe–Mn-конкреции; 11 — мелкий щебень и пластинки сланцев; 12 — гравий;13 — норы землероев; 14 — кора выветривания; 15 — известняк.
Fig. 9. Correlation of sections of the loess-soil sequence of the Pleistocene of the Novosibirsk region. Soil horizons: 1 — soil humus horizons, 2 — illuvial horizon; 3 — silt; 4 — sandy silt; 5 — Mn spots; 6 — carbonates (а) and carbonate concretions (б); 7 — neoplasms of iron; 8 — gleying; 9 — drying cracks (а) and humus streaks (б); 10 — Fe–Mn concretions; 11 — fine crushed stone and slate plates; 12 — gravel; 13 — krotovinas; 14 — weathering crust; 15 — limestone.
Нижняя почва искитимского педокомплекса в разрезе Ложок являющаяся маломощной, слаборазвитой (рис. 9, 10), слабо дифференцированной на генетические горизонты (Зыкина, Зыкин, 2012), по люминесцентным датам по зернам полевых шпатов (Курбанов и др., 2020; Вольвах, 2022; Volvakh et al., 2022) обозначена как почва последнего казанцевского межледниковья. По соответствующим генетическим признакам и условиям теплообеспеченности их образования эта почва отвечает относительно прохладному климату интерстадиалов с более коротким временем формирования и не может отвечать климатическим особенностям длительного и теплого последнего межледниковья.
Рис. 10 Строение нижней почвы искитимского педокомплекса (МИС 3) в карьере Ложок. Усл. обозначения см. рис. 8.
Fig. 10. Structure of the lower soil of the Iskitim pedocomplex (MIS 3) in the Lozhok quarry. For the symbols, see fig. 8.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Последовательное прослеживание лёссовых и почвенных горизонтов лёссовой толщи плейстоцена Западной Сибири с учетом радиоуглеродных и люминесцентных дат и применением климатостратиграфических корреляций показало, что ее строение и состав отчетливо отражают неповторимость каждой палеогеографической эпохи, связанной с изменением интенсивности атмосферной циркуляции в холодные и теплые эпохи плейстоцена. Особенности каждой конкретной эпохи записаны в сочетании неповторимых индивидуальных признаков определенных горизонтов лёссово-почвенной последовательности. В чередующихся горизонтах лёссов и почв сохранилась запись глобальных и региональных изменений ландшафтов и климата, отражающих своеобразие, неповторимость палеогеографии каждой временной эпохи. Структура и состав лёссовой толщи отражают различную интенсивность атмосферной циркуляции в холодные (ледниковые) и теплые эпохи плейстоцена. В холодные (ледниковые) эпохи на территории юга Западно-Сибирской равнины формировались хорошо развитый пространственно дифференцированный эоловый рельеф, лёссовые и эоловые песчаные образования и мерзлотные деформации. Эоловый рельеф на Обь-Иртышском междуречье представляет сопряженную единую систему парагенетически связанных аккумулятивных и дефляционных эоловых форм. Его образование, в основном, происходило при значительной аридизации климата, активизации атмосферной циркуляции и опустынивании этой территории.
Каждая эпоха почвообразования среднего и позднего плейстоцена имеет свои характерные особенности строения почв, их географического распространения и отражает присущие ей ландшафтно-климатические условия. Общий уровень потепления и увлажнения, а также продолжительность теплых эпох плейстоцена отражались на интенсивности педогенеза и мощности профиля ископаемых почв. Формирование эолового рельефа почти прекращалось. Ископаемые почвы, соответствующие крупным межледниковым эпохам, сохраняют признаки интенсивного проявления педогенеза, имеют максимально развитый зрелый профиль значительной мощности, отражающие высокий термический режим и длительное время их формирования. Они располагаются в нижних частях педокомплексов. Межстадиальные почвы, развивающиеся более короткое время в более прохладных климатических условиях, четко отличаются от межледниковых эпох небольшой мощностью и меньшей степенью проработки почвенного профиля. Они обычно располагаются в верхних частях педокомплексов. Отчетливое совпадение времени формирования мощных лёссовых горизонтов с холодными стадиями глобальных записей климата, а также обогащение пылью холодных интервалов антарктического и гренландских кернов, свидетельствуют о формировании лёссов в периоды похолодания и аридизации климата.
Хронологическая последовательность лёссово-почвенной последовательности Западной Сибири на основании только OSL дат не всегда совпадает с лёссово-почвенной последовательностью Западной Сибири, построенной на комплексировании различных подходов, с преимущественным использованием палеопедологического метода и поэтому нуждается в корректировке. Наилучшие корреляционные результаты достигаются комбинированием всех доступных методов датирования с привлечением биостратиграфических, седиментологических и геологических данных на основе климатостратиграфического принципа.
БЛАГОДАРНОСТИ
Работа выполнена по государственному заданию ИГМ СО РАН № 122041400243-9, по которому проведены полевые работы, радиоуглеродное датирование, микроморфологическое изучение почв и анализ стратиграфического и пространственного распространения стратиграфических горизонтов и гранту РНФ № 22-17-00265 “Сравнительный анализ ландшафтно-климатических изменений в аридных и семиаридных областях Евразии за последний миллион лет по материалам изучения лёссово-почвенной формации юга Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири и Забайкалья”, по которому проведено обобщение материалов по плейстоценовому эоловому рельефу, строению ископаемых педокомплексов Западной Сибири и анализ соответствия люминесцентных дат разработанной лёссово-почвенной последовательности на климатостратиграфическом принципе.
ACKNOWLEDGMENTS
The work was carried out according to the state task of the Institute of Geology and Mineralogy SB RAS № 122041400243-9, according to which field work, radiocarbon dating, micromorphological study of soils and analysis of the stratigraphic and spatial distribution of stratigraphic horizons were fulfil and the Russian Science Foundation grant № 22-17-00265 “Comparative analysis of landscape-climatic changes in arid and semi-arid regions of Eurasia over the last million years based on the study of the loess-soil formation in the south of the East European Plain, Western Siberia and Transbaikalia” on which a generalization of materials on the Pleistocene eolian relief, the structure of fossil pedocomplexes of Western Siberia and an analysis of the correspondence of luminescent dating’s of the developed loess-soil sequence on the climatostratigraphic principle was fulfil.
About the authors
V. S. Zykina
Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, SB RAS; Institute of Geography RAS
Author for correspondence.
Email: zykina@igm.nsc.ru
Russian Federation, Novosibirsk; Moscow
V. S. Zykin
Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, SB RAS; Institute of Geography RAS; Novosibirsk State University
Email: zykina@igm.nsc.ru
Russian Federation, Novosibirsk; Moscow; Novosibirsk
E. L. Malikova
Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, SB RAS
Email: zykina@igm.nsc.ru
Russian Federation, Novosibirsk
References
- Arkhipov S., Zykina V., Krukover A. A. et at. (1997). Stratigraphy and paleomagnetism of glacial and loess-soil deposits on the West-Siberian plain. Russian Geology and Geophysics. V. 38. № 6. P. 1027—1048. (in Russ.)
- Bábek O., Chlachula J., Grygar T. M. (2011). Non-magnetic indicators of pedogenesis related to loess magnetic enhancement and depletion: Examples from the Czech Republic and southern Siberia. Quat. Sci. Rev. V. 30 (7—8). P. 967—979. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2011.01.009
- Broecker W. S. (2000). Abrupt climate change: causal constraints provided by the paleoclimate record. Earth-Sci. Rev. V. 51. P. 137—154.
- Chirkin K. A., Smolyaninova L. G., Zykin V. S. et al. (2009). About Bruchnes-Matuyama boundary in subaeral deposites south-east part of Western Siberia. In: Fundamental’nye problemy kvartera: itogi izucheniya i osnovnye napravleniya dal’neishikh issledovanii. Novosibirsk: SO RAN (Publ.). P. 622—624. (in Russ.)
- Chlachula J., Little E. (2011). A high-resolution Late Quaternary climatostratigraphic record from Iskitim, Priobie Loess Plateau, SW Siberia. Quat. Int. V. 240. № 1—2. P. 139—149. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2011.01.045
- Daxner-Höck G., Höck V., Badamgarav D. et al. (1997). Cenozoic Stratigraphy based on a sediment-basalt association in Central Mongolia as Requirement for Correlation across Central Asia. In: Mémoires et Travaux de l’Institut de Montpellier, E.P.H.E. V. 21. P. 163—176.
- Ding Z. L., Sun J. M., Liu T. S. et al. (1998). Wind-blown origin of the Pliocene red clay formation in the central Loess Plateau, China. Earth and Planetary Science Letters. V. 161. P. 135—143.
- Dobretsov N. L., Zykin V. S., Zykina V. S. (2003). Structure of the pleistocene loess-soil sequence of Western Siberia and its correlation with the Baikalian and global records of climatic changes. Doklady Earth Sci. V. 391. № 6. P. 821—824. (in Russ.)
- Dodonov A. E. (2002). Chetvertichnyi period Srednei Azii: Stratigrafiya, korrelyatsiya, paleogeografiya (The Quaternary Period of Central Asia: Stratigraphy, Correlation, and Paleogeography). Moscow: GEOS (Publ.). 250 p. (in Russ.)
- Drozdov N. I., Checha I. P., Hazarts P. (2005). Geomorfologiya i chetvertichnye otlozheniya Kurtakskogo geoarkheologicheskogo raiona (Severo-Minusinskaya vpadina) (Geomorphology and Quaternary deposits of the Kurtak geoarchaeological area (North Minusinsk depression)). Krasnoyarsk: IPK KSPU (Publ). 109 p. (in Russ.)
- Frechen M., Zander A., Zykina V. et al. (2005). The loess record from the section at Kurtak in Middle Siberia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. V. 228. P. 228—244. https://doi.org/10.1016/j.paleo.2005.06.004
- Goudie A., Kent P., Viles H. (2016). Pan morphology, Distribution and formation in Kazakhstan and Neighbouring areas of the Russian federation. Desert. V. 21. № 1. P. 1—13. https://doi.org/10.22059/JDESERT.2016.58313
- Guo Z. T., Ruddiman W. F., Hao Q. Z. et al. (2002). Onset of Asian desertification by 22 Myr ago inferred from loess deposits in China. Nature. V. 416. P. 159—163. https://doi.org/10.1038/416159a
- Haesaerts, P., Chekha, V.P., Damblon, F. et al. (2005). The loess-palaeosol succession of Kurtak (Yenisei basin, Siberia): a reference record of the Karga stage (MIS3). Quatenaire. V. 18. № 1. P. 3—24. https://doi.org/10.4000/quaternaire.171
- Höck V., Daxner-Höck G., Schmid H. P. et al. (1999). Oligocene-Miocene sediments, fossils and basalts from the Valley of Lakes (Central Mongolia) — An integrated study. In: Mitt. Österr. Geol. Ges. Bd. 90. P. 83—125.
- Karabanov E. B., Prokopenko A. A., Kuz´min M.I. et al. (2001). Glacial and interglacials perods of Siberia: paleoclimatic record of Lake Baikal and correlation with West Siberian stratigraphy scheme (Brunhes Chron). Russian Geology and Geophysics. V. 42. № 1—2. P. 48—63. (in Russ.)
- Kes A. S., Fedorovich B. A. (1975). The problem of zoning and age of eolian-soil fine earths (loesses and their analogues). In: Problemy regional’noi i obshchei paleogeografii lessovykh i periglyatsial’nykh oblastei. M.: Nauka (Publ.). P. 90—101. (in Russ.)
- Kornutova E. I. (1984). Stratigraphy of Paleogene and Neogene deposits of the Shilka-Onon region of Transbaikalia. In: Sreda i zhizn’ na rubezhakh epokh kainozoya v Sibiri i na Dal’nem Vostoke. Novosibirsk: Nauka (Publ.). P. 128—132. (in Russ.)
- Krukover A. (2007). Quaternary arvicolid faunas of the southern West Sibirian Plain. CFS Cour Forschungsinstitut Senckenb. V. 259. P. 93—98.
- Krukover A. A. (1992). Chetvertichnye mikroteriofauny prilednikovoi i vnelednikovoi zon Zapadnoi Sibiri (Quaternary microtheriofauna of the periglacial and extraglacial zones of Western Siberia). PhD thesis. Novosibirsk. 19 p. (in Russ.)
- Kukla G. J., An Z. S., Melice J. L. et al. (1990) Magnetic susceptibility record of Chinese loess. Trans Royal Society Edinburgh: Earth Science. V. 81. P. 263—288. https://doi.org/10.1017/S0263593300020794
- Kurbanov R. N., Taratunina N. A., Volvakh N. E. (2020). Experience in the use of OSL dating in the study of loess-soil series of Northern Eurasia. In: Aktual’nye problemy paleogeografii pleistotsena. Nauchnye dostizheniya Shkoly akademika K. K. Markova. Moscow: Faculty of Geography of Moscow State University (Publ.). P. 595—613. (in Russ.)
- Lisiecki L. E., Raymo M. E. (2005). A Pliocene-Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic δ18O records. Paleoceanography. V. 20. PA. 1003. https://doi.org/10.1029/2004PA001071
- Maloletko A. M. (1976). Hollow-ridged relief of the Steppe Ob and Kulunda and its origin. Voprosy geografii Sibiri. V. 9. Tomsk: Tomsk University (Publ.). P. 124—141. (in Russ.)
- Manabe S., Broccoli A. J. (1990). Mountains and Arid Climates of Middle Latitudes. Science. V. 247. P. 192—195.
- Meshcheryakova O. A., Volvakh N. E., Kurbanov R. N. et al. (2022). The Upper Pleistocene loess-palaeosol sequence at Solonovka on the Cis-Altai plain, West Siberia — First luminescence dating results. Quat. Geochronology. V. 73. P. 101384. https://doi.org/10.1016/j.quageo.2022.101384
- Muhs D. R. (2013). Loess Deposits: Origins and Properties. Encyclopedia of Quat. Sci. P. 573—584. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53643-3.00145-X
- Muhs D. R., Bettis A. E. (2003). Quaternary loess-paleosol sequences as examples of climate-driven sedimentary extremes. In: Extreme depositional environments: Mega and members in geological time. Geological Society of America. Special Publication. V. 370. P. 53—74. https://doi.org/10.1130/0-8137-2370-1.53
- Petit J. R., Jouzel J., Raynaud D. et al. (1999). Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica. Nature. V. 399. P. 429—436. https://doi.org/10.1038/20859
- Petit J. R., Mounier L., Jouzel J. et al. (1990). Paleoclimatological and chronological implications of the Vostok core dust record. Nature. V. 343. № 6253. P. 56—58. https://doi.org/10.1038/343056a0
- Pinkhasov B. I. (1984). Neogen-chetvertichnye otlozheniya i noveishaya tektonika Yuzhnogo Priaral’ya i Zapadnyh Kyzylkumov (Neogene-Quaternary deposits and recent tectonics of the Southern Aral Sea and Western Kyzyl Kum). Tashkent: FAN (Publ.). 150 p. (in Russ.)
- Pospelova G. A., Gnibidenko Z. N. (1982) Magnetostratigraphic sections of Neogene and Quaternary deposits of North Asia and southeastern Europe and problems of their correlation. In: Geofizicheskie metody v regional’noi geologii. Novosibirsk: Nauka (Publ.). P. 76—94. (in Russ.)
- Pötter S., Lehmkuhl F., Weise J. et al. (2023). Spatiotemporal model for the evolution of a mega-yardang system in the foreland of the Russian Altai. Aeolian Res. V. 62. P. 100866. https://doi.org/10.1016/j.aeolia.2023.100866
- Prokopenko A. A., Karabanov E. B., Williams D. F. et al. (2001). Biogenic Silica Record of the Lake Baikal Response to Climatic Forcing during the Brunhes. Quat. Res. V. 55. P. 123—132. https://doi.org/10.1006/qres.2000.2212
- Smolyaninova L. G., Zykina V. S., Chirkin K. A. (2011). New magnetostratigraphic data and the position of the Matuyama-Brunhes boundary in the reference section Belovo (Ob steppe plateau). In: Paleomagnetizm i magnetizm gornykh porod. Materialy vserossiiskoi shkoly-seminara. Borok: GO “Borok” IFZ RAN (Publ.). P. 89—92. (in Russ.)
- Vangengeim E. A., Vislobokova I. A., Godina A. Ya. et al. (1993). On the Age of Mammalian Fauna from the Karabulak Formation of the Kalmakpai River (Zaisan Depression, Eastern Kazakhstan). Stratigraphy. Geological correlation. V. 1. № 2. P. 37—47. (in Russ.)
- Velichko А. А., Timireva, S.N. (2005). Western Siberia, the great Late-Glacial desert. Priroda. № 5. P. 54—62. (in Russ.)
- Volkov I. A. (1971). Pozdnechetvertichnaya subaeralʹnaya formatsiya (Late Quternary subaerial sedimentary association). Moscow: Nauka (Publ). 253 p. (in Russ.).
- Volkov I. A. (1976). Rolʹ eolovogo faktora v evolutsii rel´efa (The role of eolian factor in the topography evolution). Timofeev D. A. (Ed.). In: Problemy ekzogennogo rel’efoobrazovaniya. Kniga 1. (Problems of exogenic topography formation. Book 1). Moscow: Nauka (Publ.). P. 264—269.
- Volkov I. A. (1980). Cyclicity of formation of Quaternary subaerial sediments of the temperate belt and climate fluctuations. In: Ciklichnost’ formirovaniya subaeral’nykh porod. V. 457. Novosibirsk: Nauka (Publ.). P. 25—33. (in Russ.)
- Volkov I. A., Zykina V. S., Semyonov V. V. (1984). Lower boundary of the Quaternary system in the subaerial strata of West Siberia. In: Stratigrafiya pogranichnykh otlozhenii neogena i antropogena Sibiri. Novosibirsk: IGiG SB RAS (Publ.). С. 72—84. (in Russ.)
- Volvakh N. E. (2022). Lyuminestsentnaya geokhronologiya lessovo-pochvennoi posledovatel’nosti neopleistotsena yugo-vostoka Zapadno-Sibirskoi ravniny (Luminescent geochronology of the loess-soil sequence of the Neopleistocene of the southeast of the West Siberian Plain). PhD thesis. Novosibirsk: 23 p. (in Russ.)
- Volvakh N. E., Kurbanov R. N., Volvakh A. O. et al. (2021). The First Results of Luminescent Dating of Loess-Paleosol Series in the South of Western Siberia (Lozhok Reference Section). Izvestiya RAN. Seriya geograficheskaya. V. 85. № 2. P. 284—301. (in Russ.). https://doi.org/10.31857/S2587556621020151
- Volvakh N. E., Kurbanov R. N., Zykina V. S. et al. (2022). First high-resolution luminescence dating of loess in Western Siberia. Quat. Geochronology. V. 73. P. 101377. https://doi.org/10.1016/j.quageo.2022.101377
- Zander A., Frechen M., Zykina V. et al. (2003). Luminescence chronology of the Upper Pleistocene loess record at Kurtak in Middle Siberia. Quat. Sci. Rev. V. 22. P. 999—1010. https://doi.org/10.1016/S0277-379(03)00034-9
- Zazhigin V. S. (1980). Gryzuny pozdnego pliotsena i antropogena yuga Zapadnoi Sibiri (Late Pliocene and Anthropogene Rodents of the South of the Eastern Siberia). Moscow: Nauka (Publ.). 156 p. (in Russ.)
- Zykin V. S. (1982). New data on Neogene sequence near the city of Pavlodar. In: Problemy stratigrafii i paleogeografii pleistotsena Sibiri. Novosibirsk: Nauka (Publ.). P. 66—72. (in Russ.)
- Zykin V. S. (2012). Stratigrafiya i evolyutsiya prirodnoi sredy i klimata v pozdnem kainozoe yuga Zapadnoi Sibiri (Stratigraphy and evolution of environments and climate during Late Cenozoic in the Southern West Siberia). Novosibirsk: GEO (Publ.). 487 p. (in Russ.)
- Zykin V. S., Zazhigin V. S., Zykina V. S. (1995). Changes in the natural environment and climate in the early Pliocene of the south of the West Siberian Plain. Geologiya i geofizika. V. 36. № 8. P. 40—50. (in Russ.)
- Zykin V. S., Zykina V. S., Orlova L. A. (2003). Reconstruction of changes in the natural environment and climate of the Late Pleistocene in the south of Western Siberia according to the sediments of the Aksor Lake basin. Archaeology. Ethnology & Anthropology of Eurasia. № 4. P. 2—16. (in Russ.)
- Zykin V. S., Zykina V. S., Orlova L. A. et al. (2009). On the development of Lake Chany in the late Pleistocene-Holocene time. In: Geografiya — teoriya i praktika: sovremennye problemy i perspektivy. Barnaul: Altai university (Publ.). P. 95—98. (in Russ.)
- Zykin V. S., Zykina V. S., Smolyaninova L. G. et al. (2017). New Stratigraphic Data on the Quaternary Sediments in the Peschanaya River Valley, Northwestern Altai. In: Archaeology, Ethology and Antropology of Eurasia. V. 45. № 3. P. 3—16. https://doi.org/10.17746/1563-0110.2017.45.3.003-016
- Zykina V. S. (1986). Fossil soils — the basis for the division of Quaternary subaerial deposits of Western Siberia. In: Biostratigrafiya i paleoklimaty pleistotsena Sibiri. Novosibirsk: Nauka (Publ.). P. 115—121. (in Russ.)
- Zykina V. S., Krukover A. A. (1988). New data on the division and correlation of Quaternary deposits of the Pre-Altai Plain. In: Perspektivy razvitiya mineral’no-syr’evoi bazy Altaya. Ch. 1. Barnaul: Poligrafist (Publ.). P. 47—49. (in Russ.)
- Zykina V. S., Orlova L. A., Chekha V. P. (2000). Reconstruction of the natural environment and climate of the subaerial sequence of the Kurtak section. In: Paleogeografiya kamennogo veka. Korrelyatsiya prirodnykh sobytii i arkheologicheskikh kul’tur paleolita Severnoi Azii i sopredel’nykh territorii. Materialy Mezhdunarodnoi Konferentsii. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk Pedagogical University (Publ.). P. 62—64. (in Russ.)
- Zykina V. S., Volkov I. A., Dergacheva M. I. (1981). Verkhnechetvertichnye otlozheniya i iskopaemye pochvy Novosibirskogo Priob’ya (Upper Quaternary deposits and fossil soils of the Novosibirsk Ob region). Moscow: Nauka (Publ.). 203 p. (in Russ.)
- Zykina V. S., Volkov I. A., Semenov V. V. (2000). Reconstruction of Neopleistocene climates in West Siberia based on study of Belovo key section. In: Problemy rekonstruktsii klimata i prirodnoi sredy golotsena i pleistotsena Sibiri. Novosibirsk: Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS Press (Publ.). P. 229—249. (in Russ.)
- Zykina V. S., Zykin V. S. (2003). Pleistocene warming stages in Southern West Siberia: soils, environment, and climate evolution. Quat. Int. V. 106—107. P. 233—243. https://doi.org/10.1016/S1040-6182(02)00175-1
- Zykina V. S., Zykin V. S. (2008). The loess-soil sequence of the Brunhes chron from West Siberia and its correlation to global climate records. Quat. Int. V. 179. P. 171—175. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2007.10.010
- Zykina V. S., Zykin V. S. (2012). Lessovo-pochvennaya posledovatelʹnoctʹ i evolyutsiya prirodnoi sredy i klimata Zapadnoi Sibiri v pleistotsene (Loess-soil sequence and environment and climate evolution of West Siberia in Pleistocene). Novosibirsk: GEO (Publ.). 478 p. (in Russ.)
- Zykina V. S., Zykin V. S., Volvakh A. O. et al. (2019). Loess-Paleosol Sequence at the Krasnogorskoye Sectin, the Low-Hill Zone of the Northtastern Altai Mountains. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia. V. 47. № 1. P. 3—14. https://doi.org/10.17746/1563-0100.2019.47.1.003-014
- Zykina V. S., Zykin V. S., Volvakh N. E. et al. (2021). New data on the chronostratigraphy of the Upper Pleistocene loess-soil series in Southwestern Siberia. Doklady Earth Sci. V. 500. P. 870—874. https://doi.org/10.1134/S1028334X21100202
Supplementary files