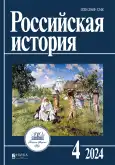European culture, World War, Russian Revolution. Pathways and prospects for rethinking
- 作者: Buldakov V.P.1
-
隶属关系:
- Institute of Russian history RAS
- 期: 编号 4 (2024)
- 页面: 103-123
- 栏目: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/2949-124X/article/view/268634
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24040118
- EDN: https://elibrary.ru/FFGCCV
- ID: 268634
如何引用文章
全文:
详细
The author shows that the First World War was a cultural phenomenon in its broad, creative and historical sense. At the same time, the war turned out to be the personification of the crisis of European culture as an existential whole. This affect Russia, which torn between the Europeanized culture of the upper classes and the archaic consciousness of the lower classes.
全文:
Принято считать, что война по своему духу противоположна культуре, несмотря на то что последняя вдохновляется её героическими и трагическими образами. Попытки связать культуру и войну преемственной зависимостью способны вызвать нравственное неприятие. Между тем война – это явление культуры в её широком, креативно-историческом смысле. Первая мировая война стала олицетворением кризиса европейской культуры как экзистенциального целого. Неслучайно на Западе эту войну стали оценивать как коллективное самоубийство европейской культуры[1]. Однако российские исследователи избегают подобного дискурса. Предлагалось также рассматривать войну как столкновение культур [2] или внутрикультурный коллапс, как в случае с Французской революцией3. Такой подход в современной России способен встретить сочувствие.
Очевидно, что игнорирование системной взаимосвязанности таких грандиозных феноменов, как культура и война, вызвано недопониманием их сущностных основ. Так, причины Первой мировой войны обычно выводятся из неё самой – из вооружений, милитаризма, империализма. Подразумевается, что европейская культура не несёт за явления этого ряда никакой духовно-исторической ответственности. Такое положение объясняется зауженным пониманием культуры – как чего-то эстетически отчуждённого, элитарно обособленного и, конечно, неизменно пацифистского по своему духу. Между тем само происхождение войны тогдашние пропагандисты связывали с агрессивным вырождением культуры, правда, имея в виду только своих противников. И это не случайно. Сложившиеся концепты культуры исходили преимущественно из её автохтонных «самоописаний» и внешних характеристик.
Всякая культура – явление социально-историческое, безотносительное к его конъюнктурным оценкам. П. Флоренский, выдающийся мыслитель начала ХХ в., определял культуру как совокупность энергий, т. е. видел в ней эманацию творческого начала в человеке4. Такое представление неотделимо от образа империи как инструмента насаждения и господства определённого типа культуры. «Империи существуют внутри и посредством культуры, – отмечает современный философ. – В самом широком смысле культура – всё созданное руками и духом человека и в отличие от природной среды – “природа вторая”»5. Соответственно культура может проявить себя и в архаично-насильственной форме – всё зависит от информационно-энергетических особенностей той или иной имперской среды. В начале ХХ в. европейское культурное пространство оказалось перенасыщено духом агрессии – этому есть своё объяснение.
Эпоха Просвещения близилась к самоистощению – империализм, согласно Дж. Гобсону, стал её болезненным отрицанием6. Действительно, могло показаться, что духовные основы европейского мира расшатывали Ч. Дарвин, О. Конт, Э. Ренан, К. Маркс, Ф. Ницше. Позднее О. Шпенглер в «Закате Европы» пессимистически описал этот феномен, принципиально противопоставив культуре цивилизацию. Последнюю он связывал с выхолащиванием духа культуры с помощью её же технологических достижений. Соответственно креативный потенциал общеевропейского культурного наследия опошлился духом потребительского гедонизма и сопутствующими «национальными» страхами.
По своей природе всякая культура авторитарна и иерархична. Теперь её целостность стала распадаться под влиянием неведомых ранее факторов. Как писал позднее Х. Ортега-и-Гассет, люди оказались внутри эпохи, которая чувствует себя «способной достичь чего угодно, но не знает, чего именно». Потому она «владеет всем, но только не собой», и «заблудилась в собственном изобилии»7. Конечно, ссылка на утрату культурного телеологизма выглядит туманно. На практике всякое общественное «изобилие» порождает новые вожделения, которые по мере роста социального неравенства легко принимают «классовую» направленность. И всё же культурологи продолжают недоумевать: почему немцы поддались «целенаправленному обману, который вызвал жестокую колониальную, захватническую войну, принимаемую за войну оборонительную?»8. Остаётся предположить: они противопоставили «свои» ценности моральному наследию всей многовековой европейской культуры. Немцы стали мыслить «вровень с веком», однако вопреки его сложившемуся культурному наследию.
Историки обычно не замечают последствий тех глубинных социокультурных сдвигов, которые претерпевает мир – сказывается «слепота современности». Так, конец XIX в. ознаменовался не только спонтанным ростом и, соответственно, «омоложением» европейского населения, но и всплеском «анархического» бунтарства; не только стихийной урбанизацией, но и ростом городской преступности. Это вроде бы заметили, однако недооценили роль информационной революции и миграционных процессов. Между тем материальный прогресс изменял привычную картину мира: реальное, воображаемое, символичное словно менялись местами – человек готов был устремиться в неведомое. Такое психически шаткое состояние подогревалось радикальными – как интернационалистскими, так и националистическими – доктринами. Распространение массовой культуры и средств информации фактически парализовало рост сознательной гражданственности и решимость людей на самостоятельный выбор. Сказывался и прогресс технологий: некоторые авторы связывали с этим рост индивидуальных психозов, другие, напротив, – распространение чувства всеобщей беззаботности9. В любом случае человек стал легко увлекаться образами-идеями, которые к его бытовому существованию вроде бы не имели отношения. В результате внешне образованный человек Модерна незаметно опускался к стадному существованию: он всё чаще руководствовался предубеждённостью, а не искренностью, страхом, а не доверием, инстинктом, а не рассудком10. «Опаснейшие силы человеческого духа оставались вне прогресса и даже, может быть, значительно регрессировали», – уже в 1917 г. отмечал М. О. Гершензон. А потому, заключал он, «война вышла… из недр человеческого духа»11.
Вероятно, наименее заметным, но наиболее значимым следствием этих подвижек стало то, что Ф. Ницше назвал ресентиментом – сгустком безадресной агрессивности, неуклонно накапливающейся в обществе под покровом относительного достатка и благополучия. Ресентимент не идентичен криминогенности, спектр его последствий гораздо шире, поскольку он захватывает не только низы, но и культурные элиты. Позднее М. Шелер связал его с самоотравлением общества негативными эмоциями, способными прорваться мстительными порывами. И этот сгусток недовольства, раздражительности, зависти, коварства пробивался наружу по мере ослабления традиционных нравственных сдержек и появления новых социальных идеалов12. Именно это и случилось как в демократической Европе, так и в самодержавной России – оживился «человек бунтующий». Между тем М. Горький в предреволюционное время по-своему прославлял «босяков» – откровенно асоциальных диссипативных элементов.
Несомненно, Российская империя, в отличие от Европы, продуцировала ресентимент на всём протяжении своего существования. В известном смысле это было обусловлено её пространственной природой. Веками цари и императоры были, в сущности, озабочены одним: как превратить неуклонно расширяющуюся территорию с растущим полиэтничным и поликонфессиональным населением в управляемое пространство власти – иначе единая государственность просто не могла существовать. Но этатизация социокультурного пространства неизбежно сдерживала самодеятельные порывы населения, сдавливала естественную людскую энергетику. В результате привычной формой существования «слишком большой» империи становился застой всей – от предпринимательства до наук – общественной жизни13. Со временем самодержавный режим стал ассоциироваться с неоправданной репрессивностью и даже тиранией, намеренно препятствующих прогрессу. А попытки «подморозить Россию» во времена двух последних императоров породили особо болезненную форму ресентимента в тогдашних элитах.
Впрочем, внутреннее напряжение росло повсеместно. Ещё в XIX в. знаменитый психиатр Ч. Ломброзо отмечал, что «лихорадочная деятельность, охватывающая большие города и крупные центры», создаёт «массу неврастеников, истеричных, нравственно-помешанных, всю эту армию беспощадных эгоистов, людей без привязанностей»14. Из-под покрова прогрессивных достижений всё чаще прорывались неведомые силы. В 1897 г. В. М. Бехтерев указывал на «психические эпидемии, развивающиеся благодаря внушению словом или иными путями»15. Стал вызывать беспокойство и рост политических преступлений16. Действительно, в 1910–1914 гг. в Европе произошло около сорока покушений на государственных и военных деятелей. Увы, выдающиеся умы того времени, особенно Ломброзо, сконцентрировались на изучении преступников, а не причин, вызвавших их размножение.
В материальном отношении западный мир становился всё более однородным и «сытым», однако его культурная целостность распадалась, а народы взаимоотчуждались. С. Цвейг вспоминал о «той ужасающей агрессивности, которая проникала в кровообращение времени»17. Ни силы интернационализма, ни проповедь пацифизма не смогли преодолеть этой тенденции. Люди предугадывали напасти, но не знали, как им противостоять. Впрочем, всё больше становилось таких, кто готов был ринуться в будущее, видя в этом спасение.
В России особенно ощущали приближение катастрофы. В мае 1914 г. в парижском кафе барон Н. Н. Врангель (брат известного белого генерала) заявил: «Мы стоим перед событиями, подобных которым свет не видал со времён переселения народов. Культура, пришедшая, как наша в футуризме, к самоотрицанию, подходит к концу. Скоро всё, чем мы живём, покажется миру ненужным, наступит период варварства»18. Возможно, этот тонкий искусствовед улавливал то, что не было дано другим. И он был не одинок. Накануне войны Н. К. Рерих выступил с картиной «Град обречённый»: белый город опоясан гигантским красным змеем. М. Горький назвал это произведение пророческим, а Рериха – «величайшим интуитивистом»19. Искусствовед А. И. Гидони писал о предвоенных работах Рериха: «Стихия этих картин – пожар. И кажется, что художник… бродя в мире творческих видений, ощутил внезапно некую тревогу… Он припал ухом к земле, прислушался. И был шум, крики, смятение в одном стане, тишина великая – в другом»20. Впрочем, людям высокой культуры было чего опасаться и без страхов перед призраком войны – российская столица бурлила рабочими выступлениями, в которых некоторые видели начало новой революции.
Среди российских элит доминировали европейские ценности, их политическая культура копировала западную, и даже Серебряный век по-своему пародировал европейский Модерн. Вместе с тем западные авторы – от Ницше до М. Хайдеггера – обратили внимание на феномен нигилизма, который показался им специфически русским явлением21, ужасающим своими последствиями. Примечательно, что в апреле 1915 г. австрийский писатель П. Эрнст, в прошлом социалист, в письме философу-марксисту Г. Лукачу так отзывался о книге Ропшина (Б. В. Савинкова): «Книга рисует картину болезни… Если бы я был русским, я тоже, конечно, стал бы революционером и, весьма вероятно, террористом». По его мнению, автор страдает «от чувства, что государство, а с ним, вероятно, и нация больны… Это ужасно, что честный человек в подобной ситуации неизбежно должен совершать преступления»22.
Другой крайностью российского предреволюционного времени становился суицид. Мотивация самоубийц была разнообразной: от недовольства школьными порядками до протеста против репрессивной государственности. Одни связывали распространение самоубийств с российским декадентством и Модерном, другие полагали, что «суицид включился в репертуар революционного действия»23. Разумеется, трудно установить, что творилось в душах становившихся неприкаянными людей. Однако неосознанное недовольство захватывало и «сонную» провинцию. Из анализа литературных произведений – а они стали своеобразным барометром общественных настроений – было очевидно, что тогдашняя «расщеплённость сознания» российских граждан закономерно «преломилась во внешней сумбурности вроде бы немотивированных поступков»24.
Если стихийная урбанизация превращала города в сгусток современных противоречий (всё чаще воспринимаемых как «классовые»), то деревня словно застряла в доиндустриальной эпохе. Это вызывало то «покровительственный», то пренебрежительный взгляд на крестьянство со стороны российских элит. То, что судьба России связана с прогрессом деревни, понимали все. Однако со времён П. А. Столыпина вывести основную массу населения из застойно-недовольного состояния уже никто не мог.
Тем не менее принято говорить, что русская деревня неуклонно прогрессировала: росла грамотность крестьян, совершенствовалась агротехника. Статистические данные это вроде бы подтверждали25. Отсюда общеевропейское преклонение перед людской неисчерпаемостью России, которое эксплицитно подогревало вполне определённые стратегические планы. Однако чего стоили подобные оптимистичные представления, если даже официальные данные, предлагаемые сервильными чиновниками, ясно указывали: урожайность не поспевает за галопирующим ростом сельского населения. Это означало, что центру России угрожает такое перенаселение, за которым при неурожае может последовать полоса голодных бунтов.
Обнаружились и ближайшие поводы для беспокойства. Ещё в 1912–1913 гг. руководство полиции и жандармерии пришло к заключению: революция в виде массового вооружённого восстания неизбежна и состоится в ближайшие годы при активном участии и поддержке войск – не только нижних чинов, но и офицерского состава, по типу революций в Турции (1909) и Португалии (1910) 26. Как видно, российские охранители руководствовались «прецедентным мышлением», учитывая «ненадёжность» монархического правления. К тому же, поскольку по долгу службы им надлежало «бдеть», они старались «пугать». Между тем, независимо от полицейского алармизма, перед мировой войной в Совете министров с тревогой отмечали рост немотивированного молодёжного хулиганства в деревне. Считалось, что исправить положение можно путём активизации приходской жизни27. Однако к тому времени «огосударствлённая» Церковь находилась в упадке: об «оскудении священства» и соответствующем усилении сектантства заговорили сами её служители28.
Некоторые психиатры называли и конкретных лиц, якобы нагнетавших атмосферу общественного пессимизма: «Первый камень в царский престол бросили не бесы подполья, а наэлектризованная ими привилегированная группа бар-помещиков с фрондирующими отпрысками родовой аристократии». В их число странным образом включали «больного кумира больного общества» А. П. Чехова, а также Г. В. Плеханова и П. Б. Струве, якобы передавших Россию «в руки большевиков»29. Маниакальность такого рода трансформировалась в конспирологию наших дней.
* * *
Европейская нервозность, питаемая подозрительностью, скоро стала концентрироваться на противодействии «чуждой» культуре. Глобальное уплотнение человеческого общежития вынудило европейцев более пристально вглядываться в «соседей»30. Одновременно реанимировались представления о войне как средстве психического «оздоровления» своей нации. В наши дни польский исследователь М. Гурный обратил внимание на «войну духа», которая предшествовала, а затем сопровождала ход военного столкновения. В связи с этим заговорили о грядущем столкновении германской и славянской рас, причём к легковесным журналистам присоединились университетские авторитеты. Само по себе появление «науки с национальным характером» означало, что гуманизм европейского Просвещения поразила старая, как мир, фобия. Война «породила не новые конфликты, а пробудила… старые, дремавшие призраки»31.
Как известно, попытки классифицировать расы и народности в рамках дихотомии «цивилизация–варварство» предпринимались ещё в античные времена. Теперь они стали опираться на позитивистские методы: «дух народа» выводился то из языка, то из антропологических данных, то из психологических характеристик. Складывались представления о «старых» и «молодых» расах. «Единая» Европа пропитывалась ядом этнонационального гегемонизма.
Российские обществоведы с характерологическими исследованиями запоздали. Вероятно, сказался феномен имперского патернализма, официально практиковавшего «отеческое» отношение к малым и «отсталым» народам. Тем не менее российская этнофобия росла снизу: начиная с еврейских погромов (хронологически совпавших с развёртыванием крестьянской революции) и заканчивая борьбой с «немецким засильем». Джин шовинизма был повсеместно выпущен из бутылки, что означало закат великой, но ставшей близорукой эпохи Просвещения.
Мировая война не была для европейских интеллектуалов экзистенциальной неожиданностью: уже 8 августа 1914 г. философ А. Бергсон произнёс первую из своих речей, посвящённых столкновению цивилизации (её олицетворяли Франция и Англия) с немецким варварством. Затем развернулась вакханалия взаимных обвинений. Так, обращение «К культурному миру» виднейших немецких учёных и литераторов состояло из безоговорочного набора антитезисов: «Неправда…»32. Г. Лебон утверждал, что немецкие интеллектуалы, впав в мистическое исступление, «отрицают очевидное и интерпретируют факты лишь в свете своих иллюзий»33. Известный писатель М. Алданов едко заметил, что «из 93-х авторов манифеста 12 имеют чин превосходительства, который, кстати сказать, все двенадцать не преминули отметить в своей подписи». Империя требует своих оракулов. В дальнейшем немецкие публицисты продолжили твердить об «особом пути» Германии, призванной возглавить европейский мир. Их оппоненты ответили ссылками на «вредоносную» политическую культуру лютеранства и на пагубное засилье немецких «мандаринов»34. Атмосфера идейной агрессии захватывала молодёжь. «Война, как дурман, опьяняла нас, – признавал позднее герой войны и философ Э. Юнгер. – Ведь война обещала нам всё: величие, силу, торжество»35. Российский публицист Г. Ландау констатировал: в современном обществе «идея, овладевшая массами», с помощью профессиональных пропагандистов способна породить невиданный эффект36.
В целом полемика наслаивалась на исторически сложившиеся взаимопредставления немцев и французов. Затем первые ополчились на англичан. Пальма первенства принадлежала В. Зомбарту, противопоставившему доблестных «героев» (немцев) жалким «торговцам» (англичанам). На деле, считает Гурный, немцы реактивировали героические мифы в качестве противоядия обывательскому «женоподобию»37. Не менее решительно выступил М. Шелер, заявивший, что британскому уму, погрязшему в эмпирике, не дано вдохновиться «метафизикой войны»38. По его мнению, современные англичане смешивали культуру с комфортом, мышление – с вычислением, объяснение с классификацией, нравственность – с правом, власть – с пользой39. Однако эти едкие характеристики в не меньшей степени могли быть переадресованы самим немцам – речь шла всего лишь о степени проникновения «духа капитализма» в психику отдельных народов. «Германские философы явно продемонстрировали свою колоссальную сноровку в попытках оправдать атавистические порывы своего народа к завоеванию, убийствам и грабежам»40, – утверждал позднее Лебон. На деле ресентимент сомкнулся с текущей геополитикой.
Война стала восприниматься в глобально-революционном контексте. «Начало мировой войны проводит красным широкую итоговую черту под этой эпохой, – писал позднее Юнгер. – В приветствующем её ликовании добровольцев… скрыт революционный протест против старых оценок, действенность которых безвозвратно утрачена. Отныне в поток мыслей, чувств и фактов вливается новая, стихийная окраска»41. Со своей стороны, Т. Манн вспоминал немецкого социал-демократа, который настойчиво убеждал, что именно предвоенный патриотический подъём «стал причиной мировой войны, которую он назвал мировой революцией»42. Такие представления не были редкостью. Позднее, в 1918 г., В. Ратенау, выдающийся организатор германской военной промышленности, признал, что война между народами на деле оказалась «мировой революцией, вулканическим возмущением мощных пылающих нижних слоёв человечества»43.
Феномен «революционного империализма» был связан с кризисом социалистического интернационализма. Война явилась продуктом разложения старой «одряхлевшей» культуры, а потому люди надеялись на её «революционно-спасительную» роль. Через 20 лет германский историк В. Шюсслер с восторгом вспоминал о «великой немецкой революции, которая началась в 1914 г. и которая сделает нас окончательными победителями в мировой войне»44. Сходные прогнозы делались и в России.
Казалось, что война открывает грандиозные возможности. А. Парвус (А. Л. Гельфанд), считавший себя истинным социал-демократом, полагал, что революционное поражение царизма следует подтолкнуть с помощью Германии, которой надлежит использовать всевозможных пацифистов, максималистов и сепаратистов. План по-своему учитывал революционные последствия русско-японской войны. Вместе это был «знак эпохи»: мучительное психическое напряжение тех лет провоцировало как редкие прозрения, так и чудовищные авантюры.
Конечно, были люди, смотревшие на события достаточно реалистично. Через день после вступления Великобритании в войну Г. Джеймс – писатель, серьёзно озабоченный проблемой «столкновения культур», – отметил: «Сползание цивилизации в эту пропасть мрака и крови является… очевидным развенчанием всей долгой эпохи, на протяжении которой нам представлялось, что мир постепенно совершенствуется»45. Война выросла из самообольщений «прогрессивного» человечества. Остановить их поток было невозможно.
Российские либеральные и социалистические элиты привыкли ученически внимать западным интеллектуалам. Европейская война вызвала в их среде эмоционально-нравственный переполох, а затем раскол. Поспешно поднялась волна протестов по поводу «немецких зверств». Соответствующее воззвание подписали писатели М. Горький, А. Серафимович, Г. Скиталец, художники А. и В. Васнецовы, К. Коровин, скульптор С. Меркуров, певец Ф. Шаляпин. Люди разрывались между разумом и чувством, личными симпатиями и стадной ненавистью. Впрочем, звучали и иные голоса – и не только консерваторов-германофилов и упрямых интернационалистов. В мае 1915 г. З. Гиппиус писала: «Как противна наша присяжная литература. Завопила, как зарезанная, о войне с первого момента. И как бездарно, один стыд сплошной»46.
Со временем тогдашние «патриоты» сосредоточились на доказательстве извечной враждебности германизма к славянству. Прибегали даже к авторитету Ю. Крижанича. Немцы, по его убеждению, – якобы вековечный и злейший враг славянства. Крижанич называл их «гордыми, надутыми, достойными осмеяния и суетными владыками мира», отмеченными «холодной, сознательной и бесчеловечной жестокостью». Причину господства немцев автор начала XX в. объяснял доверием славян к инородцам, или «чужебесием». Последствия были ужасными: «немецкое иго страшнее монгольского»47.
Разумеется, Крижанич высказывался о германских соседях не столь однозначно. К тому же он, в отличие от «патриотов 1914 года», отнюдь не выдвигал панславистских идей48. Жёстко отвергая выдумки отдельных иностранцев, он выделял тех западных авторов, которые «не хулят наших простых вещей и скромного нероскошного образа жизни»49. О противоборстве славянства и германизма речи вообще не заходило. Однако теперь некоторые публицисты принялись доказывать, что «целью нашей славянской политики должно стать создание всеславянского союзного государства, состоящего из ряда автономных уделов»50. Сомнительно, что подобные планы могли прельстить всех славян, не говоря уже о союзниках по Антанте.
Очень скоро обнаружилось, что попытка насаждения православия в оккупированной русскими войсками Галиции обернулась неудачей. Рьяно взявшийся за дело ученик архиепископа Антония (Храповицкого) епископ Евлогий (Георгиевский), по сути дела, восстановил против России славян Австро-Венгрии. Даже его «учитель», человек крайне правых взглядов, как явствует из переписки, был расстроен его деяниями51. Причина неудачи состояла в том, что присланные (подчас «сосланные») из России малограмотные священники пытались внедрить «истинную» веру административными методами. Местное население, напротив, привыкло иметь дело с католическими и униатскими клириками, получившими университетское образование.
Безрассудные антигерманисты обнаружились и среди российских интеллектуалов. В ноябре 1914 г. 33-летний православный философ В. Ф. Эрн в публичной лекции составил единый ряд «врагов России» – от Канта до Круппа52. Мнения по этому поводу, правда, разделились. Примечательно, что сходной логики придерживался Лебон, заявлявший, что понять истоки войны можно, вчитавшись в труды германских философов, историков и экономистов «за последние полвека»53. Несколько позже варшавский профессор утверждал нечто подобное, ссылаясь на И. Канта и Л. Фейербаха54.
Образ Канта по-своему эксплуатировался и с противоположной стороны. Известный британский германофил и расист Х. Чемберлен (фигура редкая, но по-своему символичная) находил родство между религиозным мировоззрением Канта и «живым ядром учения Христа». По его мнению, Кант – «первый совершенный образец свободного германца» и вместе с тем «истинный продолжатель Лютера»55. Со своей стороны, германский военный теоретик Ф. Бернгарди «осуждал» Канта за проповедь пагубной «идеи всеобщего братства»56. Между тем Канта уместнее было отнести к «прагматичным» пацифистам (что со временем стало характерно для новоевропейского отношения к войне). В работе «К вечному миру» (1795) он, выступая против «бесчестных военных хитростей», добивался конвенционального ведения войн57. Так или иначе, европейские мыслители вольно или невольно начали искажать общее культурное наследие во имя имперского гегемонизма. Гурный обратил внимание на то, как в 1915 г. на эту тему высказался З. Фрейд. По мнению венского профессора, война продемонстрировала жалкое состояние всей европейской культуры, причём значительная часть ответственности лежала на учёных: «Антрополог стремится провозгласить противника низшим и вырождающимся; психиатр диагностирует у него душевную или умственную болезнь»58.
В этих условиях о К. Марксе вспоминали преимущественно социалисты, шокированные бесславным крахом Интернационала. А для большинства интеллигентных обывателей марксизм встал в единый ряд с прочими зловредными порождениями немецкой культуры59. При этом некоторые связывали с войной «конец гегемонии германского социализма и марксизма» и, соответственно, окончание «идейного ученичества» русской мысли60. Так или иначе, и Европа, и Россия скатывались к интеллектуальному оскудению. Одним из показателей этого стала дикая волна конспирологических вымыслов и слухов, породивших физически отталкивающий образ злонамеренного врага61.
Российскому обществу суждено было пережить своё особое духовное грехопадение. Церковной прессе пришлось обосновывать необходимость и даже «полезность» войны, разоблачать замыслы всевозможных внешних и внутренних врагов вопреки принципу «не убий!» и пафосу Нагорной проповеди. Некоторых иереев эта задача вдохновляла. Так, кишинёвский миссионер доказывал, что «война за правое дело есть дело Божие… наивысший долг любви, заповеданной Спасителем… и всякий, говорящий иное, есть изменник Богу, царю, вере, родине и всей нашей русской христианской жизни»62. Конечно, это заявление выглядело сомнительно, поскольку православная Болгария, как и Румыния, пока не определились со своей ориентацией.
Тем не менее некоторые неославянофилы связывали с войной особые надежды. Православный философ С. Н. Булгаков в начале августа 1914 г. в частном письме сообщал: «Какая молитвенность загорелась, как воссияла Мать наша православная Церковь!». Вряд ли подобные самообольщения увлекали всех. Либерал Е. Н. Трубецкой комментировал: «Булгаков говорит о гниении Запада и о народе-богоносце в стиле “Руссланд, Руссланд юбер аллес”». Он находил, что это «плохой и вредный перевод с немецкого»63. Тем не менее в «патриотический» самообман впадали многие мыслители.
Православная Российская Церковь фактически подхватила светские гегемонистские и этнофобские аргументы. В первую очередь это касалось обоснования права России на завладение Черноморскими проливами и особенно символом торжества православия – Святой Софией. Наряду с этим Церковь по-своему продвигала идею противостояния славянства и германизма – как последней битвы православия с лютеранством. Соответственно поддерживалась «освободительная» миссия Российской империи по отношению к славянским народам, включая католические. Вместе с тем утверждалось, что «христианство с его проповедью мира, любви и братства народов – антипод мусульманства с его религиозно-национальным партикуляризмом и фанатической нетерпимостью». Из этого делалось парадоксальное заключение: если «между христианством и исламом в принципе невозможен союз», то, напротив, Германия и Турция – это союз «двух родственных по духу сил»64. Получалось, что война давала шанс ответить на вызов, который был «брошен дряхлеющей мусульманской империей» и германизмом. России пришлось «взять в руки меч Олега и Игоря, чтобы осуществить для них несбыточные русские заветы». В послании Синода «За что мы воюем?», адресованном славянам занятых русской армией территорий, говорилось: «Немцы поняли, в чём главная сила Руси и всего славянства – в вере православной», и стали вести под неё «подкопы». Далее утверждалось: «Католики захватили в свои руки власть над православной Церковью. От них стало зависеть назначение православных епископов… Они наполняли православные страны проповедниками чужой веры… Немцы поддерживали унию»65. «Германское движение явно стремится отрезать нас с юга от остального мира и охватить полукругом, отодвинув к азиатской стороне», – пугали в православной прессе66.
В 1916 г. архиепископ Антоний (Храповицкий) открыто признавал, что «русское правительство, представительное и исполнительное, русское общество и русское земство оторвалось от русской истории, от… народной культуры». Однако он тут же призвал «приложить все усилия к воссозданию Византийской империи», включавшей в себя «все греческие провинции Балканского и Малоазийского полуостровов»67. Похоже, даже этот достаточно предусмотрительный идеолог утратил чувство реальности: за 34 года до его заявления ненавидимый им Э. Ренан предупреждал, что «разделение Европы зашло слишком далеко, чтобы попытка к универсальному господству не вызвала немедленной коалиции»68. По существу, это было напоминанием о Крымской войне.
Вдохновлять беспокойное население поликонфессиональной империи на служение верой и правдой царю и Отечеству становилось всё сложнее в связи с падением авторитета власти и разномыслием внутри «господствующей и первенствующей» Церкви. К тому же Синод оказался в эпицентре скандалов, связанных с Г. Распутиным. Некоторые епархиальные архиереи уклонялись от контактов с морально сомнительным столичным начальством69. Со временем кризисом Русской Церкви по-своему воспользовались большевики. Будущий главный «безбожник» Е. Ярославский в начале февраля 1918 г. сообщал жене: «В богомольной Москве меня, еретика, слушают с затаённым дыханием тысячи, потому что я кроткий образ Христа, сына бедного плотника, противопоставляю митрополитам, получающим по 300 рублей оклада жалования»70. Сам он словно упивался «любовью», исходящей от московских рабочих. Большевики уверенно создавали свою собственную «религию», вливая агрессивную энергию в ослабевшие основания прежней веры.
* * *
Между войной и революцией всегда существовала некая экзистенциальная связь: обе опирались на силу, обе обещали счастливую будущую жизнь. То общественное обновление, которое они сулили, не могло не оставить следов в душах людей. В любом случае после военных потрясений культура должна была поменять своё привычное течение. Но насколько основательно и почему?
Революции приходят из глубин человеческого сознания и коллективной психики. Считается, что подобно тому, как французскую революцию сделал либертен (последователь маркиза де Сада), русскую революцию – футурист. Действительно, всякий творческий акт революционен. Если Франция сумела в результате «бунта» внутри культуры сбросить с себя стыд перед телесностью, то России выпал шанс избавиться от «буржуазной» морали, социального неравенства и имперского гегемонизма, вызвавших мировую войну. Как писали современники, «русский футуризм – не мировоззрение… это – род революционного темперамента: явление общественное… пощёчина общественному вкусу… Творческие силы, десятилетиями не получавшие выхода, прорвались футуризмом»71.
В российском футуризме, как и во всём веками стискиваемом психосоциальном пространстве, было «слишком» много непосредственного чувства. Это походило на эстетизированный рессентимент. Неслучайно русский футуризм, начавшись с подражания итальянскому (воспевавшему войну как средство избавления Европы от культурного омертвления), двинулся в противоположном – антивоенном и революционном направлении. Он «подавал сигналы, перераставшие в восстание», ибо был «стихийным бунтом против всех условностей… мятежом, вспыхивавшим по всяким поводам, не имевшим никакого отношения к искусству»72.
Приходилось выбирать между привычкой к старому и желанием новизны. Это был непростой выбор. В феврале 1915 г. в публичной лекции историк Р. Ю. Виппер напоминал, что «в своё время Ренан предсказывал падение изящной и тонкой культуры, которое должно получиться от неимоверной скачки за материальными благами»73. Впрочем, Э. Ренан оставался скептиком и потому не вполне верил в силу любых, в том числе и своих, как всегда пугающих пророчеств.
Лёгкость, с которой самые разные люди приветствовали революцию, была связана также с тем, что существовала длительная традиция её идеализации. Со времён Дж. Мадзини и В. Гюго в Европе укреплялось представление о «мягкой» революции, осуществлённой подавляющим большинством народа. Вопреки растущему числу поклонников социального насилия, идея революции становилась частью эволюционной европейской культуры. Ч. Ломброзо утверждал, что «в истории революция есть синоним эволюции». Революции – результат «медленного и постепенного развития», которое служит залогом их быстрого и безболезненного успеха. Возможно, он мечтал о «совершенном» перевороте, заявляя, что революции обусловлены «благородными и возвышенными» страстями, а бунты, – «низкими и жестокими»; между ними «больше антагонизма, чем аналогии»74. По иронии судьбы эти слова, ставшие известными российской публике ещё в 1903 г., ничуть не смягчили бунтарства 1905 г.
Конечно, немногие, подобно А. Блоку, чувствовали, что ход будущей смуты определит застоявшаяся «чёрная земная кровь», сулящая «неслыханные перемены», «невиданные мятежи». Ещё меньше было тех, кто, подобно Н. А. Бердяеву, в октябре 1915 г. мог заявить, что в самой русской государственности «скрыто тёмное иррациональное начало, и оно опрокидывает все теории политического рационализма»75. Русскую революцию подталкивали вовсе не либеральные политики. Они скорее надеялись избежать её с помощью известных демократических институтов.
В тогдашней Европе сложилась иная ситуация: очень многие не сомневались, что достигнутый материальный прогресс был лишь преддверием «настоящей» жизни, которую может принести революция. Футуристическому этосу сопутствовала эмоциональная аура, связанная с надеждами то ли на быструю победоносную войну, то ли на «справедливую» революцию, то ли на то и на другое вместе. Это настроение подогревалось социалистами. Ещё в 1911 г. ведущий теоретик II Интернационала К. Каутский в статье «Война и мир» утверждал, что вслед за европейской войной последует международная социальная революция. В этих представлениях некоторые (не только В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий) отводили России роль застрельщика. Казалось, для этого были достаточные основания. В. Серж, радикальный социалист, уверял, что для него война «предвещала… очистительную бурю, которая… становилась неизбежной, – русскую революцию». Как он утверждал, «революционеры прекрасно знали, что самодержавная империя со всеми своими вешателями, погромами, безвкусной роскошью галунов, голодом, сибирской каторгой, застарелым беззаконием не имела шансов пережить войну»76. Казалось, что «русский пример» способен перевернуть не только Россию, но и мир. Известный публицист Д. В. Философов в частном письме заявлял: «Я хочу, я требую, чтобы это море крови было искуплено обновлением и возрождением России»77. Возможная «цена» революции, похоже, не впечатляла. Некоторые были уверены, что война «обнаружила, что никакая кровавая революция не может быть ни так кровава, ни так бедственна, ни так бессмысленна, как эта бойня»78.
Конечно, справа революцией пугали, как могли. Ещё в июле 1911 г. Столыпин, незадолго до своей символичной гибели от рук то ли террориста, то ли вконец запутавшегося человека, предупреждал: война будет гибельна для России и династии79. Наиболее обстоятельно указывал на грозящую опасность от столкновения с Германией лидер группы правых Государственного совета П. Н. Дурново, человек умный и независимый. В представленной в феврале 1914 г. императору «Записке» этот германофил предупреждал: война выгодна только Англии, которая всегда решала свои задачи чужими руками. А поскольку основная тяжесть европейской борьбы ляжет на Россию, то она «будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддаётся даже предвидению»80. Такая перспектива становилась всё более очевидной. В октябре 1914 г. крайне правый протоиерей И. И. Восторгов писал Антонию (Храповицкому): «Если не будут победы, нас ждут ужасы новой революции»81. Но, как казалось, надежда на лучшее будущее пересиливала подобные страхи.
Самые разные люди связывали приближение революции с войной. «Я росла в России в те годы, когда сомнений, что старый мир так или иначе будет разрушен, не было… Протест был нашим воздухом и нашим реальным чувством», – вспоминала Н. Берберова82. В другой своей работе она сообщала: «Внезапно все почувствовали себя на краю бездны, стремительно поглощавшей всё прекрасное, великое, дорогое, незаменимое… Зрелище это вызывало священный трепет, было исполнено щемящей тоски и зловещего смысла»83.
Некоторые представители верхов по-своему поняли свой долг перед культурой. В марте 1915 г. было образовано Общество возрождения художественной Руси. Инициатором его создания стал кн. А. А. Ширинский-Шихматов – известный правый деятель, взявшийся доказывать, что Петербург – это «нерусский» город, следовательно, нужно бороться за «родную старину» путём распространения в народе знаний о русской истории и русском искусстве84. Среди членов общества преобладали аристократы и сановники. Вряд ли эта инициатива встретила широкую поддержку.
Со временем стали актуализироваться вполне невинные живописные сюжеты. Так, своего рода революционное перевоплощение пережила известная картина Ф. Малявина «Вихрь», изображающая деревенских баб, самозабвенно пляшущих в красных одеяниях. В конце 1916 г. некий критик, вновь увидев её на выставке, возопил: «Красная баба идёт… Кажется, она всё испепелит и своротит на своей дороге»85. Некоторые деятели культуры словно спешили накликать революцию. А пока устраивались многочисленные выставки «союзных» и отечественных художников. Заметным художественно-пропагандистским явлением стал лубок, причём в этом жанре отметились авангардисты и футуристы – работы последних часто сопровождались топорными антинемецкими стихами В. Маяковского86.
Шок от войны вызвал в людских умах болезненный разрыв с привычной упорядоченностью. Это породило немало надежд и прозрений, невозможных в спокойную эпоху. Историк и педагог из Подмосковья Н. П. Розанов в октябре 1914 г. утверждал, что «настоящая война – это борьба не государств, а национальностей и культур… это не война, а революционное восстание народов против произвола бронированного кулака тевтона»87. Защита Отечества как бы уравнивалась с революционным насилием. Это не могло не сказаться на развитии событий. К тому же война смешивала привычные слои культуры. Т. Л. Толстая так комментировала начало войны: «У нас в деревне с лихорадочным ожиданием ждут “забастовки”, или, иными словами, земельного бунта. Страшный суд наступает, и жутко, что будем привлечены к ответу»88. Позднее Розанов уверял, что он адресовался священникам, однако они продолжили защищать войну до победы по обязанности, не желая прослыть пацифистами и опасаясь, что «в Сибирь сошлют»89.
В ноябре 1916 г. военный радиотелеграфист и будущий советский академик С. И. Вавилов считал, что «война – [это] непонятная, сокрушительная и божественная революция, которая мир перевернёт»90. Некоторые в частной переписке так конкретизировали пути развёртывания событий: «Война окончится, и крестьянство сдвинется с места психически, внутренне», так как в нём пробудится «желание “награды”». Автор письма подчёркивал, что «идея компенсации за услуги правительству во время войны живёт буквально везде в рядах либералов и буржуазии, то же самое произойдёт по отношению к национальностям»91. Некоторые считали, что войну надо довести «до окончательной победы, иначе Россия действительно обратится в азиатское государство»92. Большинство наблюдателей ожидало революции после войны93. В любом случае эмоции перекрывали рассудок. Правящий режим вызывал такое отвращение, что люди готовы были избавиться от него любой ценой, не задумываясь о последствиях. На этой волне внутри потрясённой культуры словно включился механизм самореализующихся пророчеств. По сути дела, именно он определил последующий ход событий.
Разумеется, в начале войны не обошлось без проявлений искреннего патриотизма. Часть студентов поспешила отправиться добровольцами в действующую армию. Но этот порыв оказался неустойчивым: позднее Струве, окончательно превратившийся из марксиста в националиста, назвал его «вспышкой соломы»94. Характерно, что российские эмигранты, включая евреев, зачастую предпочитали вступать во французскую, а не русскую армию. П. Рутенберг (известный эсер, позднее сионист) выступил в Нью-Йорке с брошюрой «Национальное возрождение еврейского народа» (переведённой в России «для служебного пользования»), в которой выражал надежду, что в результате войны «Россия освободится от своего страшного внутреннего врага – преступного самодержавия». Он считал, что «русские литература, наука, искусство и музыка открыли перед ним глубину страданий русского народа», и он, став «русским интеллигентом», «идеологом русского пролетариата», боролся, как мог, за свободу русского народа, пока не оказался в эмиграции, где в его взглядах «произошла метаморфоза»95.
Как бы то ни было, часть общества стала отделять официальный «патриотизм» как выражение преданности монарху от естественного чувства любви к своему народу и его культуре. При этом не обошлось без крайностей. Так, Ленин в брошюре «О национальной гордости великороссов» счёл патриотичным только то, что способствовало революционному движению. Практически все современники событий вкладывали, причём отнюдь не бескорыстно, в тогдашние манифестации патриотизма своё содержание.
* * *
«Страсти являются могущественнейшими факторами как в революциях, так и в бунтах, – считал Ломброзо. – В первых работают обыкновенно страсти более благородные и человечные, а в последних – жестокие и бесчеловечные»96. Это была иллюзия: в том и другом случае действуют толпы с их импульсивностью, нетерпимостью, эмоциональной неустойчивостью. Лебон неслучайно отмечал, что «верить в преобладание революционных инстинктов в толпе – значит не знать её психологии». Он напоминал: «Толпа слишком управляется бессознательным и потому слишком подчиняется влиянию вековой наследственности… Предоставленная самой себе, толпа скоро утомляется своими собственными беспорядками и инстинктивно стремится к рабству»97. Время подтвердило справедливость подобных оценок. Социолог Ж. Бодрийяр считал, что масса – «явление имплозивное», она представляет собой нечто колеблющееся «между пассивностью и необузданной спонтанностью»98. Именно последнее возобладало после падения самодержавия.
В феврале–марте 1917 г. различные формы бунтарства – от отчаянного до демонстративно-хулиганского – явно преобладали. Однако это не помешало объявить произошедшую «революцию» не только всенародной, но и «бескровной». Похоже, для корректного описания «иррациональных» событий просто не захотели найти адекватную терминологию. Такое в истории случается постоянно, в турбулентные времена – в особенности.
Дело в том, что революции привыкли описывать – как и было принято в эпоху Просвещения – в терминах рационального поступательного движения в духе прогрессистского телеологизма, причём в рамках позитивистской методологии. Трудно сказать, насколько это оправдано применительно к Европе XIX в. Однако прилагать подобные характеристики к событиям в России, подавляющее большинство населения которой пребывало в состоянии культурного застоя, по меньшей мере, самонадеянно. Вся история громадной державы, ход которой неслучайно прерывался бунтарскими смутами, оказывалась не столько поступательной, сколько цикличной.
Главная причина познавательного ступора состояла в том, что всё российское развитие, имевшее догоняющий по отношению к Европе характер, приобрело имитационный, т. е. псевдоморфный характер99. Образованный россиянин, не лишённый комплекса национальной неполноценности, тем более старался не столько «быть», как «казаться». Это сказалось на представлениях о прошлом, в том числе на таких сюжетах, как бунты и революции. Влияние марксизма закрепило прогрессистский – теперь в виде рывка к демократии и социализму – взгляд на события 1917 г.
Между тем 1917 год стал апогеем системного кризиса империи, разворачивавшегося по законам домодерной цикличности. Он включал в себя ряд последовательных характеристик-компонентов: этический, идеологический, политический, организационный, социальный, охлократический, наконец, рекреационный (возвращение к авторитаризму). В конечном счёте, непривычная свобода «утомляла» людей, сопутствующее ей чрезмерное возбуждение оборачивалось фрустрацией100.
Этот процесс сопровождался, с одной стороны, ростом оппозиционных настроений, с другой – накоплением ресентиментной энергии. Вплоть до середины 1917 г. движение протекало под преимущественным воздействием интеллигенции, обеспечивавшей ему (в значительной мере вопреки реалиям) понятную ей самой репрезентацию. Затем возобладали непонятные для образованных верхов устрашающие стихийно-охлократические силы. Отсюда – «спасительное» для тогдашних умов тяготение к логически упрощённому восприятию бунтарской синергетики. На этой основе сложился стереотип подхода к революции, в значительной степени сохранивший свою привлекательность в наши дни101.
Участники всякой революции обычно сразу принимаются за создание возвышающих её (т. е. их самих) мифов102. Российская интеллигенция некоторое время предпочитала не замечать стихии разрушения, включая кровавое насилие толп. Между тем собственно революции в феврале–марте в её «классическом» понимании (политический переворот) не было и не могло быть. Произошёл саморазвал немощной власти, которую народ принялся самозабвенно и мстительно (несмотря на формальную отмену смертной казни) добивать. Понимали и признавали это немногие. «Революции не было, – записал в августе 1917 г. в дневнике московский литературовед и этнолог Н. М. Мендельсон (по иронии судьбы автор биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина), – самодержавие никто не свергал. А было вот что: огромный организм, сверхчеловек, именуемый Россией, заболел каким-то сверхсифилисом. Отгнила голова – говорят: “Мы свергли самодержавие!” Враньё: отгнила голова и отвалилась»103. Понятно, что в данном случае начало сказываться недовольство нарастающим бунтарством. Но в 1931 г. М. Флоринский, словно отвечая зарубежным сторонникам «заговорщической» версии событий, отмечал: «Едва ли будет правильным сказать, что царский режим был свергнут, он просто пал»104.
Своеобразие ситуации состояло в том, что удержаться на организационно-политической стадии развития кризиса стало невозможно – появление Петроградского совета ясно указывало на это. Но двоевластия не сложилось – возникло нечто вроде «двоебезвластия», как зло иронизировал Троцкий105. Поэтому попытка российских социалистов завладеть политическим лидерством, провозгласив новые цели войны в согласии с союзнической демократией, оказалась иллюзорной. Народ был убеждён в возможности «сразу» решить все социальные вопросы, минуя не вполне понятные ему демократические институты.
Некоторое время либералам и социалистам удавалось удерживать ситуацию под контролем – однако отнюдь не за счёт сознательности, а скорее за счёт внушаемости масс. «Очень часто слова, имеющие самый неопределённый смысл, оказывают самое большое влияние на толпу, – считал Лебон. – Таковы, например, термины: “демократия”, “социализм”, “равенство”, “свобода”… Между тем в них, несомненно, заключается магическая сила, как будто на самом деле в них скрыто разрешение всех проблем»106. Впрочем, магия слов не может быть бесконечной – они словно стираются, теряя своё эмоциональное наполнение. Тот же Лебон предупреждал, что со временем «в толпе возникает глубокая антипатия к образам, вызываемым известными словами»107.
Примерно с середины лета 1917 г. начался охлократический период революции. Поначалу его попытался «организовать» Ленин, заявивший в «Апрельских тезисах»: «Мы не шарлатаны. Мы должны базироваться только на сознательности масс»108. Впрочем, организационного оптимизма хватило ненадолго: скоро он призвал «следовать за массой» и даже «учиться у массы»109. В наше время высказывалась мысль: массы «не являются ни хорошими проводниками политическими, ни хорошими проводниками смысла вообще»110. Так и было. В 1917 г. массы хотели, прежде всего, прекращения войны любой ценой, любой властью. Как иронизировал в связи с этим Г. Чулков, «русские бунтари 1917 года выступили под знаменем марксизма, но их тактика и даже ближайшая их программа вовсе не совпадала с идеями научного социализма: они предали забвению все предпосылки социального историзма и, подобно Бакунину, опираясь на тёмные непросвещённые массы, стремились ввергнуть страну во все случайности анархии со странною надеждою выплыть в океане бушующего строя “без руля и без ветрил”»111. Ленин, как государственник, разумеется, не собирался следовать М. А. Бакунину. Вольно или невольно он действовал в соответствии с законами самоорганизующегося хаоса и потому победил.
Известный писатель Л. Н. Андреев 15 сентября 1917 г. нарисовал жуткую картину недалёкого будущего. В статье с примечательным названием «Veni, Creator!» («Приди, Создатель!») он писал: «По лужам красной крови вступает завоеватель Ленин, гордый победитель, триумфатор, – громче приветствуй его, русский народ!.. Ты почти Бог, Ленин. Что тебе всё земное и человеческое?»112. Ленин, однако, был вполне земным – может, слишком земным – человеком, а потому он решительно отрицал ценностные наслоения «буржуазной» культуры.
Ленину по-своему вторили – нет, вовсе не рабочие и крестьяне, – а «пролетарские» и «крестьянские» поэты. Они словно намеревались испепелить весь – «буржуазный», по их представлению, – старый мир. В их поэтике неистовствовал красный цвет – цвет огня и крови. За пафосом разрушения невозможно было разглядеть ни социализма, ни «светлого будущего»113. Лишь позднее выдающийся философ Ф. А. Степун пришёл к иному выводу. «Прошли годы, и стало ясно, что сквозь искусство футуристов пробивалась в жизнь величайшая тема новой истории, страшная тема большевистской революции… с её утопическим грюндерством, доверием к хаосу…, – писал он. – Большевизм представлял собою социал-политическое воплощение образа новой культуры, который впервые наметился в футуристическом искусстве… Готовящиеся в истории сдвиги всегда пророчески намечаются в искусстве»114.
Смысл происходящего был далёк от представлений идеологов и политиков европейского образца: преобладала логика распада старой и слабой – самодержавной, а затем «демократической» – власти, упустившей рычаги управления страной. Возможности большевизма словно взбухали на волне слухов об их силе и бессилии Временного правительства. После июльских событий, казалось бы, обернувшихся окончательным поражением большевиков, ожидания их нового выступления лишь усилились. Сатирические журналы, неустанно поносившие и высмеивавшие «немецкого шпиона» Ленина, связывали возможности большевиков с ростом анархии115. К осени стали «угадывать» сроки переворота. Некий чиновник Министерства финансов словно обречённо отмечал в дневнике даты грядущего выступления большевиков: 17 сентября, 15, 19, 20, 23 октября116.
Характерно, что значительная часть руководства большевиков не торопила события, будто бы ожидая, что «зрелый плод» революции сам упадёт им в руки. Настаивал на ближайшем вооружённом выступлении только Ленин, вроде бы изолированный нерешительными соратниками и лишённый реальных рычагов управления событиями. И всё же большевикам пришлось выступить, объявив о свержении существующей власти, причём фактически никого об этом не спрашивая. II Всероссийскому съезду Советов осталось лишь проштемпелевать то, что было сделано Военно-революционным комитетом (созданным, казалось бы, для защиты революции от внешнего врага и внутренней контрреволюции).
Из двух знаменитых декретов съезда, вроде бы самолично написанных Лениным, один являлся воспроизведением собранных эсерами крестьянских наказов о земле, где говорилось о её переходе под контроль крестьянских общин. «Эпохальный» документ не вызвал никаких прений, лишь один делегат выступил против (при восьми воздержавшихся). Поняли просто: земля перейдёт к крестьянам. Декрет о мире был не законодательным актом, а то ли призывом, то ли пожеланием превращения «войны империалистической в войну гражданскую» (мировую). И это тоже было истолковано низами в силу собственного понимания: конец войне.
Возможно, самое поразительное, что делегаты съезда практически единогласно, простым поднятием рук, как на митинге, голосовали за всё подряд. Действовала «магия единодушия» – то ли психология толпы, то ли практика сельского схода. Голосовали «скопом», причём вразрез с наказами избирателей. Как ни парадоксально, лишь 75% формальных сторонников Ленина, согласно наказам, должны были поддержать лозунг «Вся власть Советам!», 13% большевиков устраивал девиз «Вся власть демократии!», а 9%, даже считали, что власть должна быть коалиционной117.
Поклонники демократии западного типа не могли понять, как такое могло случиться. Впрочем, по-своему убедительное объяснение предложил Андреев. «Кто совершил это страшное превращение?» – задавался он вопросом. И, словно по указке Ломброзо, отвечал: «Это злодеяние совершил Бунт, который родился одновременно с революцией, уподобился ей на время, украл её лозунги и извратил их, обманул народы – и удушил свободу и всякую жизнь». Между «всемертвящим Бунтом» и «всеживящей Революцией», считал он, существует лишь внешнее сходство. «Бунт есть начало чисто стихийное, лишённое мысли». Напротив, Революция «полна мысли, она сама есть не что иное, как восставшая мысль». Всё логично: «в противоположность бунту, Революция бескорыстна и все цели её в будущем»118.
Но можно ли отделить революцию от бунта? В тогдашней России это вряд ли бы удалось. Тем более трудно было увидеть в произошедшем крах культуры Просвещения.
Европейскую культуру победила её собственная наивная самоуверенность. Это стало очевидно уже в 1914 г. Поражение её российских почитателей в 1917 г. это подтвердило. Под влиянием внешнего прогресса люди разучились вглядываться в собственное культурное наследие. «Более поздняя эпоха никогда не поймёт, с каким отсутствием психологического инстинкта мы оценивали конфликт человеческих духовных настроений, как мы не замечали совершенно очевидных явлений, потому что наше воззрение не было установлено на замечательнейшие черты нашей эпохи»119, – признавал позднее Ратенау. Об идейной самонадеянности русской интеллигенции и говорить не приходится. Она до сих пор страдает непониманием собственного прошлого.
Россия получила ту революцию, какую заслужила неповоротливостью власти, необразованностью народа, нетерпеливостью интеллигенции. «То, что произошло в России на гребне Первой мировой войны, было смутой… первобытным хаосом, в котором человеческая жизнь потеряла всякую ценность, и жизнь уже не регулировалась человеческими законами»120, – считал В. Страда. «Что же так зачаровывает в революции?.. Утверждение волевого начала в истории и образа человека как деятельной и автономной демократической личности», – считал Ф. Фюре. После того как в конце XVIII в. французы выступили борцами «за воссоздание человека», в большевиках увидели естественных продолжателей их дела. «Сыграло свою роль и то, что революцию в самой некапиталистической стране Ленин произвёл под знаменем учения Маркса, – заключал Фюре. – Противоречивое сочетание веры во всемогущество действия и непоколебимость законов истории, возможно… и определяет силу воздействия Октября на умы»121. Это не заблуждение, это вера, без которой не обходится ни один человек.
В наши дни может показаться, что Российская революция не несла в себе никаких позитивных культурно-исторических интенций. На деле – в контексте большого исторического времени – всё смотрится по-своему оптимистично. Так, Лебон утверждал: «Ложные верования и всяческие иллюзии служат главными факторами цивилизации… Не в погоне за истиной, а в погоне за иллюзиями человек устремлялся всего более; никогда не достигая химер, к которым стремился, он содействовал прогрессу, о котором и не помышлял»122.
Люди обычно не ведают, что творят. Тем не менее Российскую революцию можно было понять даже с помощью известного в её времена теоретического багажа. Увы, человек не умеет практично использовать «проблески гения», предпочитая опираться на «коллективную глупость веков». Однако историк обязан избегать этих – увы, обычных – ловушек исторической памяти.
1 См.: Виппер Р. Ю. Гибель европейской культуры. М., 1918; Barnes H. E. The Genesis of the World War: An Introduction to the Problem of War Guilt. N.Y., 1926; Renouvin P. La crise européenne et la Grande guerre (1904–1918). P., 1934; Guerres et Cultures: 1914–1918. P., 1994; Kramer A. Dynamics of Destruction: Culture and Mass Killing in the First World War. Oxford, 2007; Hastings M. Catastrophe: Europe Goes to War 1914. L., 2013; etc.
2 Одним из первых заговорил об этом ещё до войны Г. Уэллс (Уэллс Г. Освобождённый мир: Повесть о человечестве. [М.], 1914). Также см.: Человек и война: Война как явление культуры. М., 2001; Guerres et Cultures…; The First World War as a Clash of Cultures / Ed. F. Bridgham. Rochester (NY), 2006.
3 См.: The New Cultural History / Ed. by L. Hunt. Berkeley; Los Angeles, 1989.
4 Флоренский П. У водоразделов мысли. Т. 2. М., 2013. С. 68.
5 Никольский С. А. Империя и культура. Философско-литературное осмысление Октября. М., 2017. С. 10.
6 Гобсон Дж. Империализм. М., 2009. С. 17.
7 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 1997. С. 64.
8 Ассман А. Забвение истории – одержимость историей. М., 2019. С. 6.
9 Радкау Й. Эпоха нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера. М., 2017. С. 177, 203.
10 Подробнее см.: Булдаков В. П. 1914 год: русская культура перед лицом европейского кризиса // Политическая концептология. Журнал междисциплинарных исследований (Ростов-на-Дону). 2015. № 1; Булдаков В. П. Мировая война, европейская культура, русский бунт: к переосмыслению событий 1917 г. // Великая российская революция, 1917: сто лет изучения. М., 2017; Булдаков В. П. Революция и культура: траектории переосмысления // Не отступая, быть самим собой. К 100-летию со дня рождения К. Н. Тарновского. Сборник статей и воспоминаний. М., 2021; Булдаков В. П. Война, революция, агония Серебряного века // Философические письма. 2022. № 4; Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Первая мировая война: основные тренды российской культурной жизни // Труды Института российской истории. Вып. 17. М., 2023.
11 Гершензон М. Избранное. Т. 4. Тройственный образ совершенства. М.; Иерусалим, 2000. С. 13–14.
12 Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб., 1999. С. 13, 16, 18, 23–24.
13 См.: Королёв С. А. Бесконечное пространство. Гео- и социографические образы власти в России. М., 1997.
14 Ломброзо Ч. Безумие прежде и теперь. Одесса, 1897. С. 6.
15 Бехтерев В. М. Внушение и его роль в общественной жизни. СПб., 2009. С. 246.
16 Ломброзо Ч., Ляски Р. Политическая преступность и революция по отношению к праву, уголовной антропологии и государственной науке. В 2 ч. СПб., 1906. С. 36–38.
17 Цвейг С. Вчерашний мир. М., 2004. С. 34.
18 Зубов В. П. Страдные годы России (1917–1925). М., 2004. С. 41.
19 Беликов П. Ф. Рерих и Горький // Учёные записки Тартуского государственного университета. Вып. 217. Труды по русской и славянской филологии. XIII. Горьковский сборник. Тарту, 1968. С. 258.
20 Гидони А. И. Творческий путь Рериха // Аполлон. 1915. № 4–5. С. 32.
21 Считалось даже, что «одной из причин развития нигилизма в России была чрезмерная интеллектуальная культура женщин» (Ломброзо Ч., Ляски Р. Указ. соч. С. 69), т. е., говоря современным языком, возникла болезненная форма сублимации.
22 Лукач Г. Ленин и классовая борьба. М., 2008. С. 37.
23 Morrissey S. K. Suicide and the Body Politic in Imperial Russia. Cambridge (Мass.), 2006. Р. 311, 314.
24 Ершов М. Ф. Художественные тексты как исторические источники о жизни провинциальной России рубежа XIX–ХХ вв. // Петербургский исторический журнал. 2015. № 1. С. 64.
25 См.: Тэри Э. Россия в 1914 г.: экономический обзор. Париж, 1986.
26 Хутарев-Гарнишевский В. В. Противостояние: спецслужбы, армия и власть накануне падения Российской империи, 1913–1917 гг. М., 2020. С. 557–558.
27 Особый журнал Совета министров № 6 от 9 января 1914 г. По вопросу о мерах борьбы с хулиганством в сельских местностях // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1914 год. М., 2006. С. 44.
28 См.: Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: Православное сельское духовенство России во второй половине XIX – начале ХХ вв. М., 2002; Леонтьева Т. Г. Духовенство и сельский мир. 1905–1922 // Академик П. В. Волобуев. Неопубликованные работы. Воспоминания. Статьи. М., 2000. С. 279–299.
29 Краинский Н. В. Психофильм русской революции. М., 2016. С. 25, 27, 37–38.
30 См.: Булдаков В. П. Первая мировая война: геополитика и массы // Российская история. 2022. № 3. С. 95–108.
31 Гурный М. Великая война профессоров. Гуманитарные науки. 1912–1923. СПб., 2021. С. 18.
32 Ringer F. The Decline of the German Mandarins: The German Academic Community, 1890–1933. Cambridge (Mass.), 1969; Flasch K. Die geistige Mobilmachung: Die deutschen Intellektuellen und der Erste Weltkrieg. Ein Versuch. Berlin, 2000.
33 Лебон Г. Вчера и завтра. Сжатые мысли. М., 2016. С. 20.
34 Алданов М. А. Армагеддон. Записные книжки. Воспоминания. Портреты современников. М., 2006. С. 34.
35 Юнгер Э. В стальных грозах. СПб., 2000. С. 35.
36 Ландау Г. А. Сумерки Европы. М., 2022. С. 58.
37 Гурный М. Великая война профессоров… С. 264.
38 Scheler M. Der Genius des Krieges und Deutsche Krieg. Leipzig, 1915. S. 43.
39 Шелер М. К психологии английского этоса и лицемерия. М.; СПб., 2022. С. 19–24.
40 Лебон Г. Вчера и завтра… С. 18.
41 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. Тотальная мобилизация. О боли. СПб., 2000. С. 113.
42 Манн Т. Размышления аполитичного. М., 2015. С. 418.
43 Ратенау В. Новое хозяйство. М., 1923. С. 4–5.
44 Корнелисен К. Фронтовое поколение немецких историков и Первая мировая война // Наука, техника и общество России и Германии во время Первой мировой войны. СПб., 2007. С. 278.
45 Цит. по: Фассел П. Великая война и современная память. СПб., 2015. С. 31.
46 Гиппиус З. Петербургские дневники. М., 1982. С. 114.
47 Георгиевский А. Юрий Крижанич и современная действительность. Казань, 1914. С. 5–6.
48 Пичета В. И. Юрий Крижанич. Экономические и политические его взгляды. СПб., 1914. С. 3.
49 Крижанич Ю. Политика. М., 2003. С. 224–225.
50 Дусинский И. И. Геополитика России. М., 2003. С. 85, 88.
51 ГА РФ, ф. 102, оп. 265, д. 994, л. 1361; д. 995, л. 1494.
52 Первоначально Эрн назвал свою лекцию вызывающе: «Бронированный свищ», однако устроители на такое название не согласились. См.: Ильин И. А. Собрание сочинений. Дневник. Письма. Документы (1903–1938). М., 1999. С. 84.
53 Лебон Г. Вчера и завтра… С. 30.
54 Есипов В. В. Германцы. I: Жестокий народ. II: Жестокое право. Варшава, 1915. С. 33.
55 Чемберлен Х. С. Основания девятнадцатого столетия. Т. 2. СПб., 2012. С. 349, 352.
56 Бернгарди Ф., фон. Современная война. Основы современной войны. Бой и ведение войны. Накануне Первой мировой войны 1914–1918 гг. М., 2018. С. 7.
57 Кант И. Критика способности суждения. СПб., 2006. С. 460–466.
58 Гурный М. Великая война профессоров… С. 288–289.
59 ГА РФ, ф. 102, оп. 265, д. 978, л. 17.
60 Там же, д. 979, л. 59.
61 Булдаков В.П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию. М., 2015. С. 90–91.
62 Миссионерское обозрение. Журнал внутренней миссии. 1914. № 11. С. 236.
63 Взыскующие града: хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках А. С. Аскольдова, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Е. Н. Трубецкого, В. Ф. Эрна и др. М., 1997. С. 585, 594.
64 Церковный вестник. 1914. 20 ноября. № 47. Стб. 1425.
65 Цит. по: Зима В. Ф. Русская православная церковь в период Первой мировой войны. М., 2017. С. 49.
66 Церковный вестник. 1914. 30 октября. № 44. Стб. 1318, 1322–1324.
67 Антоний (Храповицкий), архиеп. Чей должен быть Константинополь? Ростов н/Д, 1916. С. 9, 10.
68 Ренан Э. Исторические статьи. Киев, 1902. С. 90.
69 Никон (Рклицкий), архиеп. Антоний (Храповицкий) и его время: 1863–1936. Кн. 2. Н. Новгород, 2004. С. 401–402.
70 Цит. по: Дальке С. Большевистское конструирование Я: перфоманс и автобиографика // Вера и личность в меняющемся обществе. Автобиографика и православие в России конца XVII – начала ХХ века. М., 2019. С. 367.
71 Пунин Н.Н. В борьбе за новое искусство (Искусство и революция). М., 2018. С. 34.
72 Там же. С. 32.
73 Виппер Р. Ю. Гибель европейской культуры. С. 46.
74 Ломброзо Ч., Ляски Р. Указ. соч. С. 26, 74, 82, 109.
75 Бердяев Н. Судьба России. М., 1990. С. 54.
76 Серж В. От революции к тоталитаризму. Воспоминания революционера. М.; Оренбург, 2001. С. 60.
77 ГА РФ, ф. 102, оп. 265, д. 996, л. 1576.
78 Там же, д. 980, л. 9.
79 Столыпин П. А. Переписка. М., 2004. С. 425.
80 Дурново П. Н. Записка // Красная новь. 1922. № 6(10). С. 187–196.
81 ГА РФ, ф. 102, оп. 265, д. 996, л. 1575.
82 Берберова Н. Н. Курсив мой. Автобиография. Т. 1. N.Y., 1983. С. 12.
83 Берберова Н. Блок и его время. М., 2012. С. 251.
84 РГИА, ф. 793, оп. 1, д. 2, л. 1, 10, 217, 240, 249–253.
85 Аксёнов В. Б. Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914–1918). М., 2020. С. 167, 437, 517–518.
86 Булдаков В.П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию. С. 89.
87 Розанов Н. П. Освободительная война. Подольск, 1914. С. 8.
88 Сухотина-Толстая Т. Л. Дневник. М., 1984. С. 459.
89 Розанов Н. П. Воспоминания старого москвича. М., 2004. С. 226.
90 «Война стала противна, исчезло всякое представление о её нужности»: из военных дневников С. И. Вавилова: 1914–1916 гг. // Исторический архив. 2014. № 4. С. 140.
91 ГА РФ, ф. 102, оп. 265, д. 979, л. 71–73.
92 Там же, д. 992, л. 1198.
93 Там же, д. 976, л. 62; д. 980, л. 35; д. 1066, л. 1723.
94 Франк С. Л. Биография П. Б. Струве. Нью-Йорк, 1956. С. 103.
95 ГА РФ, ф. 102, оп. 265, д. 1202, л. 11–11 об.
96 Ломброзо Ч., Ляски Р. Указ. соч. С. 70.
97 Лебон Г. Психология масс. СПб., 2015. С. 61.
98 Бодрийяр Ж. Фантомы современности // Ясперс К., Бодрийяр Ж. Призрак толпы. М., 2008. С. 187.
99 Подробнее см.: Королёв С. А. Псевдоморфоза как тип развития: случай России // Философия и культура. 2009. № 6.
100 Подробнее см.: Булдаков В. П. Quo vadis? Кризисы в России: пути переосмысления. М., 2007. С. 76–114.
101 См.: Булдаков В. П. Революция, эмоции, политики: к переосмыслению событий 1914–1917 гг. // Политическая концептология. 2017. № 2.
102 См.: Suny R. G. Thinking about Feelings. Affective Dispositions and Emotional Ties in Imperial Russia and the Ottoman Empire // Interpreting Emotions in Russia and Eastern Europe / Ed. by M. D. Steinberg and V. Sobol. DeKalb, 2011; Булдаков В. П. Россия, 1914–1918 гг.: война, эмоции, революция // Россия в годы Первой мировой войны, 1914–1918. М., 2014; Булдаков В. П. Революция и эмоции: К реинтерпретации политических событий 1914–1917 гг. // Эпоха войн и революций: 1914–1922. СПб., 2017; Булдаков В. П. Страсти революции: эмоциональная стихия 1917 года. М., 2024.
103 ОР РГБ, ф. 165, к. 1, д. 1, л. 8–8 об.
104 Florinsky M. The End of Russian Empire. N.Y., 1931. P. 240.
105 Троцкий Л. Двоебезвластие: к характеристике современного момента // Вперёд. Орган Петербургского междурайонного комитета объединённых с.-д. (интернационалистов). 1917. № 1. 15(2) июня. С. 3–4.
106 Лебон Г. Психология масс. С. 111–112.
107 Там же. С. 115.
108 Ленин В.И. ПСС. Т. 31. М., 1969. С. 105.
109 См.: Там же. Т. 33. М., 1969. С. 34, 35; Т. 37. М., 1969. С. 391.
110 Бодрийяр Ж. Фантомы современности. С. 186.
111 Чулков Г. Михаил Бакунин и бунтари 1917 года. М., 1917. С. 29.
112 Цит. по: Дудаков С. В. И. Ульянов: Знакомый незнакомец // Россия и современный мир. 2008. № 3(60). С. 119.
113 См.: Сборник пролетарских писателей / Под ред. М. Горького, А. Сереброва, А. Чапыгина. Пг., 1917; Gachon-Brémeau C. La poésie prolétarienne russe. 1914–1925. Annexe. [2] P., 2000; Steinberg M. Proletarian Imagination: Self, Modernity and the Sacred in Russia, 1910–1925. Ithaca; N.Y., 2002.
114 Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. М., 2023. С. 463–464.
115 Бич 1917: события года в сатире современников. М., 1917. С. 163, 175, 183, 185.
116 Русская революция глазами петроградского чиновника: дневник. 1917–1918. Oslo, 1986. С. 8, 10, 12–13, 23.
117 Второй Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов. М.; Л., 1928. С. 107.
118 Андреев Л.Н. S.O.S.: Дневник (1914–1919); Письма (1917–1919); Статьи и интервью (1919); Воспоминания современников (1918–1919). М.; СПб., 1994. С. 360–362.
119 Ратенау В. Механизация жизни. Пг., 1923. С. 41.
120 Страда В. Этика террора. От Фёдора Достоевского до Томаса Манна. М., 2014. С. 136.
121 Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. М., 1998. С. 83–84.
122 Цит. по: Ломброзо Ч., Ляски Р. Указ. соч. С. 79.
作者简介
Vladimir Buldakov
Institute of Russian history RAS
编辑信件的主要联系方式.
Email: otech_ist@mail.ru
главный научный сотрудник
俄罗斯联邦, Moscow参考
- Алданов М.А. Армагеддон. Записные книжки. Воспоминания. Портреты современников. М., 2006.
- Ассман А. Забвение истории – одержимость историей. М., 2019
- Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни. СПб., 2009
- Виппер Р.Ю. Гибель европейской культуры. М., 1918
- Гобсон Дж. Империализм. М., 2009
- Гурный М. Великая война профессоров: Гуманитарные науки: 1912–1923. СПб., 2021
- Зубов В.П. Страдные годы России (1917–1925). М., 2004
- Королёв С.А. Бесконечное пространство. Гео- и социографические образы власти в России. М., 1997
- Краинский Н.В. Психофильм русской революции. М., 2016
- Ландау Г.А. Сумерки Европы. М., 2022
- Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс: Православное сельское духовенство России во второй половине XIX – начале ХХ вв. М., 2002
- Ломброзо Ч., Ляски Р. Политическая преступность и революция по отношению к праву, уголовной антропологии и государственной науке. В 2 ч. СПб., 1906
- Лукач Г. Ленин и классовая борьба. М., 2008
- Никольский С.А. Империя и культура. Философско-литературное осмысление Октября. М., 2017
- Тэри Э. Россия в 1914 г.: экономический обзор. Париж, 1986
- Цвейг С. Вчерашний мир. М., 2004
- Флоренский П. У водоразделов мысли. Т. 2. М., 2013
- Хутарев-Гарнишевский В.В. Противостояние: спецслужбы, армия и власть накануне падения Российской империи, 1913–1917 гг. М., 2020
- Человек и война: Война как явление культуры. М., 2001
- Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб., 1999.
- Barnes H.E. The Genesis of the World War: An Introduction to the Problem of War Guilt. N.Y., 1926
- Flasch K. Die geistige Mobilmachung: Die deutschen Intellektuellen und der Erste Weltkrieg. Ein Versuch. Berlin, 2000
- Guerres et Cultures: 1914–1918. P., 1994;
- Kramer A. Dynamics of Destruction: Culture and Mass Killing in the First World War. Oxford, 2007
- Hastings M. Catastrophe: Europe Goes to War 1914. L., 2013
- Renouvin P. La crise européenne et la Grande guerre (1904–1918). P., 1934
补充文件