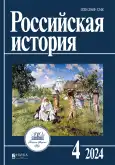Urban protopops in the public life of Russia in the era of the political crisis of the early 17th century
- Autores: Davidenko D.G.1,2
-
Afiliações:
- Russian State University for the Humanities
- Institute of Archaeology, Russian Academy of Sciences
- Edição: Nº 4 (2024)
- Páginas: 20-31
- Seção: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/2949-124X/article/view/268622
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24040023
- EDN: https://elibrary.ru/FGDFAA
- ID: 268622
Citar
Texto integral
Resumo
The article shows that the protopopes at the beginning of the XVII century usually took a patriotic position and opposed impostors and interventionists, which is especially clearly seen in Bryansk, Zaraysk, Nizhny Novgorod and Veliky Novgorod. Episodes of the protopops' loyal attitude towards the supporters of impostors are not typical and were caused by their presence in the occupied territories. The support of patriotic forces by the protopopes of Russian cities strengthened their position both within the clergy and in society as a whole, as manifested by their participation in the signing of the Approved Letter of Mikhail Fedorovich not among the Consecrated Cathedral, but as electors from places not traceable in an earlier era
Palavras-chave
Texto integral
Настоящая статья посвящена рассмотрению роли протопопов – представителей верхушки белого духовенства, служивших в городских соборах, – в событиях Смутного времени. Анализ их деятельности позволяет дополнить наши знания об отношении Церкви и отдельных её служителей к быстро меняющейся политической ситуации и к концепции государственного устроения; конкретизировать специфику положения белого (в первую очередь городского) духовенства среди иных категорий духовного сословия; расширить представление о статусном портрете протопопов, их происхождении, имущественном положении и связях с городским духовенством, а также с посадским и служилым населением.
Кафедрой предстоятеля Русской церкви был Успенский собор Московского Кремля. Здесь проходили важнейшие мероприятия, направленные на репрезентацию государственной власти. Старший священник собора имел по должности сан протопопа. 31 августа 1605 г. Лжедмитрий I выдал жалованную грамоту на имя протопопа Успенского собора Богдана1, к тому времени занимавшего должность менее двух лет; 30 октября 1603 г. протопопом там служил Григорий2. Протопоп Богдан пережил Лжедмитрия I, и 27 июня 1606 г. царь Василий Шуйский подтвердил на его имя жалованную грамоту, выданную Борисом Годуновым протопопу Ефимию 24 декабря 1598 г.3 Сохранение Богданом должности при Василии Шуйском, а также указание в «Сказании о Гришке Отрепьеве» на Успенский собор как на место заговора в пользу Василия Шуйского, позволяют предположить, что кто-то из его клириков (возможно, и сам протопоп) был во всём этом замешан4. Следующее подтверждение грамоты от 14 сентября 1613 г., уже на имя нового протопопа Кондратия, дал царь Михаил Фёдорович5.
В соседнем Архангельском соборе – царском некрополе – виднейшим лицом в конце XVI – начале XVII в. был архиепископ Елассонский (Архангельский) Арсений, участвоваший в церемониях, направленных на легитимизацию сменявших друг друга правителей. Вскоре после воцарения Михаила Фёдоровича архиепископ Арсений ушёл на Тверскую, а затем на Суздальскую кафедру6. В годы Смуты протопопом Архангельского собора служил Димитрий, заступивший в 1598 г. и упомянутый в сане 4 февраля 1608 г. В духовной грамоте 1611/12 г. отмечены «архангельского протопопа Дмитрия» сын Семён и брат Далмат, но из текста документа не вполне понятно, находился ли тогда протопоп Димитрий при должности. 28 октября 1613 г. протопопом там был Иван, иногда упоминаемый как Иван Дмитриев7. Возможно, он приходился сыном протопопу Димитрию и получил должность по наследству.
Благовещенский протопоп в течение XVI–XVII вв. по должности являлся государевым духовником, однако Борис Годунов и Лжедмитрий I отступили от этой традиции8. Благовещенский протопоп Терентий известен как автор посланий Лжедмитрию I. По предположению В. И. Ульяновского, создавая эти произведения, тот хотел вернуть статус царского духовника9. Уже 8 мая 1606 г. в брачном обряде Лжедмитрия I и Марины Мнишек участвовал благовещенский протопоп Феодор, считающийся одним из наиболее видных церковных композиторов10. Однако вскоре Терентий вернулся в домовой царский храм: ему адресована грамота Василия Шуйского на вотчины Благовещенского собора от 26 июля 1606 г. Он известен как автор «Повести о видении некоему мужу духовну» – произведения, созданного в октябре 1606 г. и хорошо укладывавшегося в контекст царствования Василия Шуйского11. Но вскоре после составления этого сочинения Терентий оставил должность. Ульяновский обратил внимание, что в свадьбе царя Василия Шуйского и Марии Петровны Буйносовой-Ростовской 17 января 1608 г. участвовал «духовник его, благовещенской протопоп Кондратей»12. Очевидно, Василий IV возродил традицию настоятельства в Благовещенском соборе государева духовника, а точнее – привёл своего духовника в этот собор, отстранив Терентия.
Дальнейшая судьба прежнего благовещенского протопопа решилась указом польского короля Сигизмунда III от 30 ноября 1610 г., предписавшего «протопопу Терентию быти по прежнему у Благовещенья, а благовещенскому протопопу… быти у Спаса на Дворце»13. Терентий, по всей видимости, старался быть лояльным и к Лжедмитрию I, и к Василию Шуйскому, и к польским властям, что создавало ему сомнительную репутацию. Царь Михаил Фёдорович относился к нему, по-видимому, прохладно. В чине венчания на царство Михаила Романова 11 июля 1613 г. как государев духовник фигурирует протопоп Кирилл. Последний отмечен и как получатель жалованья под 24 января и 3 июля 1614 г.14 Между тем в переписной книге собора упомянута грамота от 24 июня 1614 г., выданная на имя протопопа Андрея. Не сталкиваемся ли мы с уникальным случаем одновременной службы в причте Благовещенского собора двух протопопов? По предположению Н. Д. Извекова, «протопоп Андрей хотя и занимал должность настоятеля Благовещенского собора, но не был духовником царя Михаила Фёдоровича»15.
Таким образом, в Благовещенском соборе причт возглавляли часто сменявшие друг друга протопопы. Они нередко были государевыми духовниками, и их смене способствовала смена правителей. Запутывало ситуацию желание некоторых государей искать духовников вне клира Благовещенского собора.
В Успенском и Архангельском соборах в рассматриваемый период первыми лицами были архиереи, возглавлявшие церемониальные мероприятия, прославлявшие часто менявшихся правителей. Протопопы в этих мероприятиях играли более скромную роль, придерживаясь молчаливой и гибкой позиции. Это можно объяснить их жёсткой зависимостью от светской власти и священноначалия. Отсутствие же архиереев среди служителей Благовещенского собора перекладывало ответственность за церемониальные мероприятия, направленные на прославление менявшихся правителей, на протопопов. Благовещенский и архангельский протопопы, а также архангельский ключарь наряду с иными духовными и светскими лицами входили в состав делегации, отправленной к Михаилу Фёдоровичу и его матери в Кострому16. Протопоп женского Вознесенского монастыря Кирилл тоже не остался в стороне от политических событий; в сентябре 1610 г. он вошёл в состав посольства, отправленного к Сигизмунду III на переговоры о занятии русского трона королевичем Владиславом17.
В первые месяцы правления Михаила Фёдоровича протопопами Успенского Архангельского и Благовещенского соборов были уже новые лица. Утверждённую грамоту Михаила Фёдоровича, датированную маем 1613 г., не подписали московские протопопы, в том числе Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов, хотя аналогичный документ – составленную 15 годами ранее Утверждённую грамоту Бориса Годунова – московские протопопы подписывали. Возможно, соглашательская позиция протопопов трёх основных кремлёвских соборов ударила по их репутации в глазах правительства молодого монарха и способствовала потере ими должностей18.
Позиция протопопов в регионах, о которых сохранились отрывочные сведения, отличалась от политического поведения их московских коллег. Сохранилась челобитная протопопа брянской соборной Покровской церкви Алексия царю Михаилу Фёдоровичу, где говорится, что в 1606/07 г., когда Северские города целовали крест «вору Петрушке», он, «не хотя быти в воровстве, покиня жену и детей, прибежал к Москве к царю Василью душею и телом», после чего «за царя Василья во Брянске в асаде сидел и нужу великую терпел» (имеется в виду осада Брянска Лжедмитрием II («Тушинским вором») в ноябре 1607 г.)19. Жалованная подтвердительная грамота царя Михаила протопопу Покровской соборной церкви в Брянске Алексею Иванову сыну Протопопову на деревню Соколово с селищами в Фоминской волости Брянского уезда открывается ссылкой на события 1607/08 г. и излагает подробности пребывания протопопа Алексея в Брянске в осаде: «Как воры и литовские люди Брянеск осадили, и тот брянской соборной поп покровской протопоп Олексей Протопопов сын в осаде сидел с матерью, и с семьею, и з детми, пятнатцать человек… и у крестного целованья всяких осадных людей наказывал и крепил, и по сторожем по городу по ночам сторож дозирал, и про изменников и про лазутчиков боярину и воеводам сказывал, и гонцов к Москве промеж воровских полков из города за Десну реку проваживал и порукою по них имался, что тем гонцом к Москве з грамоты доходить». Во время осады город голодал, стоимость чети ржи превысила «штидесят рублев», и протопоп Алексий 15 декабря «пришед в Розряд», сказал воеводам кн. М. Ф. Кашину и О. Ржевскому «за городом на своем дворе блиско города ржи своей яму да сестры своей вдовы Марфы яму же ржи», откуда было «взято в город и роздано всяким ратным осадным людем безденежно сто семдесят пять чети. Да у него ж, протопопа Олексея, боярин и воеводы велели зажечь двор ево за городом для того, чтоб воры во дворе не сели и городу тесноты не зделали. Да у нево ж в осаде умерло трое лошадей»20. Родовое прозвание Алексея – Протопопов – свидетельствует о наследственном характере его должности. Документ говорит о благосостоянии протопопа и его заметной роли в городской жизни.
Придя в Москву в середине декабря 1607 г., протопоп Алексий, как можно предполагать на основании текста его челобитной, был награждён Василием Шуйским и какое-то время оставался в столице: «И за брянское асадное сиденье и за терпенья во 116-м году дал мне на Москве царь Василей во Брянском уезде из дворцовых сел вотчинку» (очевидно, деревню Соколово), после чего «на Москве при царе Василье в асаде сидел и нужю всякую терпел до московского разоренья». Скорее всего, вотчинная грамота погибла во время пожара в Москве в марте 1611 г. Челобитчик не имел постоянного адреса («от тех мест по ся места волочюсь меж двор») и не смог удержать за собой вотчины: «А тою моею вотчинкою завладели брянчене дети боярские насильством до литовского разаренья, а ныне тою моею вотчинкою владеют литовские люди». Судя по следующей фразе челобитной, ему всё же довелось побывать в Брянске в начале 1610-х гг., поскольку его «прислали к тебе, государю, к Москве изо Брянска безподможна для ради твоего царского збирания; и живучи… на Москве, проелся, стал наг и бос, и голоден, и одолжал великим долгом. А в воровстве… нигде не бывал»21.
Брянский протопоп Алексий подписал грамоту об избрании Михаила Фёдоровича на царство, причём не только от своего имени, но и от лица земляков: «Брянскай Покровскай протопоп Алексий в брянчен, которые во Брянске, дворян и детей боярских, и в посадцких, и в пушкореи, и в затинщиков, и в стрелцов и в во уездных людей места руку приложил»22. Упомянут он не как член Освященного собора, а среди выборных с мест. Он был не единственным выборным представителем от Брянска, среди них числились также выборные дворяне23, игумен Свенского монастыря Корнилий, подписавший документ также вместо келаря Иова, и строитель того же монастыря Варсонофий24. Рукоприкладство Алексия на Утверждённой грамоте Михаила Фёдоровича прямо указывает на его место и авторитет в глазах жителей города и уезда. Пребывая в Москве весной 1613 г., брянский протопоп не забывал и про личные интересы, выхлопотав у государя на свою вотчину «государеву жалованную вотчинною грамоту з Дворца, а другую отказную ис Поместного приказу», добившись 8 июня «для… бедности и разорения» и освобождения от уплаты подписных и печатных пошлин25. Вотчина, по-видимому, оказалась в его личной собственности, а не чилилась за городским собором и не находилась у него в пользовании на время исполнения должности.
Весной 1608 г. Зарайск и Коломну с боем взяли войска полковника А. И. Лисовского. 28 июня в бою у Медвежьего Брода войска Василия Шуйского отбили и привели к царю пленников, среди которых особо отмечены коломенский епископ Иосиф, боярин кн. Владимир Тимофеевич Долгоруков и протопоп «Зарайсково Николы». В 1608 г. повелением Василия Шуйского «прозьбою и молением протопопа» был сделан оклад к образу свт. Николая Чудотворца Зарайского26. Два года спустя государь внёс золотой приклад к иконе свт. Николая, находившейся в городском соборе, с надписью: «Лета 7118 генваря в 27 день государь царь и великий князь Василий Иоаннович всея Росии приложил к чудотворному образу великого чудотворца Николы Зарайского, как Бог освободи град его от воровских людей его чудотворцевою молитвою и добили челом государю». Как сказано в историческом описании храма, в 1610 г., когда «большая часть русских городов… присягнула самозванцу, Зарайск, управляемый в то время воеводою кн. Пожарским и руководимый убеждениями протопопа Димитрия, не только сам пребыл верным Шуйскому, но и своим примером удержал и другие города от измены законной власти». Согласно «Новому летописцу», от Пожарского требовали покориться Лжедмитрию II, но тот не поддался давлению, «никольский же протопоп Дмитрей крепляше его и благословляше умерети за истинную православную веру. Он же наипаче укрепляшесь»27. 1 декабря 1610 г. Зарайск осадил Исак Сунбулов, но успешная вылазка Дмитрия Пожарского освободила и город, и острог: «И в те поры стол[ьник] и воев[ода] к[нязь] Дм[итрий] Мих[айлович] Пожарской обрекся дати к вел[икому] Чуд[отворцу] Николе вкладу, и дал в храм Чуд[отворца] Николы протопопу Дмитрею с братьею вкладу книгу, глаголемую Устав печатной… и за ево Бога молити и родителей ево поминати и в Сенаник написати, а Бог сошлет по ево душу, и ево тем же поминати, дондеже и град Св. Николы стоит». Бой за Зарайский острог отмечен и в Новом летописце, правда, без упоминания протопопа Димитрия28.
Известна владельческая запись на книге: «Николы Чюдотворца Заразскаго протопопа Димитрия Леонтиева сына Протопопова». Поскольку протопоп Леонтий упомянут в расходной книге Казённого двора 14 декабря 1584 г. и 15 мая 1585 г., можно не сомневаться, что Димитрий приходился ему сыном, унаследовавшим должность родителя29. В наказе от 2 марта 1613 г. зарайский протопоп назван в составе посольства, отправившегося в Кострому к Михаилу Фёдоровичу с просьбой принять престол. Ему же вручили известительную грамоту о согласии Михаила Фёдоровича30. К Утверждённой грамоте царя Михаила «Николы Заразского протопоп Дмитрей и в выборных посадцких попов и уездьных, и посадцких и уездьных выборных место руку приложил»31. По предположению Ю. М. Эскина, протопоп уговорил кн. Д. М. Пожарского не возражать против кандидатуры Михаила Романова. При Михаиле Фёдоровиче он остался при своей должности32. В писцовой книге Зарайска 1624/25 г. отмечен никольский протопоп Микита Семионов, т. е. непрямой наследник Дмитрия. Впрочем, И. В. Добролюбов в списке протопопов без ссылки на источник под 1625 г. упоминает Евстратия Дмитриева33. Если эти сведения верны, то должность зарайского протопопа какое-то время исполнял его сын.
19 августа 1606 г. царь Василий Шуйский дал грамоту Преображенскому и Архангельскому соборам Нижнего Новгорода, из которой следует, что их причты возглавляли протопопы34. Грамота предписывает «игуменом, и ружных, и приходных, и посадцких церквей попом и дьяконом, спасского протопопа Савы слушати». Регламентировались наказания за ослушание протопопа и небрежение к городским общественным богослужениям вплоть до недельного ареста, который мог наложить протопоп: «А пристава по ослушников протопопу с братьею имати у наших, у нижегородцких, воевод и у дьяков»35. По наблюдениям С. Ф. Платонова, протопопу Савве принадлежало первенство среди духовенства Нижнего Новгорода, «и рядом с ним мог стать лишь один неподчиненный ему архимандрит главнейшего нижегородского Печерского монастыря». По интерпретации Б. М. Пудалова, «настоятелей нижегородских монастырей всего лишь обязывали участвовать в совместных городских крестных ходах, но не подчиняли спасскому протопопу… протопоп Спасо-Преображенского собора не имел власти над настоятелями монастырей»36.
Согласно не сохранившемуся до наших дней «Ельнинскому» хронографу, осенью 1611 г. в Нижнем Новгороде получили грамоту из Троице-Сергиева монастыря с призывом организоваться против неприятеля. Влиятельные горожане, в том числе Кузьма Минин, архимандрит Печерского монастыря Феодосий, спасский протопоп Савва, собрались на воеводском дворе и по инициативе Минина решили исполнить призыв братии. На следующий день нижегородцы направились в главный городской Спасский храм. По окончании проповеди протопоп Савва зачитал троицкую грамоту, выразив солидарность с ней. Затем с призывом к населению о пожертвованиях обратился Минин. И. Е. Забелин расценил это повествование как легендарное. Платонов в одной работе выразил скептическое отношение к источнику, в другой – охарактеризовал его как заслуживающий доверия. Он писал, что протопоп Савва «стоит в челе всей массы нижегородцев, его речью начинается официальная история нижегородской рати, его благословение и молитвы осеняют самое возникновение подвига и встречают князя Д. М. Пожарского в нижегородском соборе». По наблюдению Платонова, делегацию в Казань для склонения города на сторону ополчения возглавил Савва37.
Самое скептическое отношение к «Ельнинскому» хронографу высказал Пудалов, предложив видеть в нём явную фальсификацию. Соглашусь с ним в том, что роль Саввы в нижегородском движении 1611–1612 гг. «безусловно, активная, но не руководящая»38. Другие источники, которые подтверждали бы факт патриотической проповеди нижегородского протопопа, пока не обнаружены. Но эта фигура исторична; сведения о нём собраны и систематизированы39. Поддержка нижегородцами призыва Минина трудновообразима без благословения настоятеля главного городского собора. Позиция протопопа Саввы – первого лица среди белого духовенства Нижнего Новгорода – очевидна, и поддержка им Второго ополчения сомнений не вызывает. Архимандрит Печерского монастыря Феодосий был солидарен с Мининым и протопопом Саввой и от имени нижегородцев отправился к Пожарскому с просьбой возглавить ополчение40. Лидеры чёрного и белого духовенства поволжского города разделили между собой пастырские обязанности по увещеванию как горожан, так и единомышленников на соседних территориях.
В отписке царю Михаилу Фёдоровичу, датированной публикатором мартом 1613 г., названы приехавшие к Москве выборные люди из Нижнего Новгорода «спасской протопоп Савва да посадской человек Федор Марков с товарищи», отпущенные к избранному государю бить челом. Утверждённую грамоту об избрании Михаила Фёдоровича первым из нижегородцев подписал «выборной, спаской протопоп Сава». Он сохранил положение в городе, выданная ему жалованная грамота от 19 августа 1606 г. подтверждена на его же имя 4 марта 1624 г.41 До поступления в главный городской Спасский собор Савва служил священником в Космодемьянской церкви Нижнего Новгорода, следовательно, место протопопа получил, скорее всего, не по наследству42.
На северо-западе основную угрозу для государства представляли шведы, в 1611 г. захватившие Великий Новгород. Во время боя за город героизм продемонстрировал протопоп Амос: «Протопопу же софейскому Амосу запершусь на своем дворе с своими советники и бьющеся с немцами многое время, и много немец побил. Немцы же ему многажда говорили, чтобы он здался. Он же отнюдь на их словеса не уклонися. Бывшу же ему в то время у митрополита Исидора в запрещении. Митрополит же стоя на градцкой стене, поя молебны, видя ево крепкое стоятельство, прости и благослови его за очи, зря на двор его. Немцы же, видячи таковое ево жестокое стоятельство, приидоша всеми людьми и зажгоша у него двор, и згорел он совсем, ни единово не взяша живьем»43.
Известно, что имущество убитого во время восстания в 1608 г. новгородского воеводы Михаила Татищева описывали дьяк Иван Тимофеев и протопоп Амос, утаившие образа Спаса и Николая Чудотворца в золотых окладах (возможно, именно за это Амос и был запрещён митрополитом). Протопоп заявил, что являлся духовником убитого воеводы: «Сказал де протопоп… что Михайло Татищев был ему сын духовной». Амос приходился духовным отцом и дьяку Ивану Тимофееву, соучастнику сокрытия образов. Близок он был и боярину кн. М. В. Скопину-Шуйскому44. Протопоп Амос не единственный священник Софийского собора, пострадавший от оккупантов. Как следует из царской грамоты новгородскому воеводе кн. А. В. Хилкову от 20 ноября 1641 г., софийский протопоп Иван хотел сохранить старую практику взимания венечной пошлины с посадских и сельских церквей, мотивируя её законность наличием соответствующих грамот, в том числе и «харатейной», которую у софийского попа Никифора отняли убившие его «немецкие люди»45.
Наряду с фактами активного участия протопопов в борьбе с самозванцами и интервентами известны и прецеденты их умеренного содействия борцам за национальную независимость. В частности, «троецкой протопоп Гаврило Иванов сын вместо детей своих духовных» первым подписал челобитную царю Василию Шуйскому старосты Соли Камской Василия Алексеева от имени горожан и крестьян о займе казённых денег на содержание ратных людей от 2–5 июня 1609 г.46 Сохранилась грамота от 30 ноября 1606 г. митрополита Ростовского и Ярославского Филарета протопопу устюжского Успенского собора Константину с прописанием богомольной грамоты патриарха Гермогена о молебствии во всех церквах по случаю войны царя Василия Ивановича с приверженцами самозванца, укрепившегося в селе Коломенском47. Протопопу следовало довести до местного духовенства и горожан распоряжения архиерея, излагавшего, в свою очередь, указания патриарха и государя. Грамота митрополита Филарета в Устюжский уезд к протопопу Благовещенского собора Соли Вычегодской Луке с прописанием богомольной грамоты патриарха Гермогена о молебствии по случаю царского похода на приверженцев Лжедмитрия II от 7 июня 1607 г. даёт понять, что протопоп был лидером местного духовенства. На аналогичную мысль наводит текст грамоты митрополита Филарета протопопу Луке от 12 июня 1607 г. с призывом молиться по случаю победы боярина кн. А. В. Голицына над приверженцами самозванца у р. Восмы48.
В дальнейшем позиция митрополита Филарета поменялась. Осенью 1608 г. казаки Лжедмитрия II взяли Ростов и пленили владыку. Согласно Новому летописцу, Филарет держался до последнего, в чём ему содействовал не названный по имени протопоп. Наиболее стойкие ростовцы спасались в главном храме города, который всё же был взят49. После пленения и перемещения в Тушино Филарет от Лжедмитрия II получил статус «нареченного патриарха». Сохранилась его грамота Я. П. Сапеге от ноября 1608 г. Она начинается отсылкой к письму Сапеги, сообщавшему о разорении монастырского Благовещенского храма в Киржаче. Сапега просил архиерея «дати на освящение тому храму святый антиминс и благословити тот храм освящати». Филарет отвечал, что писал об антиминсе «в Ростов, к протопопу с братиею, а велели им ждати от тебя присылки; и как ты… пришлешь к нам в Ростов священника или дьякона, и мы тот святый антиминс велели протопопу с братьею дати тому священнику или дьякону, которого ты пришлешь». Указание об освящении Благовещенского храма архиерей передал «в Юрьев Полской к протопопу Моисею с братьею» в запечатанной грамоте через Сапегу. Свою просьбу Филарет формулировал следующим образом: «И ты б, господине, тое нашу грамоту в Юрьев к соборному протопопу Моисею с братьею послал, а святый антиминс, который к тебе привезут из Ростова, послал на Киржач и велел его освятить священником тое церкви. А как из Юрьева протопоп Моисей с братьею по нашей грамоте попа да дьякона на Киржач пришлют, и они тот храм освятят по правилом святых апостол и святых отец и по нашему благословению и указу»50. Вопрос об освящении церквей в патриаршей области по согласию с Сапегой решал ставленник тушинцев, претендовавший при действующем патриархе Гермогене на патриаршество ростовский митрополит Филарет. В этом со стороны митрополита можно усмотреть нарушение канонических норм (возможно, невольное).
Какую позицию занимали неназванный по имени протопоп Ростова и протопоп Юрьева Польского Моисей, источники прямо не говорят. Однако учитывая, что митрополит Филарет рассчитывал на исполнение ими своих предписаний, можно думать, что они не противодействовали ни митрополиту Филарету, ни тушинцам. Вскоре после взятия Лжедмитрием II Ростова ему присягнул и Ярославль. Осенью 1608 г. ярославцы составили повинную челобитную самозванцу, где среди духовенства названы «Спаского монастыря архимандрит и игумены, и протопоп, и попы, и диаконы». Тем не менее в начале апреля 1609 г. город вновь присягнул Василию Шуйскому51.
Известно, что убитого в декабре 1610 г. Лжедмитрия II похоронили в Калуге «в соборной церкве у Троицы»52. Запись о выдаче 8 февраля 1614 г. «государева жалованья из Колуги троецкому протопопу Якову» 53предполагает, что эта должность могла существовать в городе и несколькими годами ранее. Пребывание здесь самозванца и его похороны в городском соборе позволяют думать, что духовенство этого собора относилось к нему лояльно.
Протопопы участвовали в оформлении Утверждённой грамоты царя Михаила Фёдоровича, где они обозначены как участники собора после иных представителей духовенства, перед светскими лицами54. Известен указ, регламентировавший порядок рукоприкладств к Утверждённой грамоте. Сначала её должны были подписать митрополиты, архиепископы и епископы, а также архимандриты Чудова и Троице-Сергиева монастырей. Затем следовало подписать боярам, окольничим, думным дворянам и дьякам, потом «архимаритом и игуменом честных обителей пятма и шестма». Далее призывались к подписи чашники, стольники, стряпчие и большие дворяне. Затем документ следовало заверить «достальным архимаритом, и игуменом, и протопопом, и всему Освященному собору; после их дьяком из приказов и жильцом, и дворовым людем, и дворяном из городов и выборным всяким людем, которые на Москве для государского обереганья»55. На практике же сохранившиеся экземпляры грамоты сначала подписали архиереи и настоятели важнейших монастырей, затем бояре и окольничие, далее, перемежаясь, идут подписи стольников, стряпчих, людей без указания должностей и, наконец, выборных с мест56.
Протопопы подписывали грамоту не среди представителей духовенства, как это было в случае с Утверждённой грамотой Бориса Годунова в 1598 г., а как делегаты от городов вместе с выборными посадскими людьми. Кроме уже упомянутых брянского покровского протопопа Алексия, зарайского никольского Димитрия, нижегородского спасского Саввы, это были выборный с Вятки богоявленский протопоп Павел и серпуховской троицкий протопоп Василий57. Из вятского духовенства помимо выборного протопопа Павла грамоту подписали «выборной Успенского монастыря архимарит Иона», подпись которого в обоих экземплярах стоит строго перед подписью протопопа Павла, и поп Игнатий58, расписавшийся в обоих экземплярах сразу после вятских архимандрита и протопопа. Экземпляр грамоты из Оружейной палаты скрепила и подпись архимандрита серпуховского Высоцкого монастыря Иосифа, причём непосредственно перед подписью серпуховского протопопа Василия, но без указания на делегировавших его лиц59. По-видимому, в Вятке и Серпухове архимандрит был более высокопоставленным лицом, чем протопоп, но в Серпухове именно протопоп выступает лицом, уполномоченным местным населением. В то же время брянский протопоп Алексий подписал оба экземпляра грамоты перед игуменом Свенского монастыря60.
Приведённые сведения позволяют установить поведение протопопов русских городов в это непростое время. Поддержали национально-патриотические силы в начале XVII в. протоиереи в Брянске, Зарайске, Нижнем Новгороде и Великом Новгороде. Если об эпизодах противодействия городских протопопов тушинцам и интервентам мы имеем прямые сведения, то о лояльном отношении к ним представителей городского духовенства можно судить лишь на основании косвенных данных. Находившиеся в жёсткой зависимости от государственной власти протопопы московских Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов сохраняли лояльность к часто менявшимся правителям, но она выражалась в основном на формальном церемониальном уровне, за исключением благовещенского протопопа Терентия, поддержавшего Лжедмитрия I и Василия Шуйского ещё и литературной деятельностью. Можно допустить лояльное отношение к тушинцам протопопов Ростова, Юрьева и Ярославля, с осени 1608 г. находившихся под фактическим их контролем.
Подписание Утверждённой грамоты Михаила Фёдоровича настоятелями монастырей и городскими священниками не среди духовенства – после архиереев и перед светскими лицами, – а в конце, среди выборных людей с мест, стало новшеством в оформлении соборных актов. Активизация их участия в важнейших государственных мероприятиях свидетельствует об усилении их роли в жизни городов. Факт подписания городскими протопопами Утверждённой грамоты я рассматриваю как индикатор возрастания веса и авторитета этой сословно-профессиональной группы внутри духовенства и в обществе в целом.
1 Акты Российского государства. Архивы московских монастырей и соборов XV – начало XVII вв. М., 1998 (далее – АРГ). № 10. С. 31.
2 Там же. № 9. С. 28.
3 Там же. № 6. С. 23–25.
4 Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией (далее – РИБ). Т. 13. СПб., 1909. Стб. 747–748; Корецкий В. И. Успенский собор как памятник идейно-политической жизни Москвы конца XV – начала XVII вв. // История и реставрация памятников Кремля (Государственные музеи Московского Кремля. Материалы и исследования. Вып. 6). М., 1989. С. 73; Ульяновский В. И. «Священство» и «царство» в начале Смуты. М., 2021. С. 271–272.
5 АРГ. № 6. С. 25.
6 Давиденко Д. Г. Служители Кремлёвского Архангельского собора в общественной жизни и на представительных собраниях в конце XVI – начале XVII вв. // Представительные институты в России в контексте европейской истории XV – середины XVII в. М., 2017. С. 292–296.
7 Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII вв. (далее – АСЗ). Т. 3. М., 2002. № 262. С. 214; АРГ. № 23. С. 72; № 26. С. 82; Давиденко Д. Г. Служители Кремлёвского Архангельского собора… С. 287–291, 296; Давиденко Д. Г. Священнослужители Кремлёвского Архангельского собора и их материальное обеспечение в XVII веке // Московский Кремль XV столетия. Архангельский собор и колокольня «Иван Великий» Московского Кремля. 500 лет. Т. 2. М., 2011. С. 257.
8 Ульяновский В.И. «Священство» и «царство»… С. 276.
9 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Императорской академии наук (далее – ААЭ). Т. 2. СПб., 1836. № 24. С. 383–385; Ульяновский В. И. «Священство» и «царство»… С. 276.
10 Дмитриевский А. Архиепископ Елассонский Арсений и мемуары его по русской истории по рукописи Трапезунтского Сумелийского монастыря. Киев, 1899. С. 111; Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной Коллегии иностранных дел (далее – СГГД). Ч. 2. М., 1819. № 138. С. 289–293; Ульяновский В. И. «Священство» и «царство»… С. 268–269, 278.
11 Переписная книга Московского Благовещенского собора по спискам архива Оружейной палаты и Донского монастыря // Сборник на 1873 год, изданный Обществом древнерусского искусства при Московском публичном музее. М., 1873. С. 42; РИБ. Т. 13. Стб. 101–106, 177–186; Буланин Д. М., Енин Г. П. Терентий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. XVII в. Ч. 4. СПб., 2004. С. 7–11; Ульяновский В. И. Смутное время. М., 2006. С. 185–213.
12 Белокуров С. А. Разрядные записи за Смутное время (7113–7121 гг.). М., 1907. С. 270; Ульяновский В. И. «Священство» и «царство»… С. 278.
13 Акты, относящиеся к истории Западной России (далее – АЗР). Т. 4. СПб., 1851. № 183. С. 389.
14 СГГД. Ч. 3. М., 1822. № 16. С. 71; РИБ. Т. 9. СПб., 1884. С. 227–228, 331.
15 Переписная книга… С. 42–43; Извеков Н. Д. Московские кремлёвские дворцовые церкви и служившие при них лица в XVII веке. М., 1906. С. 98.
16 СГГД. Ч. 3. № 2–3, 6, 11, 12. С. 8, 11, 16, 46, 51; Дворцовые разряды, по Высочайшему повелению изданные II отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии (далее – ДР). Т. 1. СПб., 1850. Стб. 24, 30, 31, 69.
17 АЗР. Т. 4. С. 319. № 182.
18 ААЭ. Т. 2. № 7. С. 47. П. Г. Любомиров полагал, что протопопы Благовещенского и Архангельского соборов участвовали в процессе выработки Освященным собором Утверждённой грамоты Михаила Фёдоровича на том основании, что они входили в состав посольства в Кострому (Любомиров П. Г. Очерк истории Нижегородского ополчения 1611–1613 гг. М., 1939. С. 187). Однако их подписей нет ни на одном из двух экземпляров документа.
19 Народное движение в России в эпоху Смуты начала XVII века. 1601–1608. Сборник документов / Отв. ред. Н. М. Рогожин. М., 2003. № 88. С. 207, 392, примеч. 2. См. также: Первые месяцы царствования Михаила Фёдоровича (Столпцы Печатного приказа). М., 1915. № 349. С. 120.
20 АСЗ. Т. 3. С. 455. № 536. Текст известен в выдержке и опубликован по списку 1620-х гг. Датировка публикатора – 1613–1626 гг. Выписка из грамоты в начале ХХ в. хранилась в повреждённом виде в делах Орловской архивной комиссии и содержала дату – 7121 г. В выписке говорилось, что «за то его, протопопа, рачение и протчия описанныя в той грамоте деенья ево труд пожаловано в Фощеной волости из дворцовых сел деревня Соколово да починок Першин… крестьян и всякими угодди и принадлежностьми» (Шульгин А. О протоиерее Брянского Покровскаго собора о. Алексее, пожертвовавшем в 1607 г. хлеб // Орловские епархиальные ведомости. 1905. № 15. С. 437–39; Попов В. Брянский Покровский собор. Орёл, 1907. С. 6–7, 27–28).
21 Народное движение… № 88. С. 207, 392.
22 Белокуров С. А. Утверженная грамота об избрании на Московское государство Михаила Фёдоровича Романова. М., 1906. С. 84. № 169–166. Грамота известна в двух экземплярах. Первая цифра обозначает номер подписи на «архивском» экземпляре, а вторая – на экземпляре из Оружейной палаты. Здесь и далее, кроме особо оговорённых случаев, документ цитируется по «архивскому» экземпляру.
23 Там же. С. 84. № 166–163.
24 Там же. С. 92. № 234–174, 235–175.
25 Народное движение… № 88. С. 208.
26 ПСРЛ. Т. 14. С. 81; Козляков В. Н. Василий Шуйский. М., 2007. С. 165; Аверин К. Историческое известие о жизни и деяниях Димитрия, протоиерея зарайского Николаевского собора. М., 1837. С. 12–14.
27 Зарайский Николаевский собор. Рязань, 1878. С. 28; ПСРЛ. Т. 14. С. 99.
28 Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. 3. М., 1989. Стб. 106; Зарайский Николаевский собор. С. 36–37; Добролюбов И. В. Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии. Т. 1. Зарайск, 1884. С. 173; ПСРЛ. Т. 14. С. 107.
29 Аверин К. Указ. соч. Вклейка перед титульным листом; Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографической комиссией (далее – ДАИ). Т. 1. СПб., 1846. № 131. С. 194, 205–206; Родословие протопопа Димитрия Леонтьева записано в синодике рязанского Успенского собора (Эскин Ю. М. Дмитрий Михайлович Пожарский. М., 2013. С. 42).
30 ДР. Т. 1. Стб. 31; СГГД. Ч. 3. № 6. С. 16; № 10. С. 45 («С сею, господа, грамотою послали к Вам Ивана Васильева сына Усова да Николы Зарайского протопопа Дмитрия»).
31 Белокуров С. А. Утверженная грамота… С. 85. № 172–191.
32 Эскин Ю. М. Дмитрий Михайлович Пожарский. С. 107; Аверин К. Указ. соч. С. 20–23; Флоря Б. Н. Леонтьев Димитрий // Православная энциклопедия. Т. 40. М., 2015. С. 564.
33 Зарайск. Материалы для истории города XVI–XVIII вв. М., 1883. С. 2; Добролюбов И. В. Историко-статистическое описание… Т. 1. С. 167.
34 Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией (далее – АИ). Т. 2. СПб., 1841. № 69. С. 86–89.
35 Там же. С. 89. Подтверждалась 3 апреля 1614 г. и 4 марта 1624 г.
36 Платонов С. Ф. Савва Ефимьев, протопоп Спасо-Преображенского собора в Нижнем Новгороде // Платонов С. Ф. Сочинения. Т. 3. М., 2012. С. 196; Пудалов Б. М. Третье имя на обложке (к вопросу о руководителях земского движения в Нижнем Новгороде в 1611–1612 гг.) // Мининские чтения. 2008. Н. Новгород, 2010. С. 128–129.
37 Мельников П. Нижний Новгород и нижегородцы в Смутное время // Отечественные записки. 1843. Т. 29. № 7. С. 23–24. Описание и фрагментарное цитирование «Ельнинского» хронографа см.: Там же. С. 31–32; Забелин И. Е. Минин и Пожарский. «Прямые» и «кривые» в Смутное время. СПб., 2005. С. 22–28; Платонов С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник // Платонов С. Ф. Сочинения. Т. 1. М., 2010. С. 467–469; Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1995. С. 342–343; Платонов С. Ф. Савва Ефимьев… С. 201.
38 Пудалов Б. М. Третье имя на обложке… С. 131–133.
39 Новейший обзор сведений с указанием публикаций см.: Морохин А. В. Кузьма Минин. М., 2021. С. 80–81.
40 ПСРЛ. Т. 14. С. 116; Морохин А. В. Кузьма Минин. С. 81.
41 ДР. Т. 1. Стб. 1085–1086; Белокуров С. А. Утверженная грамота… С. 90. № 221–233; АИ. Т. 2. № 69. С. 90.
42 Садовский А. Я. Новый документ о протопопе Савве Еуфимьеве // Действия Нижегородской губернской учёной архивной комиссии. Вып. 9. Т. 15. Н. Новгород, 1916. С. 15–16; Пудалов Б. М. К биографии Саввы Евфимьева (фрагмент Нижегородской кабальной книги 1585 г.) // Мининские чтения. Н. Новгород, 2002. С. 43–44.
43 ПСРЛ. Т. 14. С. 113–114.
44 Черепнин Л. В. Новые материалы о дьяке Иване Тимофееве – авторе «Временника» // Исторический архив. 1960. № 4. С. 165–167, 173–175; Черепнин Л. В. Материалы по истории русской культуры и русско-шведских культурных связей XVII в. в архивах Швеции // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом). Т. 17. М.; Л., 1961. С. 458; Седов П. В. Захват Новгорода шведами в 1611 г. // Новгородский исторический сборник. Вып. 4. СПб., 1993. С. 123.
45 ААЭ. Т. 3. СПб., 1836. № 306. С. 452.
46 АИ. Т. 2. № 230. С. 270.
47 ААЭ. Т. 2. № 57–59. С. 126–136.
48 Там же. № 73, 74. С. 164–168.
49 ПСРЛ. Т. 14. С. 83.
50 АИ. Т. 2. № 106. С. 136.
51 Тушинский вор. Личность, окружение, эпоха. М., 2001. С. 286, 368, 388; АИ. Т. 2. № 101. С. 133.
52 ПСРЛ. Т. 14. С. 105; Буссов К. Московская хроника. М.; Л., 1961. С. 179.
53 РИБ. Т. 9. С. 238.
54 Белокуров С. А. Утверженная грамота… С. 74.
55 Там же. С. 4, примеч. 1.
56 Там же. С. 75–92. На некоторые расхождения в порядке подписей на экземплярах грамоты обратил внимание Белокуров (Там же. С. 12–13).
57 Там же. С. 84. № 169–166; С. 85. № 172–191; С. 89. № 217–229; С. 90. № 221–233; С. 90. № отс-215.
58 Там же. С. 89. № 216–228, 218–230.
59 Там же. С. 90. № Отс.–214.
60 Там же. С. 84. № 169–166; С. 92. № 234–174. И всё же подписей монастырских настоятелей среди выборных с мест больше, чем подписей протопопов.
Sobre autores
Dmitry Davidenko
Russian State University for the Humanities; Institute of Archaeology, Russian Academy of Sciences
Autor responsável pela correspondência
Email: otech_ist@mail.ru
канд. ист. наук
Rússia, MoscowBibliografia
- Аверин К. Историческое известие о жизни и деяниях Димитрия, протоиерея зарайского Николаевского собора. М., 1837. 38 с.
- Белокуров С.А. Утверженная грамота об избрании на Московское государство Михаила Фёдоровича Романова. М., 1906. 120 с.
- Буланин Д.М., Енин Г.П. Терентий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. XVII в. Ч. 4. СПб., 2004. С. 7–11.
- Давиденко Д.Г. Священнослужители Кремлёвского Архангельского собора и их материальное обеспечение в XVII веке // Московский Кремль XV столетия. Архангельский собор и колокольня «Иван Великий» Московского Кремля. 500 лет. Т. 2. М., 2011. С. 250–257.
- Давиденко Д.Г. Служители Кремлёвского Архангельского собора в общественной жизни и на представительных собраниях в конце XVI – начале XVII вв. // Представительные институты в России в контексте европейской истории XV – середины XVII в. М., 2017. С. 287–296.
- Дмитриевский А. Архиепископ Елассонский Арсений и мемуары его по русской истории по рукописи Трапезунтского Сумелийского монастыря. Киев, 1899. 234 с.
- Добролюбов И.В. Историко-статистическое описание церквей и монастырей Рязанской епархии. Т. 1. Зарайск, 1884. 363, V с.
- Забелин И.Е. Минин и Пожарский. «Прямые» и «кривые» в Смутное время. СПб., 2005. 261, 3 с.
- Зарайск. Материалы для истории города XVI–XVIII вв. М., 1883. 91 с.
- Зарайский Николаевский собор. Рязань, 1878. 88 с.
- Извеков Н.Д. Московские кремлёвские дворцовые церкви и служившие при них лица в XVII веке. М., 1906. 268 с.
- Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. 3. М., 1989. 1332 стб.
- Козляков В.Н. Василий Шуйский. М., 2007. 300 с.
- Корецкий В.И. Успенский собор как памятник идейно-политической жизни Москвы конца XV – начала XVII вв. // История и реставрация памятников Кремля (Государственные музеи Московского Кремля. Материалы и исследования. Вып. 6). М., 1989. С. 64–76.
- Любомиров П.Г. Очерк истории Нижегородского ополчения 1611–1613 гг. М., 1939. 342 с.
- Мельников П. Нижний Новгород и нижегородцы в Смутное время // Отечественные записки. 1843. Т. 29. № 7. С. 1–32.
- Морохин А.В. Кузьма Минин. М., 2021. 288 с.
- Платонов С.Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник // Платонов С.Ф. Сочинения. Т. 1. М., 2010. С. 187–526.
- Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1995. 471 с.
- Платонов С.Ф. Савва Ефимьев, протопоп Спасо-Преображенского собора в Нижнем Новгороде // Платонов С.Ф. Сочинения. Т. 3. М., 2012. С. 196–202.
- Попов В. Брянский Покровский собор. Орёл, 1907. 34 с.
- Пудалов Б.М. К биографии Саввы Евфимьева (фрагмент Нижегородской кабальной книги 1585 г. ) // Мининские чтения. Н. Новгород, 2002. С. 40–45.
- Пудалов Б.М. Третье имя на обложке (к вопросу о руководителях земского движения в Нижнем Новгороде в 1611–1612 гг.) // Мининские чтения. 2008. Н. Новгород, 2010. С. 125–137.
- Садовский А.Я. Новый документ о протопопе Савве Еуфимьеве // Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Вып. 9. Т. 15. Н. Новгород, 1916. С. 15–16.
- Седов П.В. Захват Новгорода шведами в 1611 г. // Новгородский исторический сборник. Вып. 4. СПб., 1993. С. 116–127.
- Ульяновский В.И. «Священство» и «царство» в начале Смуты. М., 2021. 807 с.
- Ульяновский В.И. Смутное время. М., 2006. 447 с.
- Флоря Б.Н. Леонтьев Димитрий // Православная энциклопедия. Т. 40. М., 2015. С. 564.
- Черепнин Л.В. Материалы по истории русской культуры и русско-шведских культурных связей XVII в. в архивах Швеции // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом). Т. 17. М.; Л., 1961. С. 454–481.
- Черепнин Л.В. Новые материалы о дьяке Иване Тимофееве – авторе «Временника» // Исторический архив. 1960. № 4. С. 162–177.
- Шульгин А. О протоиерее Брянского Покровскаго собора о. Алексее, пожертвовавшем в 1607 г. хлеб // Орловские епархиальные ведомости. 1905. № 15. С. 437–439.
- Эскин Ю.М. Дмитрий Михайлович Пожарский. М., 2013. 332 с.
Arquivos suplementares