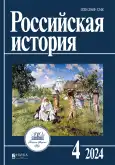An enlightened reactionary
- Authors: Mamonov A.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Russia History, Russian Academy of Sciences
- Issue: No 4 (2024)
- Pages: 191-206
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/2949-124X/article/view/268646
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24040218
- EDN: https://elibrary.ru/FEFPIW
- ID: 268646
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the characteristics of the life, views, state and scientific activities of Count D.A. Tolstoy and their coverage in the latest monograph by I.E.Barykina.
Full Text
Свой «опыт биографии министра» И. Е. Барыкина делит на «две сюжетные линии: бурные коллизии чиновничьей жизни и кабинетное затишье научных штудий» (с. 8). Но начинает она «с самых истоков», рассказывая про «родственное окружение» Дмитрия Андреевича (с. 9–53), его учёбу в Лицее (с. 53–69), друзей и знакомых (с. 69–80), семью (с. 80–89). Исследовательница вынуждена признать, что не сохранилось никаких сведений о детстве графа, об «атмосфере, царившей в родительском доме, об играх и забавах», о его болезненном младшем брате Всеволоде, умершем в 19 лет, и проч. (с. 18). Тем не менее она пытается собрать всё, что известно о домашней обстановке и фамильных преданиях той ветви графского рода, к которой принадлежал консервативный сановник. Так, в книге ярко представлен его хорошо образованный и обеспеченный дед гр. С. Ф. Толстой, скончавшийся задолго до рождения своего знаменитого внука и оставивший 12 детей, навсегда рассорившихся при разделе наследства. Тут же сообщается о сломанной судьбе П. И. Колошина (мужа двоюродной сестры гр. Д. А. Толстого), попавшего в 1825 г. под следствие по делу о мятеже на Сенатской площади, к которому, проживая в Москве и давно покинув тайные общества, он не имел никакого отношения. Летом 1826 г. его освободили, но выгнали со службы, оставив «в сильном подозрении» с испорченным в каземате зрением; через 10 лет он полностью ослеп. Ещё трагичнее сложилась судьба отца Дмитрия Андреевича: гр. А. С. Толстой, являвшийся, по словам Барыкиной, «типичным светским молодым человеком», в 1830 г. был убит во время попойки обиженным собутыльником. Молодая вдова, которой не исполнилось тогда 25 лет, оставшись с двумя сыновьями и дочерью, вскоре вступила в брак с их гувернёром. Вслед за Е. М. Феоктистовым автор сообщает, что старший сын так и не простил матери «вторичное замужество». В 1849 г. он не приехал на её похороны, оставшись по делам службы в Западном крае (с. 20). Мог ли он прервать командировку? Хотел ли? Вероятно, это уже никто не выяснит.
Так или иначе, графа мало что связывало с родителями. С девяти лет он воспитывался в Дворянском институте при Московском университете, а в 1836–1842 гг. – в Царскосельском лицее. Впрочем, и об этом периоде его жизни сказать что-либо трудно: лицеисты XII выпуска воспоминаний о своей учёбе не написали. В результате характеризовать лицейские порядки тех лет автору пришлось по «Запискам для немногих» А. В. Головнина – едва ли не главного антагониста и антипода графа (с. 55–57). И Головнин, окончивший курс двумя годами ранее, и гр. Толстой числились первыми по успеваемости и удостоились золотой медали, а также права поступать на службу с чином IX класса. Но их жизненный опыт и личные качества всё же слишком различались, и одинаковые условия обучения могли восприниматься и оцениваться ими по-разному.
Лицей славился своими корпоративными традициями, но крепких дружеских связей в его стенах гр. Толстой, похоже, не приобрёл. Более того, в 1842 г. его заявления вызвали отчисление одного из учащихся, после чего остальные прекратили общение с графом. Проявив характер, он отказался признать вину и провёл последний год в гордом одиночестве. Любопытно, что это не мешало ему в дальнейшем участвовать в праздновании лицейских годовщин и даже собирать однокурсников в 1860 г. у себя на квартире (с. 61–63). Судя по всему, юношеский конфликт удалось уладить. Во всяком случае, возглавив в 1865 г. духовное ведомство, граф предложил должность товарища обер-прокурора Святейшего Синода другому лицеисту XII выпуска – Ю. В. Толстому, который и занимал этот пост в 1866–1878 гг., вплоть до своей смерти. Биографы редко пишут про этот тандем (к примеру, Барыкина упоминает Ю. В. Толстого лишь в связи с присуждением ему Уваровской премии (с. 250)). Между тем Юрий Васильевич был, пожалуй, единственным сотрудником гр. Толстого, знавшим его с молодых лет. С другими одноклассниками, среди которых – директор Азиатского департамента МИД П. Н. Стремоухов, сенатор Н. П. Семёнов, учёный и публицист Н. Я. Данилевский, граф, видимо, особых отношений не поддерживал. Барыкина не без оснований называет «друзьями» гр. Толстого, хотя и «не близкими», А. Л. Жемчужникова и В. Р. Зотова, принадлежавших к XI выпуску (с. 63–65). Своим «товарищем по Лицею» считал он и Е. И. Ламанского из XIV выпуска (с. 66).
Лицеисты получали не только престижное воспитание и определённый запас знаний, но и наилучшие возможности для начала карьеры. Однако нельзя не согласиться с Барыкиной в том, что «независимо от специфики подготовки и уровня образования чиновников, бюрократический аппарат Российской империи на протяжении всего существования сохранял главную свою особенность – залогом восхождения по его ступеням было покровительство маститых вельмож» (с. 91). Само по себе это характерно, наверное, для любых иерархических систем. Особенность же ситуации, сложившейся в России в середине XIX в., заключалась именно в возникновении у «вельмож» потребности в таких сотрудниках, которые были бы сравнительно широко образованы и подготовлены к аналитической (и даже исследовательской) работе. От их способностей теперь во многом зависел успех их патронов в межведомственном соперничестве за ресурсы и внимание императора, которому направлялся всё возраставший поток докладов, записок, проектов и отчётов. Разумеется, сановники не переставали из-за этого помогать родственникам и клиентам, но теперь от них ожидались не только лояльность, «умеренность и аккуратность», но и высокие профессиональные качества.
В первые десять лет службы гр. Д. А. Толстой, по-видимому, действительно «опирался на поддержку» своего дяди гр. Д. Н. Толстого, служившего в Министерстве государственных имуществ, а затем в МВД, и его благодетелей и друзей – статс-секретаря Н. М. Лонгинова, управлявшего Канцелярией императрицы Александры Фёдоровны, и директора Департамента духовных дел иностранных исповеданий МВД В. В. Скрипицына (с. 32–35, 91–92).
Молодого чиновника у Лонгинова поначалу явно не перегружали поручениями, по сути, позволяя ему удовлетворять интеллектуальное любопытство за казённый счёт. Правда, содержание ему выдавалось скудное (даже на холостяцкую жизнь его хронически не хватало), опыта в делах он не приобретал, на скорое повышение рассчитывать не мог. Оставалось уповать на репутацию просвещённого труженика. В сочетании с семейными и лицейскими связями она дала ему возможность в 1847 г. стать членом Русского географического общества (секретарём которого в 1845–1848 гг. состоял Головнин). В конце 1840-х гг. это был по-своему уникальный центр, объединявший учёных и государственных деятелей разных поколений и ведомств и, благодаря председательству вел. кн. Константина Николаевича, приближавший их к источнику верховной власти. Одним из создателей Общества являлся В. И. Даль, входивший в число ближайших сотрудников министра внутренних дел Л. А. Перовского. Лев Алексеевич «любил окружать себя пишущими людьми» и «без просьб, без ходатайств, переводил… молодых людей, заявивших чем-нибудь себя в науке или литературе», даже если их соперниками выступали «кандидаты с сильными протекциями»1. В результате, в мае того же 1847 г., получив за рукопись своей книги о финансовых учреждениях Демидовскую премию Академии наук (с. 162–163), граф вышел в отставку, но уже в сентябре вернулся на службу, устроившись чиновником особых поручений в департамент Скрипицына, где ему вскоре пришлось взяться за составление «истории управления иностранными исповеданиями в России» (с. 93).
Барыкина называет это задание «ответственным» (с. 92) и даже пишет про «повышенный интерес, с которым правительство следило за работой коллежского асессора», объясняя его «обострением международной обстановки в 1848–1849 гг. в связи с революционной волной, прокатившейся по Европе» (с. 175). Однако почему же революции, не имевшие ярко выраженного конфессионального оттенка, должны были отразиться на отношении к положению российских католиков и протестантов? И почему тогда в 1850 г. представленный графом компендиум отправился «в архив», если «обострившийся в начале 1850-х гг. “восточный вопрос”» (с. 175–176), наоборот, имел заметный религиозный аспект2? Всё же вернее, кажется, другое объяснение, также предложенное Барыкиной: Скрипицыну нужен был «справочный материал», причём, как вскользь упоминает исследовательница, потребовался он именно «после подписания в 1847 г. Николаем I конкордата с Ватиканом, передававшего католические монастыри под управление российского правительства» (с. 92). К сожалению, дальше этот сюжет не развивается, хотя в судьбе Скрипицына он играл немалую роль. Как вспоминал гр. М. Д. Бутурлин, Валерий Валерьевич «всячески старался не исполнять конкордата», поскольку «ему пришлось выбирать одно из двух: или прислуживаться Римской курии, или служить чисто русским интересам». Это привело к столкновениям с графами Д. Н. Блудовым и К. В. Нессельроде, и в конце 1855 г. директору Департамента духовных дел иностранных исповеданий пришлось покинуть свой пост. Иными словами, Скрипицын, видя в гр. Д. Н. Толстом близкого друга и единомышленника, «чересчур ревностного ко всему, что относится до нашего вероисповедания»3, отправлял его племянника не просто за справками, а за материалом, который помог бы уклониться от выполнения дипломатического соглашения. Такую миссию нельзя было доверить случайному чиновнику. И вряд ли о чём-то подобном докладывалось императору, хотя формально обзор составлялся графом по высочайшему повелению (с. 93).
Неизвестно, догадывался ли о целях своих подчинённых Перовский, выступавший для Скрипицына «подпорой»4. Но министру, который в конце 1840-х гг. сочувствовал обращению в православие латышей и даже втянулся из-за этого в конфликт с остзейским дворянством, подробный очерк конфессиональной политики и управления инославными мог оказаться крайне полезен. Впрочем, когда Перовскому чего-то сильно хотелось, он навязывал чиновникам лихорадочный стиль работы. Здесь же этого не наблюдалось: гр. Толстой занимался спокойно, не торопясь. Видимо, его сочинение находилось где-то на периферии забот главы МВД, которого скорее интересовало другое: объезжая в 1849 г. католические епархии Западного края, граф выполнял и «секретное поручение докладывать о настроениях священников, монахов и семинаристов» (с. 93). А в этом уже чувствовался стиль Перовского, всегда придававшего большое значение организации осведомительной работы, причём преимущественно в виде своей личной, неформальной «контрполиции», как её тогда называли5.
Характерно, что сам гр. Толстой не сразу увлёкся заданной ему темой. Какое-то время он сочетал её разработку с иными изысканиями. Так, одновременно по заданию Перовского он подготовил в 1848 г. доклад о статистических работах при Екатерине II, опубликовав его затем в виде статьи в ведомственном журнале (с. 171). И лишь в мае 1849 г., ознакомившись с материалами собственного департамента и Святейшего Синода, граф приступил к изучению местных архивов. Причём его отъезд удивительным образом совпал с началом следствия по делу «петрашевцев». 2 мая в Петербург из Москвы под конвоем доставили лучшего друга графа – А. Н. Плещеева, посещавшего злополучные «пятницы» в Коломне, а в конце месяца Дмитрия Андреевича уже не было в столице. Вернулся он только в середине ноября, когда следственные действия закончились и судьбу подсудимых решали в Военно-судной комиссии и генерал-аудиториате. Где находился гр. Толстой 22 декабря, когда приятель, посвящавший ему стихи (с. 73, 276), ожидал вместе с остальными осуждёнными расстрела на Семёновском плацу, не установлено.
В 1850 г. гр. Толстой провёл ещё несколько месяцев в московских архивах и завершил свой труд только поздней осенью. К этому времени активность Перовского, достигшая пика весной 1849 г. (когда он получил графский титул), пошла на спад: изменить политику в Остзейском крае не удалось, дело М. В. Петрашевского не только не усилило, но скорее скомпрометировало МВД, раздувший его И. П. Липранди вынужден был оправдываться, кружки просвещённой бюрократии попали под подозрение, началось ужесточение цензуры, Даль в июне 1849 г. добился своего перевода на службу в провинцию… Поэтому не удивительно, что сочинение гр. Толстого в тот момент не привлекло к себе никакого внимания. Причём Скрипицына это вполне устраивало. Похоже, он остался доволен своим протеже и не забывал представлять его к наградам: в 1848–1850 гг. граф получил звание камер-юнкера и чин надворного советника. В ноябре 1851 г. он, уже коллежский советник, стал вице-директором и в 1852–1853 гг. по 4–5 месяцев управлял департаментом вместо Скрипицына (с. 95).
Тем временем осенью 1852 г. гр. Перовского, назначенного министром уделов, в МВД сменил Д. Г. Бибиков. И в следующем же году гр. Толстой стал зятем нового начальника. Брак оказался крепким и удачным, хотя отношения с семьёй супруги у графа не сложились. Приданное жены наконец-то обеспечило ему прочное материальное положение, всего десять лет в его жизни отделяли крайнюю бедность от богатства, но он полагал, что тесть с тёщей его обделили, и не желал с ними общаться. Разбогатев, граф становился всё более скупым и алчным: вёл скандальные тяжбы, после 1861 г. выжимал всё, что мог, из крестьян. Но это не шло ему впрок, «состояние Дмитрия Андреевича к концу жизни уменьшилось» (с. 89).
А вот разлад с Бибиковым скорее даже способствовал карьере графа. Министр внутренних дел, отличавшийся жёстким характером, не сумел поладить с наследником престола, защищавшим польских помещиков Западного края, и в августе 1855 г. лишился своего поста. Уйдя со службы, он открыто критиковал политику нового императора. Поэтому, дистанцировавшись от тестя, гр. Толстой лишь выигрывал в глазах Александра II. К тому же граф ещё в 1853 г., через месяц после свадьбы, покинул МВД, понимая, что под начальством близкого родственника продвигаться по службе будет гораздо сложнее.
И тут пригодилось давнее знакомство с Головниным, который с осени 1850 г. состоял при вел. кн. Константине Николаевиче и довольно быстро стал не только наиболее влиятельным его советником, но и другом6. Поэтому когда в 1853 г. великий князь вступил в управление морским ведомством, именно Головнин, по свидетельству кн. Д. А. Оболенского, «начал подбирать людей», на которых мог бы опереться молодой генерал-адмирал7. В декабре 1853 г. гр. Толстой занял пост директора Канцелярии Морского министерства. По словам Головнина, тогда «в нём предполагали большие административные способности, но вскоре оказалась ошибочность этой мысли и обнаружилось, что способности его весьма ограничены и не выше департаментского весьма хорошего правителя канцелярии»8. Характеризуя графа в своих мемуарах, Александр Васильевич признавал, что «он был человек весьма образованный, с многосторонними познаниями, чрезвычайно трудолюбив и способен работать долго и усердно над предметами весьма неинтересными, но в коих видел пользу для дела»9. Между тем ни Головнин, ни Барыкина не упомянули о том, что кн. А. С. Меншиков (до весны 1855 г. находившийся в Крыму, но формально ещё остававшийся морским министром) в начале 1850-х гг. желал передать место директора Канцелярии своему адъютанту Н. К. Краббе. Того приходилось учить ведению служебной переписки, но зато он «держал себя в отношении к князю Меншикову очень хорошо»10. Вернувшись в январе 1854 г. из Севастополя в Петербург, Краббе обнаружил, что его обошли. В июне, после очередной командировки в Крым, он удовольствовался более скромной ролью вице-директора Инспекторского департамента, однако уже через год сидел в директорском кресле, сравнявшись тем самым с гр. Толстым.
Рассматривая участие графа в «составлении проектов реформы морской администрации» и заседаниях различных ведомственных комитетов (с. 95–99), Барыкина утверждает, что «влияние Д. А. Толстого на великого князя становилось всё сильнее», и это будто бы «не могло не беспокоить» Головнина, который «решил избавиться от соперника, удалив его из окружения» генерал-адмирала (с. 99). Но подтверждения этому в книге не приводится, а дневники вел. кн. Константина Николаевича свидетельствуют скорее об обратном. Так, с октября 1858 по декабрь 1859 г. граф, докладывавший четыре раза в неделю, упомянут в них всего один раз, в первом полугодии 1860 г. – трижды. Причём два из четырёх упоминаний связаны с желанием гр. Толстого покинуть ведомство11. О своей работе с А. В. Головниным, С. А. Грейгом, Н. К. Краббе, кн. Д. А. Оболенским, М. Х. Рейтерном великий князь писал чаще и в ином контексте.
По-видимому, в конце 1850-х гг. гр. Толстой чувствовал себя всё более неуютно. С Головниным и либеральными чиновниками он разошёлся, а для моряков остался чужаком, далёким от жизни флота, но навязывающим ей свои канцелярские формы. В 1857–1858 гг. он год лечился за границей, и в декабре 1859 г. великий князь уже «уговаривал Толстого оставаться у нас в министерстве, которое он хотел оставить, взбеленившись на [Н.Ф.] Метлина»12. Взаимопонимание с непосредственным начальником (управляющим Морским министерством) у графа явно отсутствовало. Став к 1860 г. действительным статским советником и камергером, но не видя перспективы для дельнейшего роста в чужой и отторгавшей чужих корпорации, Дмитрий Андреевич болезненно реагировал на успехи других. 22 апреля 1860 г. вел. кн. Константин Николаевич уже «говорил очень серьёзно и строго с нашим Толстым, который обиделся наградой [кн. Н.М.] Голицына (аудитора) и хотел было выходить вон»13. Но ещё более тяжёлым ударом для графа стало назначение в апреле того же года Краббе преемником Метлина. Как считал Головнин, «пожираемый честолюбием и исполненный зависти и тщеславия, он не мог помириться с мыслью, что будет под начальством контр-адмирала Краббе, который был одновременно с ним директором» (с. 99). Впрочем, помимо «зависти и тщеславия», у графа могло быть вполне прагматичное и трезвое понимание того, что с Краббе им не ужиться, и уходить лучше, не дожидаясь столкновения. Так или иначе, обязанности директора канцелярии гр. Толстой сложил 19 сентября – в тот же день, когда Краббе был утверждён в должности управляющего.
При этом Барыкина справедливо указывает на то, что у Дмитрия Андреевича имелся ещё один мотив искать новое место службы. Подготовка крестьянской реформы близилась к концу. Вел. кн. Константин Николаевич и либеральная часть его окружения всё более активно поддерживали проекты Редакционных комиссий. Гр. Толстой, напротив, сочувствовал оппозиции, критиковавшей эмансипаторов. В конце 1860 г. он даже подготовил собственную записку, получившую «широкую известность в петербургском обществе», в которой доказывал, что задуманная реформа грозит дворянству разорением, если крестьяне при освобождении получат не только усадьбу, но и надел полевой земли. Характерно, что «император назвал записку “пасквилем”, свидетельствующим о “неблагонамеренности или совершенном незнании дела”» (с. 83–84). Если бы гр. Толстой по-прежнему служил в морском ведомстве, подобное выступление вело бы к прямому столкновению с темпераментным генерал-адмиралом, что могло обернуться катастрофой для фрондирующего чиновника.
Но следует ли из этого, будто «в борьбе двух бывших однокашников за влияние на великого князя Константина Николаевича Д. А. Толстой потерпел поражение», поскольку «Головнин оказался хитрее», а «Толстой так и не стал настоящим “константиновцем”, оставаясь на консервативных позициях» (с. 100)? Скорее стоит задуматься о том, что же на самом деле представляли собой «константиновцы». В морском ведомстве в 1850-е гг. собралась (а в 1860-е гг. столь же «дружно» из него вышла) крайне пёстрая и разнородная команда. Она включала не только либеральных западников (Головнин, Рейтерн) и славянофилов (кн. Оболенский), но и умеренных (С. А. Грейг) и крайних (гр. Толстой) консерваторов, ревнителей православия (Б. П. Мансуров), технократов (А. В. Воеводский), бесцветных (Д. Н. Набоков) и циничных (Краббе) оппортунистов и проч. Все они в той или иной мере пользовались протекцией августейшего патрона, что отнюдь не делало их чем-то единым и не превращало в некое подобие «группировки». Это была рыхлая клиентела, в которой слаженное взаимодействие наблюдалось ничуть не реже, чем острые конфликты. Тот же гр. Толстой, не теряя поддержки вел. кн. Константина Николаевича (как в крупных государственных делах, так и в межведомственных спорах), не раз вступал в противоборство с другими «константиновцами» – Головниным, кн. Оболенским, Грейгом.
Поэтому отставка 1860 г. для гр. Толстого являлась не столько «поражением», сколько предусмотрительным отступлением, позволившим сохранить политический потенциал. Ещё труднее говорить о какой-либо победе Головнина. Ведь если гр. Толстой был приглашён по его рекомендации, то на выбор его преемника Александр Васильевич уже не влиял. В итоге графа заменил Грейг – ещё один адъютант кн. Меншикова, блестящий конно-гвардейский офицер, сын и внук прославленных адмиралов, обладавший широкими связями как в морских, так и в аристократических кругах, и прекрасно подходивший для Краббе. Если уж говорить о борьбе за влияние на великого князя, то в морском ведомстве победа досталась не вкрадчивому Головнину и не упрямому и резкому гр. Толстому – оба они с разницей в считанные месяцы покинули министерство, оставив его Краббе и Грейгу. Причём, в отличие от просвещённых бюрократов Головнина и гр. Толстого, Краббе, по выражению Д. А. Милютина, был «топорный, малообразованный», «грубый до цинизма, шутник, сквернослов». «Краббе, – отмечал в дневнике военный министр, – прикрывал свою хитрость и изворотливость постоянным юмором и паясничанием; никто не говорил с ним серьёзно, а между тем он умел забрать в свои руки всё морское ведомство, сделаться правой рукой генерал-адмирала Константина Николаевича, и пользовался расположением всех членов императорской фамилии». Но цена такого успеха оказалась немалой: в 1876 г. он скончался после длительного психического расстройства14.
Расставшись с морским ведомством, гр. Толстой на какое-то время увлёкся критикой Редакционных комиссий, ездил в деревню наблюдать за началом реализации Положений 19 февраля 1861 г. Вернувшись осенью из деревни, граф говорил, что «года через два – в 1863 году – у нас откроется резня»15. Пока же он числился членом Главного правления училищ в Министерстве народного просвещения. Там его консервативное настроение пришлось как нельзя кстати, особенно когда министром стал адмирал гр. Е. В. Путятин, попытавшийся пресечь брожение в университетах, но лишь вызвавший своими распоряжениями новые беспорядки. К тому же адмирал плохо сходился с людьми. Директор Департамента народного просвещения И. Д. Делянов и вице-директор А. С. Воронов ушли в ноябре 1861 г. в отставку, и министр обратился к гр. Толстому, охотно согласившемуся принять директорский пост. Более того, стараясь оправдать доверие, Дмитрий Андреевич всячески дистанцировался от либеральной бюрократии, к которой консервативные моряки после опытов 1850-х гг. относились с предубеждением. 3 декабря министр внутренних дел П. А. Валуев отметил в дневнике, что «Толстой ненавидит Головнина и рассказывает про него и про Оболенского чёрные были». Но уже не оставалось сомнений, что «Путятин решительно выходит», хотя «не знают, кем его заменить»16. Не исключено, что гр. Толстой питал даже надежды на повышение. Однако 25 декабря Александр II поставил во главе учебного ведомства Головнина. В тот же день гр. Толстой пополнил ряды сенаторов.
Внешне вручение министерского портфеля приближённому вел. кн. Константина Николаевича выглядело как триумф и самого генерал-адмирала, и Головнина. Но если это и была победа, то пиррова. Сосредоточившись на ведомственных хлопотах, Головнин неизбежно отдалялся от великого князя, на которого всё больше влияли другие люди. Если раньше генерал-адмирал нуждался в интеллектуальной помощи своего личного секретаря, то теперь Головнину то и дело требовалась политическая поддержка патрона. Выигрывая в статусе, он терял источник своей силы – постоянную близость к брату императора, позволявшую направлять его шаги.
Тем временем гр. Толстой, не найдя себя в судебном ведомстве, где спешно готовились масштабные преобразования, и наблюдая за обострением обстановки в Польше и Западном крае, вспомнил про своё давнее сочинение о католицизме и при содействии Валуева и Скрипицына, проживавшего тогда за границей, опубликовал его в 1863–1864 гг. в Париже (с. 176–178). Если граф хотел напомнить о себе, то это ему удалось. Барыкина убедительно показывает связь между данной публикацией и назначением её автора в 1865 г. обер-прокурором Святейшего Синода (с. 101–102).
Впрочем, едва ли оно состоялось под влиянием «противостояния с католической Европой» (с. 101) и вследствие того, что «участились нападки европейской прессы на действия российского правительства» (с. 102). С этим вполне справлялись кн. А. М. Горчаков и М. Н. Катков. А вот выбор руководителя духовного ведомства представлял для Александра II непростую задачу. После смерти в 1855 г. гр. Н. А. Протасова обер-прокуроры Святейшего Синода гр. А. П. Толстой (1856–1861) и А. П. Ахматов (1862–1865), будучи глубоко верующими людьми, по сути, не столько осуществляли государственный надзор за духовенством, сколько являлись представителями Церкви и её интересов в правительственных сферах. Тот же Ахматов категорически отказывался исполнять повеления царя, направленные на расширение веротерпимости. В частности, он противился отказу от принуждения к воспитанию в православии детей от смешанных браков, что и послужило поводом к его отставке. Но замену ему не удавалось найти несколько месяцев. Поиски осложнялись тем, что требовался чиновник, способный разобраться в проблемах церковной жизни и регулировать их в интересах государства, не вызывая подозрений в каких-либо уступках полякам, католикам и т. д.
Граф Д. А. Толстой оказался в этом отношении находкой: критик папизма и твёрдый государственник, он, в отличие от того же Ахматова, не тянулся ни к церковникам, ни к «русской партии», но и не принадлежал к её «полякующим» оппонентам. Любопытно, что даже в 1867 г. современники видели в обер-прокуроре не консерватора и реакционера, а нечто совершенно иное. Так, 29 ноября 1867 г., сообщая Ю. Ф. Самарину о похоронах митрополита Филарета (Дроздова), И. С. Аксаков сетовал на то, что «теперь скоро придётся бороться против бюрократических и канцелярских прогрессивных исправлений Церкви Толстого»17. Барыкина весьма удачно подметила, что «он провёл преобразования внутри духовного ведомства таким образом, что направления их – административное, образовательное и экономическое – повторяли реформы Морского министерства» (с. 97). Книга убеждает и в том, что каноническое устройство Церкви и её внутренний уклад были для обер-прокурора ничуть не ближе, чем повседневные будни флота (с. 102–115). Лучше всего ему удавалось наведение порядка в синодальном делопроизводстве и устройство архива (с. 111–113).
Неудивительно, что для духовенства он все 15 лет своего управления оставался таким же чужаком, как и для моряков. Едва ли не единственным иерархом, с которым граф сумел наладить тесное сотрудничество, являлся архиепископ Литовский и Виленский (1868–1879), а затем митрополит Московский и Коломенский (1879–1882) Макарий (Булгаков), которого Барыкина называет «соратником Толстого» (с. 114). Видимо, это было далеко не случайно и во много объяснялось сходством личных черт и наклонностей. Характерно, что преемник гр. Толстого К. П. Победоносцев, беседуя 10 июня 1882 г. с митрополитом Санкт-Петербургским и Новгородским Исидором (Никольским), весьма нелицеприятно отзывался о преосвященном. По его словам, «он был только учёный человек, но для Церкви ничего не сделал, а во время пребывания в Вильне множество распустил людей в католичество», «очень редко служил и прятался от народа», а также «не умел обращаться с людьми ласково», из-за чего «в Москве его не любили»18.
Тем не менее Александр II был явно доволен своим выбором и деятельностью гр. Толстого в Синоде. Это отчётливо выразилось в решении объединить в его руках духовное и учебное ведомства, которое император принял вскоре после каракозовского покушения 1866 г. Барыкина считает, что «назначение Толстого явилось следствием усиления в правительстве позиций консерваторов», лидером которых стал гр. П. А. Шувалов, вступивший через несколько дней в должность шефа жандармов (с. 116). Между тем сам гр. Шувалов заявлял летом 1881 г.: «За Толстого я ни в чём не ответствен; он назначен министром за четыре дня до моего собственного назначения»19. Действительно, обстоятельства перестановок, происходивших в правящих кругах в 1866 г., выглядят несколько сложнее, чем обычно изображается в историографии.
К началу 1866 г. отставка Головнина была практически предрешена20. При этом критика его управления в значительной мере отражала не полемику «либералов» и «консерваторов», а споры вокруг политики умиротворения, проводившейся вел. кн. Константином Николаевичем по указанию Александра II в Польше в 1862–1863 гг. Вызвав открытый мятеж, она скомпрометировала и самого генерал-адмирала, и его приверженцев. Головнина, как первого из них, атаковали сильнее других. И основную роль здесь играли «Московские ведомости», которые в середине 1860-х гг., когда они отстаивали «милютинскую систему» в Польше и русификацию Западного края, трудно отнести к консервативной печати.
Отставка Головнина естественно должна была ударить по великому князю. Но царь, видя, что министр народного просвещения превратился в источник проблем, вовсе не желал ослаблять положение своего брата, репутация которого заметно пострадала в 1863–1864 гг. Напротив, император его всячески усиливал, сделав в 1865 г. председателем Государственного совета. Поэтому замену Головнину он искал среди бывших «константиновцев». Гр. Толстой подходил на эту роль как нельзя лучше. И не случайно слухи о его назначении министром народного просвещения ходили в столице ещё до покушения Каракозова21. Весьма показательно, что 13 апреля, узнав об увольнении своего друга и протеже, великий князь сразу же бросился объясняться во дворец, но после бурной сцены с объятиями и слезами вышел из императорского кабинета примирённым22. Звучавшие же тогда рассуждения о желательности какого-то особого взаимодействия духовного и учебного ведомств больше напоминали отговорку: от гр. Толстого, которого обвиняли в секуляризации духовной школы, меньше всего стоило ожидать клерикализации светского образования.
Очутившись во главе Министерства народного просвещения без внятной программы действий и проверенных временем помощников, гр. Толстой сделал беспроигрышную ставку на врагов своего врага, найдя поддержку у Каткова и его сотрудников. Одна из ключевых проблем, с которой сталкиваются исследователи политики гр. Толстого 1866–1880 гг., заключается в том, чтобы определить, в какой мере министр проявлял собственную инициативу и насколько он зависел от рекомендаций своих чиновников и редакции «Московских ведомостей». К сожалению, в книге Барыкиной окружение гр. Толстого именно этого времени представлено как-то блёкло. Даже П. М. Леонтьев, по верному замечанию исследовательницы – «один из авторов школьной реформы», упомянут в монографии всего один раз и то – как соученик гр. Толстого по Дворянскому институту (с. 54). А. И. Георгиевский появляется в тексте дважды – в перечне членов комитета, готовившего праздник по случаю десятилетия со дня назначения графа министром, и среди тех, кто не покинул Дмитрия Андреевича в 1880 г. (с. 128, 132). Товарищи министра И. Д. Делянов и кн. А. П. Ширинский-Шихматов также не удостоились не только развёрнутой (как, например, гр. Д. Н. Толстой или А. Н. Плещеев), но и краткой характеристики.
Гораздо лучше освещены Барыкиной «подводные камни гимназической реформы» 1871 г. (с. 115–126). Осуществив её со свойственной ему решительностью, граф, по словам исследовательницы, «показал себя… не только убеждённым, но и деятельным сторонником “охранительного направления”» (с. 116–117). Но следует ли усматривать в спорах о «классическом» и «реальном» образовании непременно столкновение «охранителей» и «либералов»? Идея резкого увеличения роли древних языков в гимназическом курсе исходила от катковского кружка, вдохновлявшегося заветами Т. Н. Грановского. Поначалу «классицизм» ассоциировался с уваровской гимназией «замечательного десятилетия», а «реализм» – с её ломкой в годы «мрачного семилетия» (которую все признавали крайне неудачной и вредной). И Головнин, и гр. Толстой с большим пиететом относились к гр. С. С. Уварову и апеллировали к его наследию. Собственно и Головнина критиковали именно за «непоследовательный» классицизм. И только в пылу полемики «реализм», т. е. отказ от древних языков как основы обучения, стали обвинять в насаждении материализма, нигилизма и чуть ли не крамолы, забыв, что ранее едва ли не главным «реалистом» был Николай I.
При обсуждении проекта реформы, предложенного гр. Толстым, в правительственных сферах чёткого размежевания между охранителями и либералами опять же не наблюдалось. В Особом присутствии против него выступали не только Головнин и Милютин, но и известный своим консерватизмом (и одновременно глубоким классическим образованием) гр. В. Н. Панин, инженер николаевской школы генерал К. В. Чевкин, президент Академии наук адмирал гр. Ф. П. Литке, а также товарищ министра финансов Грейг, близкий в то время и к генерал-адмиралу, и к гр. Шувалову. Сам же вел. кн. Константин Николаевич, когда дебаты продолжились в общем собрании Государственного совета, солидаризировался с гр. Толстым. Как вспоминал гр. Милютин, «председатель на этот раз держал себя не беспристрастно: он явно клонил в пользу классиков, не давал высказаться противной стороне и даже не допускал вовсе общих суждений об основной идее проекта»23. В то же время гр. Шувалов не скрывал равнодушия к сути дискуссии: «Не думаешь ли ты, – говорил он Альбединскому, – что меня занимают эти скучнейшие распри о классицизме и реализме? Я стою на стороне Толстого только потому, что он принадлежит к моей партии и никогда не изменит мне»24. Видимо, под влиянием великого князя и шефа жандармов Грейг изменил свою позицию. «Нас удивило, – писал позднее Милютин, – что и гр. Панин, стоявший прежде решительным противником этих проектов, теперь перешёл на сторону ультраклассицизма. Говорили, что он передался из одного лагеря в другой вследствие личных объяснений с ним Государя»25. Тем не менее голосовал гр. Панин вместе с большинством, отвергшим предложения министра народного просвещения. К нему примкнули и весьма консервативные генералы П. Н. Игнатьев и министр внутренних дел А. Е. Тимашев, а также председатель Комитета министров кн. П. П. Гагарин. К меньшинству же присоединились как «шуваловец» министр юстиции гр. К. И. Пален, так и его будущий преемник – «константиновец» Д. Н. Набоков, и предшественник – Д. Н. Замятнин, продвигавший судебную реформу 1864 г.26
Едва ли верно и то, что основной спор шёл о предоставлении права на поступление в университет исключительно выпускникам классических гимназий (с. 117, 122–123). Во всяком случае, ни Головнин, ни Милютин не придавали этому принципиального значения. Важнее для них было то, чтобы «реальные» учебные заведения имели общеобразовательный, а не узкопрофессиональный характер27. Катковцы же, включая гр. Толстого, напротив, настаивали на том, что полноценное среднее образование может базироваться исключительно на изучении древних языков, и категорически не допускали какой-либо альтернативы, справедливо опасаясь, что при её наличии классические гимназии могут и опустеть.
Сам по себе такой подход не вызывает у Барыкиной особых возражений. Она напоминает, что «широта образования, дававшегося в классической гимназии, признавалась современниками», и именно «из “толстовских” гимназий вышли поэты Серебряного века». Однако «разумной идее вредило её неразумное воплощение» (с. 125). Действительно, «классическое образование» в катковско-толстовской гимназии предполагало не столько чтение античных авторов (не говоря уже о святоотеческих творениях), сколько решение филологических ребусов, рассчитанных на зубрёжку исключений из грамматических правил. При острой нехватке учителей это, естественно, существенно затрудняло усвоение материала, поощряло педагогический произвол, вело к значительному отсеву и сокращению числа учащихся в старших классах (с. 123–126).
Страдали от этого отнюдь не только представители малообеспеченных слоёв. Более чем состоятельный М. Т. Лорис-Меликов рассказывал в 1875 г. М. П. Погодину, что не нашёл гувернёра, владеющего латинским и греческим языками, хотя предлагал жалование в несколько тысяч рублей. «А беднейшие родители как?», – недоумевал генерал28. Сыну П. А. Валуева из-за проблем с получением аттестата пришлось сдавать экзамены по курсу военных гимназий, не подчинявшихся гр. Толстому29. Неудивительно, что именно в высшем обществе насаждение классицизма вызывало едва ли не наибольшее раздражение (с. 126–129). Вместе с тем, объективно описывая издержки политики графа, Барыкина полагает, будто «стремление добиться быстрого эффекта в деле воспитания молодёжи диктовало чрезвычайные методы осуществления преобразований. Что, в общем-то, было свойственно всем российским реформам» (с. 123). Но какие же «чрезвычайные методы» применялись в ходе земской, судебной или военных реформ? Почему ранее без них обходились, преобразовывая гимназии, Уваров и Головнин?
Впрочем, переменами в среднем образовании деятельность графа не ограничивалась. «Несмотря на общественное недовольство, – пишет Барыкина, – под напором “консервативной партии” Д. А. Толстой решительно проводил охранительную линию. Он усилил контроль над начальными народными училищами и занялся подготовкой нового университетского устава» (с. 130). К сожалению, в данном случае не уточняется, кто именно составлял эту «партию» – сторонники гр. Шувалова (летом 1874 г. утратившего былое влияние) или всё тот же катковский кружок, подбивавший графа на реформирование университетов? Однако о необходимости ограничения или полной отмены автономии профессорских коллегий на Особых совещаниях середины 1870-х гг. говорили не только консерваторы, но и либералы Милютин и Рейтерн. Более того, гр. Толстой наименее охотно согласился тогда на этот шаг, понимая, что именно на него обрушится негодование профессуры и студентов30. Меры же, предпринятые графом в отношении народных школ, одобрялись даже его оппонентами. В 1880 г. в отзыве на министерский отчёт за 1878 г. Головнин признавал: «Неоспоримыми и весьма важными заслугами нынешнего Министерства народного просвещения являются учреждение значительного числа учительских семинарий, учреждение инспекторов начальных училищ и постоянное увеличение числа инспекторов и создание министерских одноклассных и двухклассных начальных народных училищ». Ему даже не верилось, что все эти школы существуют не только на бумаге, но и на деле. Правда, по мнению Александра Васильевича, их численность следовало увеличить ещё больше31. Между тем именно при устройстве народной школы гр. Толстой был свободен от своих московских опекунов.
В 1880 г., по словам Барыкиной, «правительство удалило Толстого как символ консервативного направления, чтобы продемонстрировать обществу свою готовность к либеральным преобразованиям». Тем самым «император решился пожертвовать своим верным министром ради успокоения общественного мнения» (с. 130–131). Но тут же уточняется, что непосредственным поводом для отставки графа послужило его столкновение с далеко не либеральным министром внутренних дел Л. С. Маковым. Как же это соотносилось?
Граф Толстой и впрямь был настолько непопулярен, что сперва Ф. Ф. Трепов (в декабре 1879 г.), а затем гр. М. Т. Лорис-Меликов (в апреле 1880 г.), возглавлявший тогда Верховную распорядительную комиссию, настойчиво рекомендовали Александру II отказаться от «классической системы» и услуг министра, настраивавшего общество не только против себя, но и против правительства32. Царь на эти призывы не реагировал. Однако положение Дмитрия Андреевича усугублялось тем, что он находился в состоянии личной вражды с заметно усилившимися в конце 1870-х гг. графами Милютиным и Валуевым. Им были недовольны великие князья Александр Александрович и Константин Николаевич. Когда же к числу его недоброжелателей прибавился гр. Лорис-Меликов (схлестнувшийся с гр. Толстым ещё в 1879 г.), министр народного просвещения оказался буквально в кольце врагов, готовых обрушиться на него в любую минуту. Стоило ему неосторожно намекнуть в кулуарах Комитета министров на то, что Маков и Валуев небескорыстно помогают раскольникам, как его слова тут же передали, и Маков, уверенный в общем сочувствии, потребовал извинений и уже готовился к дуэли. Императору пришлось успокаивать не публику, а своих же сановников, включая наиболее близких. Гр. Толстой превратился в такой же, если не больший, источник конфликтов и проблем, как некогда Головнин. Поэтому неудивительно, что, объявляя графу об отставке, Александр II, любивший повторяться, произнёс почти дословно ту же фразу, которой в 1866 г. провожал его предшественника (с. 131).
Впрочем, если непопулярность гр. Толстого способствовала его «падению» в 1880 г., то она же стала залогом его возвращения к власти в 1882 г., теперь уже в роли министра внутренних дел. После «либеральной системы» гр. Лорис-Меликова и заигрывания гр. Н. П. Игнатьева со славянофилами Александру III понадобился во главе МВД человек, в принципе не способный выстраивать какие-либо отношения с обществом. гр. Толстой подходил для этого идеально.
Внешне всё выглядело как установление или «возвращение» твёрдой власти, чему порою сочувствовали не только консерваторы. 12 июня гр. Милютин отметил в дневнике: «Великий князь [Константин Николаевич], всегда покровительствовавший графу Толстому и давший ему ход в службе, ожидает полезных для дела результатов от твёрдости характера и самостоятельности нового министра внутренних дел, в противоположность “шатанию” графа Игнатьева, вследствие известной его изворотливости и лживости. Почти в том же смысле высказывается и А. В. Головнин в своём письме ко мне». Сам же Дмитрий Алексеевич был поражён случившимся: «Назначение это не только странно, оно чудовищно… Граф Дм. Толстой сделался ненавистным для всей России, притом он – олицетворённая неспособность; справиться с таким обширным министерством… при настоящих обстоятельствах он, конечно, не в силах, даже и под руководством Каткова»33.
Ещё любопытнее была реакция столичного митрополита Исидора (Никольского), который симпатизировал гр. Игнатьеву, видя в нём «истаго рускаго». «Евреи торжествуют! И не без основания», – писал он в дневнике 30 мая 1882 г., приводя ряд историй о сделках гр. Толстого с С. С. Поляковым, о полученных от него взятках и т. п. «Теперь жиды, не терпевшие Игнатьева и величавшие его Аманом, возлагают всю надежду на ходатайство Полякова и благодетеля его Толстова», – заключал владыка34.
Характерно, что Победоносцев, рекомендовавший гр. Толстого императору, не опасался встретить в нём соперника и нажить врага (хотя Дмитрия Андреевича не могло не коробить то, как новый обер-прокурор обращался с его наследием). Да и сам Александр III, весной 1881 г. подозревавший либеральных министров в том, что они хотели его «забрать в свои лапы и закабалить»35, не ожидал от гр. Толстого ничего подобного. По словам Барыкиной, «от Толстого даже не потребовали представить программу будущих действий. Сама его фигура олицетворяла охранительное направление» (с. 135). Так от него и ждали именно «олицетворения», а вовсе не «программы» или «действий». Напротив, попытка согласовать общую правительственную программу и стала причиной отставки гр. Лорис-Меликова.
В силу своих личных качеств гр. Толстой заведомо не мог сформировать какую-либо команду единомышленников как в правительстве, так и в собственном министерстве. В 1880 г. от него не отвернулись лишь пять-шесть прежних сотрудников. Его предал даже Катков, с которым граф с тех пор не желал общаться. В 1882 г., вступая в должность, министр внутренних дел «принял только директоров, а с прочими чиновниками не захотел видеться». «Он совсем недоступен», – констатировал митрополит Исидор, услышав об этом от Е. В. Богдановича36. Из тех, с кем работал раньше, граф позвал в новое ведомство одного Феоктистова, возглавившего в 1883 г. Главное управление по делам печати. По сути, это означало передачу контроля над прессой в руки катковской литературно-политической партии.
За внешней оболочкой носителя «твёрдой власти» скрывался нелюдимый, разочарованный и ожесточённый интеллектуал, часто болевший и ограничивавшийся ведением текущих дел и преследованием газет и журналов. Принимая в 1882 г. царское предложение, он декларировал свою неприязнь к «мужицкой России», осудил «все главные реформы последнего царствования», объявил о негодности земства и необходимости не то искать помощи у дворянства, не то, наоборот, помогать благородному сословию37. Но из всего этого сходу получилось только «дать всем успокоиться от бесконечных тревог, бывших со времени Лориса и Игнатьева» (с. 134–135). Ему остро не хватало поводыря, пока он не нашёл его в А. Д. Пазухине, очаровавшись его сословной утопией. В последние годы жизни граф снова боролся с судебным ведомством и большинством Государственного совета, готовился ломать действовавшие институты, внося не столько порядок, сколько разлад в местное управление и провоцируя конфликт с реальным дворянством (сидевшим в земстве) ради усиления воображаемого. Впрочем, граф скончался, так и не вкусив плодов с искусственного дерева затеянных контрреформ.
Но, как ни странно, существовало учреждение, в котором гр. Толстой был удивительно органичен и конструктивен, где он не создавал, а гасил возникавшие конфликты. Таковым являлась Петербургская академия наук, где граф провёл семь лет в президентском кресле. Страницы, посвящённые этой части его биографии (с. 218–241), наряду с описанием графской библиотеки в имении Маково (с. 145–152), принадлежат к наиболее удачным и запоминающимся разделам монографии. Почему же во главе учёного сословия граф вёл себя осторожно и уважительно, стараясь не навредить делу? Возможно, ему самому там было намного уютнее, чем в духовном, учебном или полицейском ведомствах. Похоже, именно там он чувствовал себя ближе к вечности. Просвещённый реакционер, он не любил время, в которое ему довелось жить, и был невысокого мнения о своих современниках. Его вдохновляла безвозвратно ушедшая эпоха Екатерины II, с её нравами, вкусами, героями. Но с ней он соприкасался только в библиотеке и в учёных беседах, ненадолго отвлекавших от злобы дня.
Монографию дополняют хорошо подобранные приложения. Среди них генеалогические схемы (с. 272–275), стихи, посвящённые гр. Толстому – от романтической лирики до резких эпиграмм (с. 276–283), список трудов графа (с. 283–285) и грустные, но очень выразительные фотографии руин его усадьбы, напоминающие о бренности бытия и исподволь примиряющие читателя даже с такими деятелями прошлого, как гр. Д. А. Толстой. В целом же, книга И. Е. Барыкиной будит мысль и не оставит читателя равнодушным38.
1 Мельников П. И. Воспоминания о Владимире Ивановиче Дале // Русский вестник. 1873. Т. 104. Март. С. 310–311.
2 Подробнее см.: Мельникова Л. В. Русская Православная Церковь и Крымская война, 1853–1856 гг. М., 2012. С. 16–65.
3 Записки графа М. Д. Бутурлина. Т. 2. М., 2006. С. 289.
4 Там же.
5 Подробнее об этом см.: Шкерин В. А. «Поединок на шпионах»: Дело петрашевцев и политическая провокация в России. М., 2019. С. 118–123.
6 Стафёрова Е.Л. А. В. Головнин и либеральные реформы в просвещении (первая половина 1860-х гг.). М., 2007. С. 46–52. Подробнее см.: Воронин В. Е. «Небывалое бывает»: генерал-адмирал русского флота в Крымской войне. М., 2024. С. 52–126.
7 Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. 1855–1879 / Отв. ред. В. Г. Чернуха. СПб., 2005. С. 448–449.
8 Головнин А. В. Материалы для жизнеописания царевича и великого князя Константина Николаевича / Сост. Б. Д. Гальперина и Б. П. Миловидов. СПб., 2006. С. 193.
9 Головнин А. В. Записки для немногих / Под ред. Б. Д. Гальпериной. СПб., 2004. С. 47.
10 Фишер К. И. Записки сенатора. М., 2008. С. 253.
11 1857–1861: переписка императора Александра II с великим князем Константином Николаевичем. Дневник великого князя Константина Николаевича / Сост. Л. Г. Захарова, Л. И. Тютюнник. М., 1994. С. 213, 228, 243, 250.
12 Там же. С. 213.
13 Там же. С. 243.
14 Милютин Д. А. Дневник. 1876–1878 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М., 2009. С. 28–29.
15 Никитенко А. В. Дневник. В 3 т. Т. 2. Л., 1955. С. 241.
16 Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел, в двух томах / Под ред. П. А. Зайончковского. Т. 1. М., 1961. С. 131.
17 Переписка И. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина (1848–1876) / Публ. Т. Ф. Пирожковой, О. Л. Фетисенко, В. Ю. Шведова. СПб., 2016. С. 245.
18 РГИА, ф. 796, оп. 205, д. 450, л. 134. «Даже об[ер]-пр[окурор], – вновь писал владыка несколько дней спустя, – по смерти его, выразился: “Впрочем, что же он сделал для Церкви? В Вильне множество православных (18 деревень) уступил католикам. Был учёный, – и больше ничего!”» (Там же, л. 137).
19 Половцов А. А. Дневник. 1859–1882 / Публ. О. Ю. Голечковой, С. В. Куликова, К. А. Соловьёва. Т. 2. М., 2022. С. 435.
20 Стафёрова Е.Л. А. В. Головнин… С. 221–400.
21 Там же. С. 389–390.
22 Подробнее см.: Воронин В. Е. Русские правительственные либералы в борьбе против «аристократической партии» (середина 60-х – середина 70-х гг. XIX в.). М., 2009. С. 87–92.
23 Милютин Д. А. Воспоминания. 1868–1873 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М., 2006. С. 380. Феоктистов связывал это с тем, что «Катков сумел проникнуть даже к нему» (Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы (1848–1896). М., 1991. С. 184).
24 Феоктистов Е. М. Указ. соч. С. 183.
25 Милютин Д. А. Воспоминания. 1868–1873. С. 380.
26 См.: Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902. СПб., 1902. С. 523–524.
27 Головнин А. В. Записки для немногих. С. 261–273, 308–310, 489–491; Милютин Д. А. Воспоминания. 1868–1873. С. 372–381.
28 ОР РГБ, ф. 231, к. 37, д. 2, л. 7.
29 Там же, ф. 169, к. 59, д. 33, л. 3–4.
30 Подробнее см.: Мамонов А. В. Правящая бюрократия и высшее образование в России в середине 1870-х гг. // Российская история. 2017. № 6. С. 24–51.
31 ОР РНБ, ф. 208, д. 136, л. 17–18; РГИА, ф. 851, оп. 1, д. 16, л. 61–62.
32 ОР РГБ, ф. 120, к. 12, д. 21, л. 24; Былое. 1918. № 4–5. С. 157–158, 160–161.
33 Милютин Д. А. Дневник. 1882–1890 / Под ред. Л. Г. Захаровой. М., 2010. С. 44, 46.
34 РГИА, ф. 796, оп. 205, д. 450, л. 129. Схожие ожидания выражал, разговаривая 12 июля с А. А. Половцовым в Мариенбаде, берлинский банкир Г. фон Блехрёдер, близкий к кн. О. фон Бисмарку и Ротшильдам. «Русское правительство, – утверждал он, – действиями Игнатьева восстановило против себя евреев целой Европы, а евреи имеют на биржах большое влияние. Правда, теперь гр. Толстой совершенно изменил политику правительства по этому вопросу, но этого мало» (Половцов А. А. Указ. соч. Т. 2. С. 481–482).
35 Цит. по: Великий князь Сергей Александрович Романов: биографические материалы. Кн. 3. М., 2009. С. 248.
36 РГИА, ф. 796, оп. 205, д. 450, л. 138.
37 Половцов А. А. Указ. соч. С. 480, 490–491.
38 Огорчает лишь то, как с ней обошлось издательство, сэкономившее на редактуре. Текст пестрит досадными описками и опечатками. Так, на первой же странице «Пролога» сказано, что между 1811 и 1843 г. «минуло четыре десятилетия» (с. 4). Далее говорится про «63 года чиновничьей карьеры» гр. Толстого (с. 6), хотя на службу он поступил в 1843, а скончался – в 1889 г., прожив всего 66 лет. Причём МВД он возглавил в 1882 г. «на девять лет» (с. 6). Епископ Рижский Филарет (Гумилевский) назван «главой прибалтийской православной церкви» (с. 38), Головнин – «статс-секретарём» вел. кн. Константина Николаевича (с. 99). Академия наук в книге просит «о содействии Сибирской экспедиции Н. Х. Бунге» (с. 230), а не А. А. Бунге. Русские чиновники будто бы создавали в Лифляндии «противовес помещикам-католикам» (с. 37), а в планы Петербурга входила «организация управления католическим населением таким образом, чтобы вывести его из духовного подчинения Ватикану». Причём происходило это «после разделов Речи Посполитой и вхождения её западных территорий в состав Российской империи» (с. 172), и т. д., и т. п.
About the authors
Andrey V. Mamonov
Institute of Russia History, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Russian Federation, MoscowReferences
- –1861: переписка императора Александра II с великим князем Константином Николаевичем. Дневник великого князя Константина Николаевича / Сост. Л.Г. Захарова, Л.И. Тютюнник. М., 1994.
- Воронин В.Е. «Небывалое бывает»: генерал-адмирал русского флота в Крымской войне. М., 2024.
- Воронин В.Е. Русские правительственные либералы в борьбе против «аристократической партии» (середина 60-х – середина 70-х гг. XIX в.). М., 2009.
- Головнин А.В. Записки для немногих / Под ред. Б.Д. Гальпериной. СПб., 2004. С. 47.
- Головнин А.В. Материалы для жизнеописания царевича и великого князя Константина Николаевича / Сост. Б.Д. Гальперина и Б.П. Миловидов. СПб., 2006.
- Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел, в двух томах / Под ред. П.А. Зайончковского. Т. 1. М., 1961. С. 131.
- Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. 1855–1879 / Отв. ред. В.Г. Чернуха. СПб., 2005.
- Мамонов А.В. Правящая бюрократия и высшее образование в России в середине 1870-х гг. // Российская история. 2017. № 6. С. 24–51.
- Мельникова Л.В. Русская Православная Церковь и Крымская война, 1853–1856 гг. М., 2012.
- Милютин Д.А. Воспоминания. 1868–1873 / Под ред. Л.Г. Захаровой. М., 2006.
- Милютин Д.А. Дневник. 1876–1878 / Под ред. Л.Г. Захаровой. М., 2009.
- Милютин Д.А. Дневник. 1882–1890 / Под ред. Л.Г. Захаровой. М., 2010. С. 44, 46.
- Переписка И.С. Аксакова и Ю.Ф. Самарина (1848–1876) / Публ. Т.Ф. Пирожковой, О.Л. Фетисенко и В.Ю. Шведова. СПб., 2016. С. 245.
- Половцов А.А. Дневник. 1859–1882 / Публ. О.Ю. Голечковой, С.В. Куликова, К.А. Соловьёва. Т. 2. М., 2022.
- Стафёрова Е.Л. А.В. Головнин и либеральные реформы в просвещении (первая половина 1860-х гг.). М., 2007.
- Шкерин В.А. «Поединок на шпионах»: Дело петрашевцев и политическая провокация в России. М., 2019.
Supplementary files