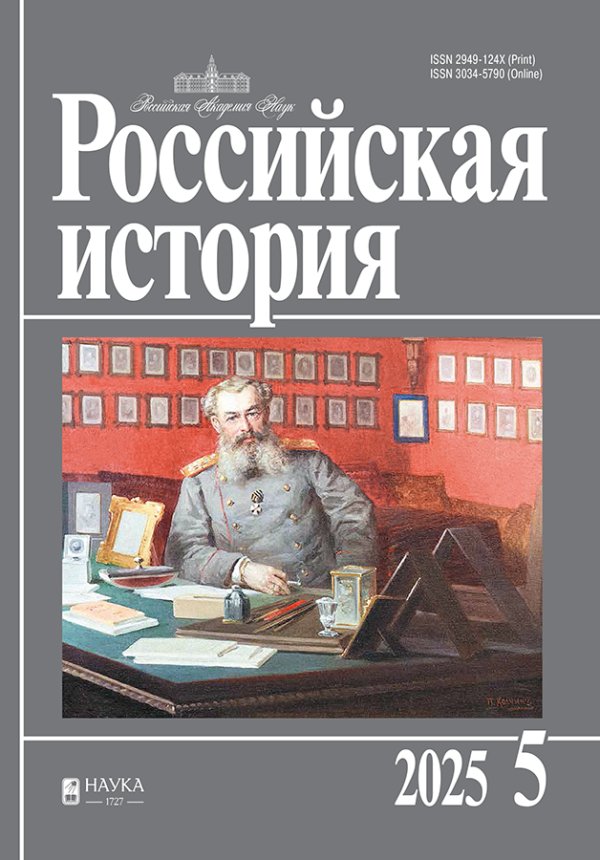Government authority and the idea of public representation in 1905
- Authors: Novoselskiy S.S.1
-
Affiliations:
- Russian State University for the Humanities
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 82-93
- Section: Ideas and images
- URL: https://bakhtiniada.ru/2949-124X/article/view/264337
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24030087
- EDN: https://elibrary.ru/GDNEGD
- ID: 264337
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the development of projects for popular representation by the Russian bureaucracy and the public in 1905. Particular attention is paid to four concepts - the reform of the State Council, the convening of the Zemsky Sobor, the “bulyginskaya duma” and the parliament. The article shows that the choice that was ultimately made in favor of the State Duma meant the government’s conscious refusal of the models of representation born in the 19th century, and finally determined the transformation of the political system of the Russian Empire.
Full Text
В начале ХХ в. многие связывали обновление государственного строя Российской империи с созданием институтов представительной власти, видя в этом главное средство против разразившейся в 1905 г. «смуты». В спорах о том, каким должно быть представительство, родился парламент. И хотя предшествовавшие этому дискуссии уже привлекали внимание историков 1, полемика, развернувшаяся по данному поводу в 1905 г., ещё нуждается в изучении.
Как правило, инициатором и мотором реформ в империи выступала бюрократия, пытавшаяся встроить представительные учреждения в существовавшую систему управления, дабы наполнить политику идеями, популярными в обществе, и сплотить вокруг престола сторонников перемен 2. Вместе с тем намеченные преобразования должны были как-то вписываться в тот образ самодержавия, которым руководствовался Николай II. Уговаривать императора следовало крайне осторожно.
В то же время, привлекая общественных деятелей как экспертов к обсуждению законопроектов, министры на рубеже XIX–XX вв. не только решали ведомственные задачи, но и стремились обрести популярность в земской среде. В 1902–1904 гг. борьба за экспертов являлась частью противостояния Министерства финансов и МВД 3, при котором в марте 1904 г. был создан Совет по делам местного хозяйства. А в декабре возобновились заседания Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Видную роль в обоих учреждениях играли представители общественности. Кроме того, члены Государственного совета участвовали в обедах, на которые приглашались влиятельные финансисты 4. Идея вывести общественную экспертизу на новый, общегосударственный уровень казалась в этих условиях логичным и естественным шагом.
4 ноября 1904 г. кн. П. Д. Святополк-Мирский поручил С. Е. Крыжановскому разработать проект преобразований, допускавший «уступки, которые совместимы с сохранением существующего государственного строя и способны были бы оторвать либеральные элементы общества от революционных» 5. В составленной Крыжановским записке предусматривался в том числе и призыв выборных от земств и городов в Государственный совет, что подавалось как нечто похожее, пусть и в иной форме, на Земские соборы XVI–XVII вв. Кроме того, в МВД рассчитывали на то, что изменение структуры Совета поможет властям достичь согласия со столичными и региональными элитами 6.
Идею привлечения выборных к правительственной деятельности поддерживали публицисты самых разных взглядов. Кн. С. Н. Трубецкой видел в этом «уже не свободолюбие, а патриотизм». Бюрократия обвинялась им в защите исключительно собственных корпоративных интересов и игнорировании потребностей других социальных групп (особенно крестьян). Выборным же членам Государственного совета предстояло сесть за стол переговоров с чиновниками и образовать тем самым «почву для согласия» 7. Некоторые шли ещё дальше. С. Ф. Шарапов убеждал кн. Святополк-Мирского в том, что императору следовало как можно скорее во всеуслышание заявить о намерении созвать представительство 8. В письме кн. М. М. Андроникову он тогда же мечтал об отмене Табели о рангах и призывал не только привлечь общественных деятелей в Государственный совет, но и вручить им министерские портфели 9. Среди сановников проект кн. Святополк-Мирского поддерживали гр. Д. М. Сольский, А. С. Ермолов, Э. В. Фриш 10. С. Ю. Витте колебался, между ним и министром внутренних дел крепло взаимное недоверие 11.
Как известно, кн. Святополк-Мирскому не удалось убедить Николая II в целесообразности приглашения выборных. Напрасно он доказывал, что земцы толкуют по большей части о бесправии народа и его бедственном положении. Император по-прежнему видел в общественном движении «призрак конституционализма» и однажды признался кн. Святополк-Мирскому, что «терпеть не может» слова «либерал». Доводы Витте и В. Н. Коковцова, настаивавших на несовместимости представительства с самодержавием, лишь укрепляли его предубеждения 12.
Консервативная общественность встретила исчезновение упоминания о выборных из указа 12 декабря 1904 г. с облегчением: в «Русском собрании» или «Кружке москвичей» недоумевали, как можно в разгар войны говорить о представительстве 13. Но и те либералы, чьи устремления и надежды шли уже значительно дальше реформы Государственного совета, не унывали. Так, С. Н. Трубецкой уверял своего брата Евгения в том, что упорство царя «не может остановить движения, а только поддаст воды на мельницу» 14. Тяжелее всех отказ Николая II перенёс кн. Святополк-Мирский, предрекавший теперь репрессии и «постройку новых тюрем» 15 и не сомневавшийся, что через полгода императору придётся раскаяться в своём решении 16. Потерпев неудачу, князь подал в отставку и почти месяц дожидался удовлетворения своего прошения. Лишь 18 января 1905 г. во главе МВД его сменил А. Г. Булыгин.
После событий января 1905 г. о реформе Государственного совета заговорили уже не сторонники, а противники представительства. В его преобразовании они увидели альтернативу более радикальным действиям. Пожалуй, наиболее полно эта тенденция отразилась во всеподданнейшей записке сенатора кн. А. А. Ширинского-Шихматова, составленной в январе 1905 г. Обращаясь к монарху, её автор довольно оптимистично заявлял, что «не время теперь ломки: призовите работников к готовым станкам, и дело воскреснет». Для этого он рекомендовал обновить состав правительственных учреждений выборными представителями населения – «земскими старшинами», которые избирались бы раз в три года на основе имущественного и образовательного ценза, без каких-либо сословных ограничений. Каждая губерния (за исключением Финляндии и некоторых сибирских областей «с чисто инородческим населением») делегировала бы в Петербург двух представителей: одного – в Государственный совет, второго – в Сенат. Князь рассчитывал, что в перспективе «старшины» подключатся к работе всех ведомств (кроме Министерства императорского двора) и войдут в советы министров. Не слишком отягощая государственный аппарат и будучи «разбросаны», они не смогут образовать фронды, окажутся под влиянием чиновников и, если им дать решающий голос, с головой уйдут в созидательную работу 17.
Между тем рескрипт Булыгину 18 февраля 1905 г. сулил создание того или иного представительства. И лишь очень немногие консерваторы, подобно члену «Русского собрания» Б. В. Никольскому, считали возможным «обезвредить рескрипт», просто вернувшись к проекту кн. Святополк-Мирского 18. Историк Н. М. Павлов полагал тогда, что если уж допускать выборных в Государственный совет, то исключительно по сословному принципу и с учётом политической благонадёжности. Так, казачество признавалось им сословием, а городские обыватели – нет 19. Большинство же сторонников самодержавия предпочли бы вернуться не на пару месяцев, а на четверть века назад – к планам гр. М. Т. Лорис-Меликова, предусматривавшим участие выборных в заседаниях не Государственного совета, а особой «Общей комиссии», наравне с чиновниками и экспертами. Сенатор Н. А. Хвостов предлагал назвать такой орган «Государственным земским собранием (или совещанием)», лишив его реальных полномочий 20. Московский неославянофил Ф. Д. Самарин считал службу выборных при Совете не правом, а «государственной повинностью» 21, что фактически превращало депутатов в часть правительственного аппарата. Авторы подобных проектов непременно оглядывались на традиции и институты далёкого прошлого, что сближало их с теоретиками русского консерватизма, но резко отличало от бюрократии, пока ещё чаще обращавшейся к рецептам пореформенного времени.
Точку в спорах о том, удастся ли ограничиться реформой Государственного совета, поставил Булыгин, который констатировал, что включать в состав Государственного совета несколько десятков депутатов не имеет смысла, а сотни выборных парализуют его работу, не говоря уже о сложности проведения полноценной избирательной кампании по всей империи. Всё это не соответствовало бы общественным ожиданиям и одновременно лишило бы правительство «мозгового центра» 22.
С осени в Петербурге вновь заговорили о необходимости реформирования Государственного совета, но оно рассматривалось уже не как альтернатива созданию Думы, а как способ дополнить её надёжным противовесом в виде верхней палаты, которая не позволила бы думцам провозгласить себя Учредительным собранием по примеру французских Генеральных штатов. Но для этого ей следовало предоставить не совещательные функции, а законодательные права, а состав Совета нуждался в обновлении и усилении представителями тех или иных общественных групп. Витте предлагал включить в него выборных от дворянства, земств, университетов и, возможно, духовенства 23. Д. Ф. Трепов настаивал на том, чтобы это обязательно было сделано до созыва Думы, поскольку иначе, по его мнению, правительство утратило бы политическую инициативу, уступив её депутатам 24. Таким образом, как это ни парадоксально, в 1905 г. проекты преобразования Государственного совета разрабатывались консерваторами для противодействия народному представительству. Страна жила в ожидании кардинальных перемен. Некоторые о них мечтали, иные их опасались, но все говорили о грядущих реформах. И если одни желали с их помощью приблизить изменение самодержавного строя, то другие – избежать его существенной трансформации.
Другая концепция народного представительства предполагала созыв в России Земского собора, конечно, не такого, какие устраивались при Иване Грозном или Алексее Михайловиче, а скорее в духе идей К. С. Аксакова, собственно и назвавшего соборы XVI–XVII вв. «земскими». Славянофилы исходили из того, что в отличие от Запада, где средневековые королевства возникали после завоеваний, в России княжеская власть установилась с согласия общины, и потому «государство» и «земля» в равной степени нуждались друг в друге: князь обеспечивал общинникам защиту и принимал ключевые решения, а «земля» оценивала его правление и придавала ему легитимность. Именно поэтому и первый русский царь в начале правления обратился к ней за поддержкой, а в дальнейшем эта практика усложнилась и институционализировалась, приобретая особое значение при внешнеполитических, социальных и династических кризисах. При этом участники соборов могли открыто высказать свои мнения, но окончательное решение оставалось за царём, что служило залогом стабильности. Впрочем, славянофилы считали, что в спокойные времена русский народ не придаёт политике, как делу мирскому, большого значения 25. Поэтому и И. С. Аксаков, подобно брату, развивая концепцию «неполитического либерализма», видел в Земском соборе не столько представительное учреждение, сколько пространство «оформления общественного мнения» 26. Между тем ему казалось, что после убийства Александра II всевластие бюрократии ведёт Россию к революции, от которой страну может спасти только развитие самоуправления 27. Но прежде надлежало разрушить бюрократическое «средостение» и донести до царя голос земства. Для этого и требовался Земский собор. Схожие соображения излагал в 1882 г. в своём проекте гр. Н. П. Игнатьев, желавший приурочить проведение такого собора к коронации Александра III.
Характерно, что эпоха Великих реформ соединила идею собора с новыми, собственно «земскими» смыслами. Не случайно в 1900 г. в пользу его созыва высказывался один из наиболее видных земцев – Д. Н. Шипов 28. В 1905 г. у подобного шага были как убеждённые сторонники, так и ярые противники, причём и тех, и других в историографии обычно причисляют к консерваторам. Так, издатель «Нового времени» А. С. Суворин 29 и генерал А. А. Киреев 30 признавали Земский собор оптимальной формой представительства, надеясь на то, что он сплотит общество, погрязшее в «смуте». Они считали, что важны не столько полномочия, решения или состав собора, сколько сам факт его созыва, которому придавалось идеологическое значение. Однако после ноябрьского общеземского съезда и «банкетной кампании» не оставалось сомнений в том, что собор станет всероссийской трибуной либеральной оппозиции. Поэтому Л. А. Тихомиров одобрял его проведение только в том случае, если он будет избран сословиями, а не органами местного самоуправления 31. Но редактор «Московских ведомостей» В. А. Грингмут, возражая против любых экспериментов с центральными представительными учреждениями, был убеждён в том, что сословный собор вскоре обратится в бессословный парламент, который погубит Россию 32.
Споры о Земском соборе быстро проникли из консервативной публицистики в «высшие сферы». Его созыву сочувствовали даже отдельные великие князья 33. Среди чиновников высказывались разные мнения. А. Н. Куломзин полагал, что представительство, сформированное по лекалам гр. Игнатьева, помогло бы правительству «вырвать движение из рук улицы» 34. Витте нерегулярный характер заседаний собора, напротив, совершенно не устраивал 35.
Рескрипт Булыгину лишь выражал намерение монарха привлекать «доверием народа облечённых» людей к законотворчеству, но ничего не говорил о том, в какой форме это будет происходить. Сторонникам Земского собора казалось, что именно теперь, когда России нужна «точка опоры для борьбы с конституцией и революцией» 36, их ожидания должны осуществиться. Разумеется, им хотелось, чтобы это случилось как можно скорее 37. Но обстоятельных проектов организации собора известно немного. Один из них был составлен историком Д. И. Иловайским 38, ещё два анонимных и почти идентичных текста сохранились в бумагах барона Э. Ю. Нольде. В них предусматривалось участие в заседаниях собора по должности (члены Государственного совета, сенаторы, архиереи, именовавшиеся в духе XVI–XVII вв. «Освященным собором») и по выборам от сословий, к которым допускались исключительно православные. Особо воспрещалось избрание евреев и дворян от национальных окраин. При этом активное избирательное право предоставлялось женщинам: они могли голосовать, если являлись главами семей 39.
Как и встарь, Земский собор предполагалось созвать в Москве. А. И. Кошелёв ещё в 1862 г. призывал открыть Земскую думу «в Москве – в сердце России, поодаль от бюрократического центра» 40. Славянофильское противопоставление «земли» и «государства» звучало в публицистике и в 1905 г. Но некоторые консерваторы шли дальше. Так, орловский дворянин В. И. Трубников предлагал провести собор «в какой-либо Костроме, Вологде или другом каком в стороне лежащем городе» 41. Тем не менее и император, и его сановники, чьи мнения редко совпадали, оказались единодушны в скептическом отношении к подобным планам.
И хотя на Петергофских совещаниях гр. А. А. Голенищев-Кутузов, поэт и секретарь вдовствующей императрицы, утверждал, что Государственная дума будет не легитимна без одобрения решения о её созыве Земским собором, а общество почувствует себя обманутым, если царь не посоветуется с ним перед тем, как сделать важнейший шаг 42, тот же Булыгин и его главный сотрудник Крыжановский, не ожидая от собора никакой пользы, твёрдо настаивали на создании постоянного представительства 43. В итоге с Манифестом 6 августа сторонники Земского собора ещё могли смириться, но с Манифестом 17 октября – уже нет. Некоторые из них призывали даже его отменить 44. В «Союзе русских людей» надеялись, что этого добьётся именно Земский собор, и просили Николая II созвать его, не дожидаясь открытия Думы 45.
Впрочем, и среди правых такой позиции придерживались немногие. По мнению Ф. Д. Самарина, разговоры об отмене Манифеста 17 октября дискредитировали самодержавие больше, чем представительство. Ответственность за такой шаг всё равно пришлось бы нести не собору, а императору. Между тем тот или иной манифест не мог отменить самодержавия, сложившегося в России в силу особенностей исторического пути. Тогда как Земский собор в разгар революции не ограничится выражением мнений и быстро превратится в Учредительное собрание 46. В 1905 г. окрашенный в славянофильские тона институт не мог ни санкционировать переход к конституционной монархии, ни стать полноценным представительством. К тому же многие консерваторы рассматривали Собор как имитацию представительной власти, что противоречило тем смыслам, которыми изначально наделяли его славянофилы.
Более реалистичными, несмотря на отставку кн. Святополк-Мирского, казались концепции учреждения постоянного законосовещательного представительства. Так, Ермолов под впечатлением от «кровавого воскресенья» призывал царя услышать голос просивших об этом дворянских и земских собраний, дабы сплотить вокруг престола тех, кто не хотел революции 47. Император согласился по окончании войны создать некий сословный представительный орган 48. Его окружение рассчитывало опереться на дворян и крестьян 49. Подстраиваясь под придворные настроения, проект «Отечественного союза» даже давал крестьянам большинство в нижней палате, где «мужики» могли свободно обсуждать «основные вопросы государственной жизни», в то время как составлением законов занималась бы верхняя палата 50.
Однако упоминание о сословности представительства, имевшееся в первых вариантах рескрипта Булыгину 51, из окончательной редакции исчезло. В МВД категорически не желали видеть неграмотных крестьян, в большинстве своём не заглядывавших «дальше интересов своей улицы» 52, в «булыгинской думе», где предполагалось разрабатывать законы 53. Им оставалось бы там только «молчать, служить сконфуженной “декорацией”» 54. В правительстве предпочитали «оседлых» дворян и купцов 55, и опасались, что при последовательном воплощении сословного принципа в российских реалиях крестьяне попросту заполонят Думу 56.
Казалось, судьба представительной власти в России решалась на Петергофских совещаниях, где спорили сторонники бюрократических и национально-охранительных взглядов. В результате консерваторам удалось отстоять отдельное представительство крестьян в «булыгинской думе». Царь не услышал сановников, твердивших о том, что земледелец в Петербурге уйдёт или в загул, или в революцию 57. Но он разрешил избираться в депутаты неграмотным, в чём его убедил Павлов, сославшийся на то, как «один пустынник, не знавший грамоте», будучи святым, поучал афинских мудрецов 58. Вместе с тем чиновники добились предоставления избирательных прав евреям 59.
В ходе этих дискуссий ни разу не говорилось о наделении будущей думы законодательными полномочиями. Летом 1905 г. Николай II не принял бы такие рекомендации. Но чиновники исходили из того, что европейский конституционализм «есть юридический договор между правительством и народом, взаимно друг другу не доверяющим» 60, а на Руси власть монарха исконно держалась на доверии и почти семейном единении с народом. Собственно «булыгинская дума» стала воплощением в новых условия прежней идеи патриархального Земского собора, сохраняющего традиции самобытной русской государственности. Именно это и наделяло её реальной властью, поскольку в славянофильской интерпретации царь, созвав Земский собор, не мог пойти против него, игнорируя интересы своих поданных. Подобный подход ограничивал его значительно больше, чем любая конституция.
Многие сановники, работая над очертаниями «булыгинской думы», мечтали о полновластном представительстве, но в разговорах с императором использовали славянофильские образы и риторику. По словам гр. Сольского, появление Думы не означало «введения представительного образа правления», поскольку она создавалась «свободным изволением монарха», но с ней следовало считаться, так как впредь уже нельзя будет «спрятаться» от общества за спиной бюрократии, и теперь, выразив несогласие с депутатами, император пойдёт против своего народа 61.
Неслучайно в проектах Манифеста 6 августа напоминалось об исторических корнях службы по выборам в России, включая участников Земских соборов, депутатов Уложенной комиссии, предводителей дворянства 62. «Булыгинская дума» органично встраивалась в этот ряд, что сильно раздражало приверженцев реакции. Они предсказывали, что созыв думцев «даст, конечно, ещё худшие результаты, чем Цусимский бой» 63. Никольский и вовсе видел в Думе триумф народовластия, ведущий к установлению республики 64.
Тем не менее поначалу многих оппонентов совещательная Дума как будто примирила. Чиновники надеялись на то, что она политически и нравственно ограничит императора, сторонники Земского собора искали в ней противовес бюрократии 65, а некоторые либеральные публицисты радовались первому шагу на пути к законодательному представительству 66. Но иллюзии скоро развеялись. Ещё в XIX в. Б. Н. Чичерин предупреждал, что чем меньше полномочий получат депутаты, тем слабее они будут осознавать свою ответственность и тем радикальнее станут их речи 67. В октябре 1905 г. в Петербурге в этом убедились, признав, по словам Витте, что именно совещательный характер делает будущую Думу «склонной к самым крайним неожиданностям» 68.
Так или иначе, в 1905 г. не Земский собор, а именно «булыгинская дума» воплощала подлинно славянофильский идеал народного представительства. И хотя славянофилы смотрели на представительную власть идеалистически, а чиновники – практически, но и те и другие противопоставляли её абсолютизму. Аксаковские же метафоры, которыми нередко пользовались при дворе и в начале ХХ в., как нельзя лучше подходили для того, чтобы убедить монарха отказаться от единовластия. Однако, когда «смута» стала на глазах превращаться в «революцию», выяснилось, что общественное мнение может не сплотиться вокруг самодержавия, а уничтожить его. Легализация радикальных настроений в стенах совещательной Думы лишь подлила бы масла в огонь, и правительство решилось дать депутатам больше власти, надеясь, что так их будет легче контролировать.
О возможности передачи законодательной власти представительным учреждениям в XIX в. размышляли и в правительственных, и особенно – в оппозиционных кругах. К началу XX в. этого желало подавляющее большинство русских либералов. Ещё Чичерин намечал контуры будущего парламента, в котором нижнюю палату избирали бы гласные губернских земств, а верхнюю составлял бы Государственный совет, среди членов которого также заседали бы выборные. Однако Чичерин не верил в то, что самодержавие осуществит такую реформу, если не столкнётся с острыми внешнеполитическими угрозами 69.
На общеземском съезде в ноябре 1904 г. 71 делегат высказался за законодательное представительство и только 27 поддержали совещательное 70. Развернувшаяся после съезда «банкетная кампания» придала требованиям земцев широкое общественное звучание, с чем волей-неволей приходилось считаться правительству.
После того как указ Сенату, подписанный 18 февраля 1905 г., разрешил направлять в Совет министров проекты преобразования государственного строя, губернские и уездные земские собрания и городские думы тут же начали требовать законодательных полномочий, причём в подавляющем большинстве случаев – не просто парламента, а Учредительного собрания и всеобщего избирательного права 71. Некоторые сторонники конституции обращались к Булыгину, возглавлявшему не только МВД, но и Особое совещание, разрабатывавшее проект создания представительного учреждения. Так, гласные Череповецкого земства уверяли министра в том, что парламент не ослабит самодержавия, а доверие монарха к своим подданным, напротив, укрепит его авторитет 72.
Благодаря барону А. А. Будбергу и Трепову, Николай II прочёл также записку, подготовленную бывшим товарищем министра финансов В. И. Ковалевским. В ней утверждалось, что в конце 1904 г. власть совершила «огромную политическую ошибку», отказавшись пойти навстречу земскому съезду и созвать выборных. В итоге привычные бюрократические методы перестали работать, а страна оказалась на грани революции. Единственный выход из создавшегося положения автор усматривал в том, чтобы «немедленно снять оковы с русской мысли и русского духа и дать здоровый исход сжатым общественным силам». Для этого следовало выпустить манифест об образовании Государственной думы, провозгласив, что впредь без её одобрения законы издаваться не будут. И первым делом парламенту надлежало урегулировать аграрные отношения 73. В программе Ковалевского данный шаг дополнялся рядом мер, направленных на смягчение политического режима и предоставление свобод, в дарование которых опытные чиновники не очень-то верили. В частности, Будберг полагал, что царь ни за что не согласится на амнистию политических преступников 74. А вот в том, что касалось Думы, такой уверенности не было. По сути, рассуждения Ковалевского отражали настроения весенних земских съездов. Он лишь в более приличной форме изложил то, что, по собственному признанию, хотел бы сказать императору в адресе майского съезда кн. С. Н. Трубецкой: «Поросёнок, давай нам конституцию» 75.
При этом в земских и сочувствовавших им кругах не могли договориться даже о том, как именно должны проходить выборы. Многие земцы и некоторые чиновники готовы были доверить их органам местного самоуправления. Тот же Крыжановский для «демократизации» представительства предлагал поручить избрание депутатов в «булыгинскую думу» уездным земствам и городским думам 76.
На земских выборах настаивал и Куломзин, составивший в мае 1905 г. проект создания «Государственного представительного собрания» с законодательными функциями. Его записку поддержали и другие «старцы» Государственного совета – гр. К. И. Пален, О. Б. Рихтер, Ф. Г. Тернер, А.А. и П. А. Сабуровы. Учитывая нестабильную и взрывоопасную ситуацию в стране, они рекомендовали не медлить с выборами, воспользовавшись многократно проверенным земским опытом. Но для того, чтобы обеспечить представительство всей империи, предстояло «без дальнейших колебаний» открыть земские учреждения на тех окраинах, где они ещё отсутствовали – в Царстве Польском, Остзейском крае, на Кавказе и т. д. Причём ввести их там надлежало на основании положения 1864 г. Одновременно намечалось расширение полномочий земств и наделение их правом «действительного, а не бумажного надзора». Ожидалось, что тогда политика быстро перестанет интересовать земцев: те, кого изберут в парламент, займутся общегосударственными делами, а оставшиеся «на местах» с головой уйдут в заботы о местном хозяйстве, социалистические и революционные идеи утратят среди них популярность, и Россия пойдёт по европейскому пути постепенного приобщения народа к представительным институтам 77.
Сановники надеялись также на то, что земские выборы позволят избежать появления неработоспособной крестьянской Думы. Схожие соображения высказывали и некоторые земцы. К примеру, рязанский гласный А. В. Еропкин предсказывал, что всеобщие выборы, за которые ратовала значительная часть интеллигенции, оставят её в Думе в подавляющем меньшинстве. Усматривая в земском «характере» залог её легитимности, он считал необходимым предоставить представителям местного самоуправления как можно больше депутатских мест 78.
Но и среди самих земцев такие взгляды встречали возражения. Так, председатель Харьковской губернской земской управы кн. А. Д. Голицын утверждал, что выборы в парламент, если их передадут органам местного самоуправления, погубят земство, поскольку они ещё больше усилят его политизацию, а избрание лучших гласных в депутаты «обескровит» уездные и губернские собрания. Между тем успешный земский деятель, хорошо разбирающийся в хозяйственных и экономических проблемах, далеко не всегда подготовлен к законотворческой работе. Князь не сомневался в необходимости для России земско-городского представительства, но, в отличие от сановников, считал возможным создать его лишь в отдалённой перспективе – после распространения земства по всей империи и создания мелкой земской единицы. Только тогда, по его мнению, могла бы появиться вторая палата парламента, способная представлять всю Россию 79.
«Булыгинская дума» земцев, конечно, не устраивала. На июльском съезде её проект был единогласно признан «несоответствующим современным требованиям жизни» 80. Осенью с этим согласились уже и в среде высшей бюрократии, сумевшей повлиять на императора. Граф Сольский писал ему, приветствуя Манифест 17 октября: «Почином Вашим создаётся новая эра русской истории, и миллионы будут во веки благословлять Ваше имя» 81. А. А. Половцов был убеждён, что этим актом России «категорически даруется конституция» 82. Сам Николай II с горечью смирился с тем, что отныне власть монарха ограничивалась Думой и становилась конституционной 83.
Так, однако, считали не все. Кадетам не хватало ответственного министерства. Правые доказывали, что Манифест 17 октября не упразднял самодержавия. Глубинные разночтения в его трактовках определили и нестабильность установленного им государственного строя. Современники отмечали, что в официальных документах умалчивалось о «народном представительстве» 84 (как и о «революции»). И всё же казалось, что 17 октября 1905 г. идея законодательной представительной власти окончательно восторжествовала, хотя её ещё только предстояло претворить в жизнь. И многое зависело от того, насколько быстро удастся созвать Думу.
Вместе с тем правительству было критически важно сохранить инициативу в своих руках. Общественность, не только правая, но и либеральная, ожидала твёрдости и последовательности при проведении избирательной кампании и издании новой редакции Основных законов 85. Какое-то время в Петербурге обсуждалась возможность создать проправительственную партию, способную победить на выборах. В конце сентября Трепов именовал её «твёрдо сплочённой консервативной партией порядка» 86, а профессор Казанской духовной академии Н. И. Ивановский два месяца спустя – «конституционно-монархической» 87. Но гр. Витте, возглавлявший реформированный Совет министров, решил отказаться от всякого вмешательства в ход голосования, дабы не компрометировать его результаты 88. Тем не менее ему очень хотелось, чтобы Дума оказалась в итоге под контролем правительства 89.
Российская «конституция» 1905 г. являлась результатом компромиссов, на которые пришлось пойти и Николаю II, и либералам. Поэтому для многих созыв Думы отнюдь не означал ни перехода к конституционализму, ни завершения борьбы, которую одни вели за расширение прав парламента и подлинную конституцию, а другие – за возвращение к неограниченному самодержавию. Новая политическая система строилась на противоречиях, но обладала важнейшим инструментом для их разрешения – народным представительством.
Это стало возможным благодаря тому, что в конце 1904–1905 гг. правящая элита, обсудив, отвергла проекты реформы Государственного совета, созыва Земского собора и «булыгинской думы». В новых условиях бюрократические механизмы, идеи и смыслы XIX в. уже не работали. Для преодоления кризиса требовалось в корне изменить систему государственного управления. Именно поэтому в основу Государственной думы Российской империи легла парламентская концепция народного представительства. Российские интеллектуалы, размышлявшие в условиях эскалации революционного кризиса о различных вариантах представительных учреждений, транслировали императору ожидания общественности и расширяли границы преобразований, на которые он мог решиться. Николая II уговорили создать Думу и наделить её законодательной властью, но убедить его в том, что этот шаг был правильным, так и не удалось. Последствия этой неуверенности в полной мере проявились уже в 1906 г.
1 См.: Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб., 1991; Куликов С. В. Венец премьерства графа С. Ю. Витте. Подготовка Основных государственных законов 23 апреля 1906 г. (по новым документам) // С. Ю. Вите – экономист, политик, дипломат / Под ред. С. Д. Бодрунова. М., 2015. С. 80–132; Куликов С. В. Оттон Эйхельман и его проект Основных государственных законов // Петербургский исторический журнал. 2019. № 2. С. 82–99; Дёмин В. А. Идея представительной власти // Общественная мысль России: с древнейших времён до середины ХХ века: в 4 т. Т. 3. Общественная мысль России второй четверти XIX – начала ХХ в. / Отв. ред. В. В. Шелохаев. М., 2020. С. 194–239.
2 Нарежный А. И. Проблемы народного представительства в общественной мысли России второй половины XIX в. // Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления. Материалы международной научной конференции. Москва, 28–29 октября 2010 г. М., 2011. С. 339; Медушевский А. Н. Конституционные проекты в России // Конституционные проекты в России XVIII – начало XX в. / Отв. ред. С. Бертолисси, А. Н. Сахаров. М., 2000. С. 140.
3 Соловьёв К. А. Политическая система Российской империи в 1881–1905 гг.: проблема законотворчества. М., 2018. С. 275–277.
4 Там же. С. 279–280.
5 Всеподданнейший доклад министра внутренних дел П. Д. Святополк-Мирского 24 ноября 1904 г. // Река времён. Книга истории и культуры. Кн. V. М., 1996. С. 218.
6 Там же. С. 226, 229.
7 Цит. по: Революция 1905 года. Материалы и официальные документы / Под ред. В. И. Невского. Харьков, 1925. С. 20, 22.
8 ГА РФ, ф. 1729, оп. 1, д. 85, л. 1 об.–2.
9 РГИА, ф. 922, оп. 1, д. 307, л. 19–22.
10 Дневник кн. Екатерины Алексеевны Святополк-Мирской за 1904–1905 гг. // Исторические записки / Публ. А. Л. Сидорова. Т. 77. М., 1965. С. 262.
11 Пытаясь этим воспользоваться, другой сторонник представительства – товарищ министра финансов кн. А. Д. Оболенский в письме к Витте называл подготовленный в МВД проект указа запоздалой «полумерой». По его мнению, следовало действовать решительнее, в частности, отказаться от личных всеподданнейших докладов министров, а Государственный совет «обновить не сведущими людьми, а выбранными» (РГИА, ф. 1622, оп. 1, д. 454, л. 1). Впрочем, это не мешало ему в беседах с кн. Святополк-Мирским восхищаться его инициативами как «великим актом», способным спасти «государя и Россию от великих несчастий». Ради этого не стоило бояться даже самого Витте (ГА РФ, ф. 1729, оп. 1, д. 1147, л. 14 об.–15 об.).
12 Дневник кн. Екатерины Алексеевны Святополк-Мирской… С. 258–260. Подробнее см.: Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 г. … С. 5–59; Крылова Е. Н. Министерство внутренних дел и общественная инициатива накануне Первой русской революции. СПб., 2019.
13 Кирьянов Ю. И. Русское собрание. 1900–1917. М., 2003. С. 35; ОР РГБ, ф. 265, к. 134, д. 5, л. 7 об.
14 Цит. по: Трубецкая О. Н. Князь С. Н. Трубецкой. Воспоминания сестры. Нью-Йорк, 1953. С. 259.
15 Воспоминания: из бумаг С. Е. Крыжановского, последнего государственного секретаря Российской империи / Публ. А. В. Лихоманова. СПб., 2009. С. 58.
16 Дневник кн. Екатерины Алексеевны Святополк-Мирской… С. 266.
17 ГА РФ, ф. 543, оп. 1, д. 14, л. 2–6.
18 Никольский Б. В. Дневник. 1896–1918 / Публ. Д. Н. Шилова и Ю. А. Кузьмина. Т. 2. СПб., 2015. С. 33.
19 Павлов Н.М. О значении «выборных» по русскому народному воззванию. Харьков, 1905. С. 20–23.
20 ОР РГБ, ф. 265, к. 134, д. 2, л. 1 об.–3 об.
21 Там же, д. 11, л. 28 об.
22 РГИА, ф. 1544, оп. 1, д. 1, л. 8 об.–10 об.
23 Манифест 17 октября // Красный архив. 1925. Т. 4–5 (11–12). С. 60.
24 ГА РФ, ф. 543, оп. 1, д. 232, л. 3.
25 Дудзинская Е. А. Славянофилы и революция // Экономическая и общественная жизнь России Нового времени. Первые Дружининские чтения. Сборник докладов и сообщений. Ч. II. М., 1992. С. 159; Цимбаев Н. И. Славянофильство: из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М., 2013. С. 208–209, 214, 258.
26 Тесля А. А. Последний из отцов. Биография И. С. Аксакова. СПб., 2014. С. 252–253.
27 Аксаков И. С. Бюрократическое и земское государство // Теория государства у славянофилов. Сборник статей И. С. Аксакова, К. С. Аксакова, А. В. Васильева, А. Д. Градовского, Ю. Ф. Самарина и С. Ф. Шарапова. СПб., 1898. С. 5–14.
28 Соловьёв К. А. Кружок «Беседа». В поисках новой политической реальности. 1899–1905. М., 2009. С. 80–81.
29 Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову. СПб., 1913. С. 157.
30 Дневник Л. А. Тихомирова. 1905–1907 гг. / Сост. А. В. Репников, Б. С. Котов. М., 2015. С. 52.
31 Там же.
32 Грингмут В. А. Опасное недоразумение // Московские ведомости. 1905. № 32. С. 1–2.
33 Из дневника Константина Романова // Красный архив. 1930. Т. 6(43). С. 111.
34 РГИА, ф. 727, оп. 2, д. 193, л. 17–18.
35 Заседания Совета министров 3 и 11 февраля 1905 г. в записях Э. Ю. Нольде / Публ. Р. Ш. Ганелина // Археографический ежегодник за 1989 год. М., 1990. С. 298.
36 Киреев А. А. Дневник. 1905–1910 / Сост. К. А. Соловьёв. М., 2010. С. 52.
37 Суворин А. С. Русско-японская война и русская революция. Маленькие письма (1904–1908). М., 2005. С. 308.
38 Омельянчук И. В. Консервативный лагерь и идея воссоздания Земского собора в начале ХХ века // Таврические чтения 2015. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. Международная научная конференция. Сборник научных статей. Ч. 1. СПб., 2016. С. 225.
39 РГИА, ф. 727, оп. 2, д. 41, л. 43–50 об.
40 Цит. по: Цимбаев Н. И. Славянофильство… С. 281.
41 РГИА, ф. 1276, оп. 1, д. 20, л. 8.
42 См.: Петергофские совещания о проекте Государственной думы. Какую Думу хотели дать народу Николай II и его министры. Пг., 1917. С. 26–28.
43 РГИА, ф. 1544, оп. 1, д. 1, л. 5 об.
44 Там же, ф. 1276, оп. 1, д. 57, л. 273 об.
45 Правые партии. 1905–1917. Документы и материалы. В 2 т. / Сост. Ю. И. Кирьянов. Т. 1. М., 1998. С. 82–83.
46 ОР РГБ, ф. 265, к. 116, д. 1, л. 2 об.–4.
47 РГИА, ф. 727, оп. 2, д. 51, л. 1–1 об.
48 Там же, д. 41, л. 1–1 об.
49 Из архива С. Ю. Витте: Воспоминания / Публ. Б. В. Ананьича, Р. Ш. Ганелина, С. В. Куликова, С. К. Лебедева, И. В. Лукоянова. Т. 2. СПб., 2003. С. 113.
50 Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника / Публ. Н. П. Соколова. М., 2000. С. 735.
51 РГИА, ф. 727, оп. 2, д. 41, л. 6 об.–7, 33 об.
52 Падение царского режима. Стенографические отчёты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства / Под ред. П. Е. Щёголева. Т. V. М.; Л., 1926. С. 390.
53 Богданович А. В. Три самодержца. Дневники генеральши Богданович. М., 2008. С. 270.
54 Киреев А. А. Дневник… С. 37.
55 РГИА, ф. 727, оп. 2, д. 41, л. 73 об.
56 Таганцев Н. С. Пережитое. Учреждение Государственной думы в 1905–1906 гг. Вып. 1. Пг., 1919. С. 26–27.
57 Петергофские совещания… С. 96–97, 144, 154.
58 Там же. С. 158.
59 Там же. С. 122.
60 РГИА, ф. 727, оп. 2, д. 41, л. 73.
61 Там же, ф. 694, оп. 2, д. 112, л. 3–5.
62 См.: Таганцев Н. С. Пережитое… Вып. 1. С. 43.
63 РГИА, ф. 1276, оп. 1, д. 15, л. 100 об.
64 ГА РФ, ф. 588, оп. 1, д. 1277, л. 1–2.
65 Киреев А. А. Дневник… С. 77.
66 Слонимский Л. З. Народное представительство и правовой порядок // Вестник Европы. 1905. Т. V. Кн. 10. С. 738–739.
67 Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1899. С. 146–147.
68 Манифест 17 октября. С. 60.
69 Чичерин Б. Н. Россия накануне двадцатого столетия. Берлин, 1900. С. 171–179.
70 Гросул В.Я., Итенберг Г. С., Твардовская В. А., Шацилло К. Ф., Эймонтова Р. Г. Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000. С. 401.
71 РГИА, ф. 1276, оп. 1, д. 6, л. 49 об.; д. 7, л. 27 об.–28, 65 об.; д. 20, л. 14 об.–15 об., 18 об., 42 об., 60 об., 62–63 об., 66, 68 об.–69 об., 70 об., 74, 130 об.–131, 138 об., 146 об., 156, 159 об.–160, 181 об.–182, 183, 190, 208–208 об.; Таганцев Н. С. Пережитое… Вып. 2. С. 99, 107.
72 РГИА, ф. 1276, оп. 1, д. 7, л. 57 об.–58.
73 Из архива С. Ю. Витте // Красный архив. 1925. Т. 4–5(11–12). С. 110–114.
74 Там же. С. 108.
75 Оболенский В. А. Моя жизнь. Мои современники. Париж, 1988. С. 283.
76 Падение царского режима… Т. V. С. 380.
77 РГИА, ф. 1642, оп. 1, д. 132, л. 5 об.–11.
78 Еропкин А. В. Земство и народ. К вопросу о народном представительстве. М., 1905. С. 13–20.
79 ГА РФ, ф. 1729, оп. 1, д. 164, л. 8–8 об., 16–16 об.
80 Там же, ф. 543, оп. 1, д. 387, л. 16.
81 Там же, ф. 601, оп. 1, д. 1431, л. 120.
82 Половцов А. А. Дневник. 1893–1909 / Сост. О. Ю. Голечкова. СПб., 2014. С. 486.
83 Власть и общество в Первой российской революции 1905–1907 гг.: документальные свидетельства / Сост. А. П. Ненароков, П. Ю. Савельев, А. А. Чернобаев. М., 2017. С. 16.
84 Милюков П. Н. Год борьбы. Публицистическая хроника. 1905–1906. СПб., 1907. С. 77.
85 РГИА, ф. 1276, оп. 1, д. 3, л. 1, 8–9, 11–18, 20; д. 30, л. 32; д. 57, л. 260–261; д. 58, л. 70, 171.
86 Власть и общество в Первой российской революции… С. 18–19.
87 РГИА, ф. 1276, оп. 1, д. 167, л. 29.
88 Манифест 17 октября. С. 59.
89 Воспоминания: из бумаг С. Е. Крыжановског… С. 88–89.
About the authors
Sergey S. Novoselskiy
Russian State University for the Humanities
Author for correspondence.
Email: otech_ist@mail.ru
кандидат исторических наук, доцент
Russian Federation, MoscowReferences
- Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и ре-волюция. СПб., 1991.
- Гросул В.Я., Итенберг Г.С., Твардовская В.А., Шацилло К.Ф., Эй-монтова Р.Г. Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000.
- Дёмин В.А. Идея представительной власти // Общественная мысль России: с древнейших времен до середины ХХ века: в 4 т. Т. 3. Об-щественная мысль России второй четверти XIX – начала ХХ в. / Отв. ред. В.В. Шелохаев. М., 2020. С. 194–239.
- Дудзинская Е.А. Славянофилы и революция // Экономическая и об-щественная жизнь России нового времени. Первые Дружининские чтения. Сборник докладов и сообщений. Ч. II. М., 1992. С. 157-165.
- Кирьянов Ю.И. Русское собрание. 1900–1917. М., 2003.
- Крылова Е.Н. Министерство внутренних дел и общественная иници-атива накануне Первой русской революции. СПб., 2019.
- Куликов С.В. Венец премьерства графа С.Ю. Витте. Подготовка Ос-новных государственных законов 23 апреля 1906 г. (по новым до-кументам) // С.Ю. Вите – экономист, политик, дипломат / Под ред. С.Д. Бодрунова. М., 2015. С. 80–132.
- Куликов С.В. Оттон Эйхельман и его проект Основных государ-ственных законов // Петербургский исторический журнал. 2019. № 2. С. 82–99.
- Медушевский А.Н. Конституционные проекты в России // Конститу-ционные проекты в России XVIII – начало XX в. / Отв. ред. С. Бер-толисси, А.Н. Сахаров. М., 2000. С. 95-166.
- Нарежный А.И. Проблемы народного представительства в обще-ственной мысли России второй половины XIX в. // Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления. Материалы международной научной конференции. Москва, 28–29 октября 2010 г. / [Отв. ред. В.В. Шелохаев]. М., 2011. С. 331-355.
- Омельянчук И.В. Консервативный лагерь и идея воссоздания Земско-го собора в начале ХХ века // Таврические чтения 2015. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. Междуна-родная научная конференция, С.-Петербург, Таврический дворец, 10–11 декабря 2015 г. Сборник научных статей. Ч. 1. СПб., 2016. С. 224-231.
- Соловьёв К.А. Кружок «Беседа». В поисках новой политической ре-альности. 1899–1905. М., 2009.
- Соловьёв К.А. Политическая система Российской империи в 1881–1905 гг.: проблема законотворчества. М., 2018.
- Тесля А.А. Последний из отцов. Биография И.С. Аксакова. СПб., 2014.
- Цимбаев Н.И. Славянофильство: из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М., 2013.
Supplementary files