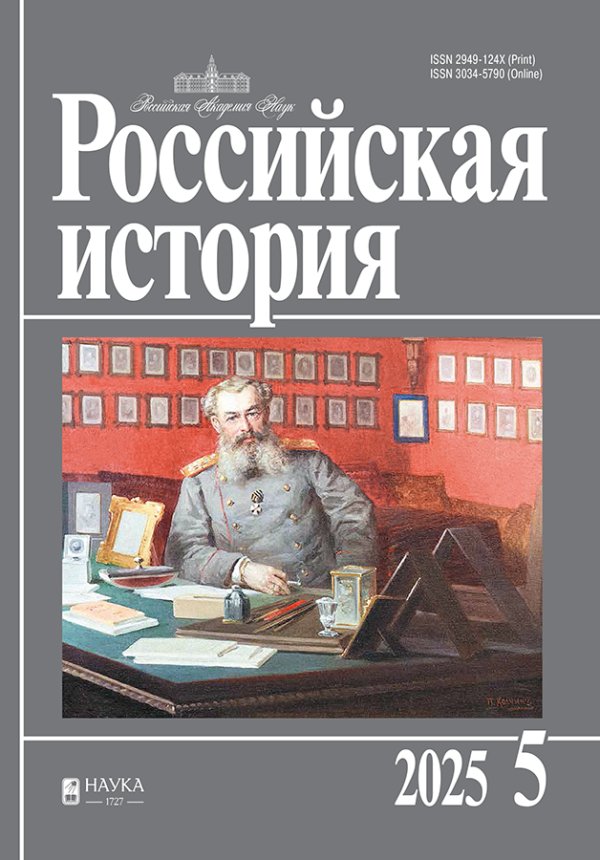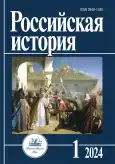Agvan Dorjiev and the end of the «Golden Age» of Buddhism in Soviet Russia
- Authors: Sipeykin A.1
-
Affiliations:
- Moscow University of Industry and Finance «Synergy»
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 149-160
- Section: Persons and views
- URL: https://bakhtiniada.ru/2949-124X/article/view/257088
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2949124X24010119
- EDN: https://elibrary.ru/CHRQJQ
- ID: 257088
Cite item
Full Text
Full Text
Среди современных исследователей истории буддизма в 1920–1930-х гг. нет единства в оценке характера взаимоотношений между буддийскими общинами и советской властью. Одни описывают этот период как «золотой век» буддизма в России1, вспоминают о так называемом религиозном нэпе2, другие призывают к осторожности при использовании этих концепций3 и даже говорят о «сангхе в эпоху упадка»4. Существенным вкладом в решение данного вопроса может стать анализ информационных документов ОГПУ, в которых отражены результаты наблюдений работников органов безопасности за религиозными организациями. Сотрудники ОГПУ тщательно фиксировали и пытались углубить все существовавшие между верующими разногласия, помогая более «слабым» сторонникам реформационных движений против более влиятельных (в силу их поддержки большинством верующих) консерваторов.
Особенного внимания заслуживает вопрос о характере буддийского обновленческого движения в его сравнении с аналогичными течениями в других вероисповеданиях. В советской историографии подчёркивались черты сходства между буддийским обновленчеством и аналогичным течением в Русской Православной Церкви5. Современные исследователи отмечают специфику буддийского обновленческого движения. Для его представителей доказательство лояльности Советскому государству означало одновременно и подчёркивание своей «российской идентичности». До революции 1917 г. «патриотическим статусом» обладало только православие6. Современные историки также указывают на сходство между обновленчеством в буддийской Сангхе (общине буддийских монахов) и в Русской Церкви. Но, как отмечают исследователи, они были во многом связаны с сознательным подражанием, заимствованием тактических приёмов, необходимых для достижения компромисса с советской властью. Так, И. С. Цыремпилова подчеркнула тот факт, что обновленцы-буддисты активно использовали «обновленческий опыт православия»7.
Подобно представителям «Живой церкви» и другим противникам патриарха Тихона – инициаторам раскола в православии, обновленцы-буддисты старались всячески заявить о своей лояльности власти, обвиняя своих более консервативных оппонентов в заведомой контрреволюционности. Это проявилось, например, в публичном осуждении багши (настоятеля) З. Хаглышева. Во время пребывания в Тибете он рассказал далай-ламе о притеснениях, которым подвергались буддисты в Советской России8. Поводом к осуждению консерваторов в контрреволюционности являлось также их активное участие в агитации за эмиграцию из СССР.
В информационных документах ОГПУ подчёркивался тот факт, что «обновленцы в массе своей имеют пассивно-отрицательное отношение к эмиграции, чем они лишний раз доказывают свою относительную лояльность». В докладе о положении буддизма в Бурят-Монгольской республике излагается точка зрения Х. Мункужапова и других виднейших обновленцев о том, что «эмиграция – это антиобщественная затея консерваторов, которые, не желая подчиняться обновленчеству, стремятся пробраться в Монголию, где думают привольно жить по-старому. Вообще деятельность консерваторов за последнее время слишком далеко заходит, она носит не только антиобновленческий, но и антисоветский характер. Власть слишком мягко относится к ним». С удовлетворением обновленцы отмечали случаи, когда в ходе борьбы с незаконной эмиграцией десятки лам-консерваторов попадали в советские тюрьмы9.
Между тем степень «контрреволюционности» противников реформ в буддийской Сангхе нельзя переоценивать. Как явствует из документов ОГПУ, многие консерваторы, опровергая обвинения в контрреволюционности, пытались доказать, что представители обновленчества ничуть не более лояльны советской власти, чем они сами. В докладе о состоянии ламства Бурят-Монгольской республики за 1929 г. отмечается, что «консерваторы и обновленцы в ряде дацанов подают местным властям донесения и жалобы друг на друга, изобличая каждый из них проделки своих противников». Например, во время хлебозаготовок консерваторы написали донос о наличии хлебных запасов у обновленцев. Узнав, что по инициативе А. Доржиева обновленцы собрались провести силами четырёх дацанов совместное богослужение – хурал «чойро», консерваторы сообщили представителю местной власти о том, что «обновленцы устраивают нелегальное собрание. Участвуют подозрительные личности». Явившийся в намеченное время участковый милиционер задержал двух лам, объявив, что они «устраивают объединённое богослужение незаконно, не имея на это соответствующего разрешения». Собравшиеся обновленческие священнослужители были вынуждены разъехаться по своим дацанам, что ОГПУ восприняло с удовлетворением. Также не могли не порадовать представителей власти распространявшиеся консерваторами слухи с обвинениями обновленческих священников в разврате10.
Среди других тактических приёмов православных обновленцев, использованных Доржиевым и его последователями, стало создание образа обновленческого движения как родственного коммунистической идеологии. Ф. Л. Синицын отметил, что почва для возникновения идей о родстве коммунистической идеологии с религиями, в том числе буддизмом, была подготовлена в русской религиозной философии11. А. И. Введенский и другие противники «тихоновщины» подчёркивали свою приверженность идеям социального прогресса.
Буддийские обновленцы также отмечали черты сходства, якобы имеющиеся между буддизмом и марксизмом: отрицание идеи Бога, бессмертия души, статуса Бога или пророка у Будды, борьба за счастье людей, их равенство и прогресс. Буддийские обновленцы пытались организовать выставки, демонстрирующие «атеистический характер» буддизма, указывали на созвучие «Майтреи» и «материи», доказывали, что Будда «проповедовал теорию атомов», чему «сейчас все учёные Европы удивляются и восхищаются». Гурумы (используемые в традиционной буддийской медицине фигурки из хлеба) начинали печь в форме пятиконечной звезды или серпа и молота12. Некоторые буддийские священники-обновленцы отмечали годовщину Октябрьской революции, переименовывали в честь этого события свои дацаны, устраивали в «революционные дни» молебны и «митинги», организовывали пожертвование денег в пользу советских школ, украшали молитвенные здания красными флагами. В одном бурятском дацане здание канцелярии было переоборудовано «по-советски»: на стенах разместили портреты вождей революции А. И. Рыкова и М. И. Калинина, плакаты («Боритесь с ламством!», «Все на борьбу с ламством и шаманством!» и др.). В ответ на вопрос, зачем это, буддийские священники отвечали: «Так надо, теперь не николаевское время». Представители власти считали, что бороться с подобного рода явлениями им «невыгодно»13.
Местные работники ОГПУ также фиксировали высказывания, иллюстрирующие склонность «отождествлять буддизм с ленинизмом и марксизмом». «Высокопоставленные учёные в Ленинграде изучают буддизм, все они приняли буддийскую религию, потому что разницы между буддизмом и ленинизмом нет. В Ленинграде организован буддологический институт, который будет заниматься распространением буддизма во всех странах». Как отмечают работники органов безопасности, ключевую роль в распространении такого рода идей играли проповеди Доржиева. В докладе по буддийскому духовенству в Бурят-Монгольской республике по состоянию на 1 января 1929 г. приводится цитата из речи лидера обновленцев, заявившего, что «большой разницы между буддизмом и ленинизмом нет. Будда, Маркс и Ленин были поистине гениальными людьми. Все они проповедовали идею защиты угнетённых и обездоленных. Маркс и Ленин, изучив происхождение европейских религий, установили, что “бога” нет. Это совершенно правильно. Если бы они изучили буддизм, то они бы согласились с ним, ибо по буддизму нет бога, а есть “бурхан”. Наши коммунисты, комсомольцы и “безбожники” ничего не знают и потому выступают против буддийской религии, они путают “бога” с “бурханом”. С безбожниками нужно вести решительную борьбу»14. Однако обновленческая идея родства буддизма и марксизма опровергалась одновременно ламами-консерваторами и «воинствующими безбожниками»15.
Подобно православным обновленцам, последователи Доржиева настаивали на своей большей демократичности. Так, на съезде калмыцкого духовенства 19 июля 1923 г. обсуждался проект изменений в системе управления Сангхой. Обновленцы предложили передать права на принятие решений общему собранию духовенства и мирян, которое должно утверждать приходно-расходную смету хурульных касс, привлекать к ответственности членов собрания. Предполагалось, что миряне и низшее духовенство получат право «вмешиваться в дела хурула, проверять его деятельность, в том числе и финансовую»16. Однако попытки демократизировать систему управления Сангхой вызывали тревогу у представителей органов безопасности, поскольку, как показывал опыт реформирования системы управления в православной Церкви, это могло привести к усилению позиций религиозной общины17. Работники Восточного отдела ОГПУ поставили задачу «осторожно побудить самих обновленцев провести отрыв мирян от духовенства», отстранить их «от управления духовными делами», что и было успешно реализовано18.
Следует отметить ещё одну линию сходства между обновленческим движением в православии и буддизме. И там, и там основная масса верующих мирян не поддержала реформаторов. В число буддистов-консерваторов входили, как правило, более авторитетные и старшие по возрасту священнослужители, в отличие от обновленцев не связанные обязательством воздерживаться от демократизации в низших органах управления общиной. Поддерживающие консерваторов верующие создавали хидсоветы, которые представляли альтернативу обновленческим органам власти, либо входили в обновленческие советы и «взрывали их изнутри». Борьба мирян с обновленцами часто принимала агрессивные формы: поджигали их дома и дуганы (молитвенные здания), избивали представителей «реформаторского крыла» буддийской общины, совершали покушения на их жизнь. Так, сторонниками консерваторов был убит один из лидеров обновленцев в Агинском дацане Ш. Дугаржапов. По словам работников органов безопасности, для того чтобы натравить верующих на обновленцев, консервативные ламы начали распространять слухи о том, что те якобы занимаются «хадхой» – «террористическими заклятиями». Именно на колдовство списывались случаи смертей и заболеваний среди противников реформ19.
Разгоравшаяся внутри Сангхи «война слухов», без сомнения, играла на руку атеистам, давала им бесценный материал, который можно было использовать в агитации против буддизма в целом. В ответ на слухи, распространявшиеся консерваторами, обновленцы обвиняли тех в разврате, спекуляции, контрабанде и незаконном переходе через границу20. Но главным пунктом обвинения против лам-консерваторов была, конечно, их контрреволюционность. Особенную тревогу у представителей власти вызывали буддийские священники на территории Бурят-Монгольской республики. Она находилась близко к границе, что облегчало контакты с буддистами Монголии, Тибета и Китая. В числе наиболее частых контрреволюционных деяний лам-консерваторов называлась агитация среди местного населения за переселение за пределы страны. Как отмечали руководители ОГПУ Бурят-Монгольской республики, причиной призывов эмигрировать стали передача всех дуганов обновленцам и «перегибы» в обложении налогами. Преследование религии оказалось одним из основных доводов в пользу переселения21.
Несколько иная ситуация сложилась в Калмыкии, духовенство которой не было связано «догматическими положениями», делающими невозможным участие мирян в духовных делах. Лидер обновленцев Калмыкии Ш. Тепкин старался усилить своё влияние среди верующих, которые активно вовлекались в работу как местных, так и центральных органов управления религиозной общиной. Причиной недовольства мирян стало в числе прочего стремление калмыцких обновленцев к укрупнению хурулов. Количество буддийских монастырей благодаря усилиям реформаторов к 1926 г. сократилось с 76 до 40. Это, как считали обновленцы, помогало «качественно улучшить духовенство» и «расширить сеть школ при укрупнённых хурулах». Вместе с тем объединённые хурулы предполагалось передать обновленческим общинам, тем самым нанеся удар по консерваторам. Однако миряне в этом вопросе также оказались на стороне противников реформ, поскольку сокращение количества монастырей привело к увеличению расстояния до них, которое верующим необходимо было преодолевать. Их недовольство проявилось как в возбуждении ходатайств перед советской властью, так и в открытых выступлениях против обновленцев. В результате процесс укрупнения хурулов приостановился, и к началу 1927 г. их количество в Калмыкии возросло до 4722.
С конца 1925 г. характер взаимоотношений между советской властью и буддийскими общинами претерпевал радикальные изменения, прежде всего по вопросу о религиозном образовании несовершеннолетних. В предшествующий период, когда происходило уничтожение системы образования для верующих христиан, религиозное просвещение среди буддистов Бурятии продолжало функционировать. В Анинском дацане в 1920-х гг. продолжала работать школа «Шойра», в которой преподавались основы буддийской философии, а число учащихся доходило до 400 человек. Кроме неё существовала «кочующая школа» «Шуд», которая перемещалась между пятью дацанами. Велось обучение буддийским дисциплинам и на дому.
С середины 1920-х гг. власть начала предпринимать меры, направленные на искоренение религиозного просвещения юных буддистов. В Калмыкии запрет на принятие в манджики (послушники) детей до 18 лет приняли ещё в 1923 г., в то время как в Бурятии запрет на принятие в хувараки (послушники) несовершеннолетних был введён в декабре 1927 г.23 Этот запрет вызвал возмущение верующих, которые старались найти способы его обойти, обучая детей без принятия их в дацан на постоянное жительство или укрывая послушников в монастырях24.
По вопросу о преподавании основ веры детям на компромисс с властью оказались не готовы пойти даже многие влиятельные обновленцы. Как отмечалось в обзоре Восточного отдела ОГПУ о деятельности буддийского духовенства СССР, Доржиев не хотел «открыто идти против советской власти», однако, не возражая против установленной властью возрастной нормы, добивался права обучения детей в религиозных школах в свободное время25. Как он писал в своём «Заявлении» на имя Г. В. Чичерина в апреле 1925 г., этот запрет «подрывает коренную основу нашей религии», превращая свободу вероисповедания «в простую фикцию». Лидер буддийских обновленцев отметил, что советское законодательство в результате оказалось ещё более ограничивающим свободу вероисповедания буддистов, чем драконовское «старое царское законодательство»26.
Властям удавалось постепенно обнаруживать случаи нарушения запрета на преподавание вероучения детям. Нарушителей (в Бурятии – по крайней мере с 1927 г.) привлекали к уголовной ответственности27. Не менее жёсткие меры принимались против преподавания основ вероучения детям в Калмыкии. В результате к 1937 г. в хурулах Калмыцкой АССР не осталось ни одного манджика28. Как подчеркнула Е. Н. Бадмаева, результатом антирелигиозной политики советской власти стало уничтожение системы воспроизводства буддийского знания и его лучших носителей29.
Чрезвычайно действенным способом разрушить влияние буддийской Сангхи в обществе были удары по экономической базе «ламства», в частности, по тибетской медицине. Организованная Доржиевым работа по её популяризации вызывала противодействие представителей центральной и местной власти. В отдельных сомонах имели место «попытки лекарей заручиться общественным приговором о необходимости тибетской медицины». Недовольство верующих вызвал запрет на созыв совещания медиков в Ацагатском дацане Бурятии. Доржиев направил тибетского медика Ендонова в Москву с заявлениями верующих-пациентов о необходимости тибетской медицины «с громадным количеством подписей»3030.
Как отмечал глава буддийских обновленцев, с 1931 г. со стороны местных властей наблюдалось стремление «всеми возможными мерами добиться прекращения деятельности Ацагатской медицинской школы». Начались аресты и высылки наиболее квалифицированных врачей. Учебные заведения и обучающиеся в них облагались непосильными налогами. Заработанные врачами суммы присваивал Ацагатский сомон, производивший изъятие денег «без всяких квитанций или каких бы то ни было других документов», также «без всяких оговорок» изымались строительные материалы. Всё это привело к резкому сокращению числа лекарей – представителей тибетской медицины. Если в середине 1920-х гг. их насчитывалось 300 человек, то к 1931 г. – около 200, а через год во всей Бурятии работники ОГПУ зафиксировали не более 40 лекарей. Согласно отчёту местных работников ОГПУ, «качественный состав лекарей снизился, с одной стороны, ввиду изъятия по разным к[онтрреволюционным] делам наиболее авторитетных медиков, с другой – вследствие почти полного отсутствия подготовки новых кадров»31.
Налоговый нажим и изъятия имущества привели к подрыву материальной базы тибетской медицины. Склады лекарств были истощены, поступления новых запасов пресекались. Пытаясь предотвратить уничтожение дацана, Доржиев ссылался на то, что «в настоящее время Ленинградский институт экспериментальной медицины занялся всесторонним изучением тибетской медицинской науки, и исчезновение живого центра этой науки отразится в высшей степени отрицательно на его работах», сделав невозможным слияние «всего лучшего и наиболее полезного в обеих медицинах». Доржиев попытался даже передать Всероссийскому институту экспериментальной медицины постройки Ацагатского аршана, однако в начале 1932 г. там «была вскрыта серьёзная контрреволюционная группа», и «аршан был окончательно ликвидирован как лечебное учреждение». На территории монастыря оставалось 4–5 лам, среди которых не оказалось ни одного лекаря. Местным органам власти оставалось лишь документально оформить его ликвидацию32.
Уничтожение Ацагатского аршана было лишь одним из многочисленных фактов «экономического удушения» буддийских общин. Как отмечал Доржиев в записке на имя председателя Особой комиссии по делам культов при ВЦИК П. Г. Смидовича, непосильный налог возлагался «на всех духовных лиц независимо от наличия дохода». Если кто-то не имел возможности его уплатить, то распродавалось за бесценок «всё имущество до постели и жилища включительно», и люди превращались в нищих. Например, новое деревянное летнее жилище продавалось за 5 руб.33 В 1932 г. минимальный налог, которым облагались ламы в Бурятии, составил 100 руб. Тех, кто считался имущими, облагали налогами в 600–700 руб., после чего сажали в тюрьму и ссылали. Буддийский священник Д. Гелегов в 1933 г. писал Доржиеву: «Если возложат такой же налог, как и в прошлом году, то мудрено будет остаться живым»34.
К денежным сборам добавлялись другие повинности. Лиц духовного звания отправляли на принудительные работы по починке дорог, лесозаготовки и т. д. Этой повинности подлежали буддийские священники возрастом до 35, а в некоторых районах – до 55 и даже 66 лет. Срок работы устанавливался в 6–7 суток, но в действительности отработка длилась в течение месяца и дольше, при этом ни денег, ни продовольствия не выдавалось. Как отмечал в своей жалобе Доржиев, «если ламам кто-нибудь из близких приносит пищу, то таких лиц облагают штрафом, исключают из совхозов, колхозов и артелей и посылают по миру». Мучимые голодом ламы были вынуждены собирать упавшие колосья, за что их обвиняли в воровстве, взимали штрафы, сажали на несколько дней в тюрьмы или прибавляли несколько дней принудительных работ35.
На глав монастырей (хурулов) в Калмыкии, кроме подоходного налога и самообложения, налагался ещё «культсбор» и прочие денежные повинности, общая сумма которых составляла 1 660 руб. Кроме денежного сбора, составлявшего как минимум 100 руб., на всех духовных лиц (без учёта их имущественного состояния) возлагалось обязательство заготовить несколько сотен крысиных шкур и 92 кг мяса. Как отмечал Доржиев, в 1933 г. «в Большом хуруле отбирают храмовые здания и жилища духовных лиц, а последних изгоняют. В иных хурулах выселяют духовных лиц, отбирая помещения для совхозов и колхозов»36.
Налог с земельной площади, занимаемой дацаном и жилыми строениями, назначался минимум в 40–50 руб., но доходил и до тысячи. На территории дацанов размещались части Красной армии или совхозы, реквизировавшие у лам необходимые им помещения. Красноармейцы вторгались в храмы и ксилографические печатни, выносили оттуда доски с вырезанными для печати текстами и топили ими печи37. Доржиев писал Смидовичу, что «преследования духовенства… сопровождаются варварским уничтожением больших культурных ценностей: тибетские и монгольские ксилографические издания и рукописи, содержащие редчайший литературный и научный материалы, употребляются в качестве курительной бумаги, типографские доски (с вырезанными на них текстами) идут и на дрова и т. п.»38. В Тункинском аймаке в ходе отчуждения монастырского имущества, «разобрав и разломав находящиеся снаружи дацана хурдо (вращающиеся деревянные цилиндры с заключенными в них текстами), пришельцы вытащили тексты и употребили их на папиросную бумагу»39.
Все эти меры привели к резкому сокращению буддийских священнослужителей. Как отмечал Доржиев, «число лам в отдельных дацанах сократилось до минимума – до 1–2 человек»40. Даже те священники, которые не отреклись от сана, после изъятия у них жилищ были «по большей части превращены в нищих», вынуждены искать средства к существованию «в казённой работе в аймаке или по выделке кирпичей». Лишившись построенных собственными руками жилищ, они, по словам З. Чойнхорова, «бродят по разным местам и в поисках работы»41.
Если в 1920-х гг. острие репрессий было направлено главным образом на противников обновленцев, то в 1930-х гг. массовые аресты затронули уже представителей всех направлений. В качестве примера репрессий против обновленческого духовенства можно привести ликвидацию «повстанческой» контрреволюционной группы буддийского духовенства «Хамбо» в Калмыцкой АССР. Среди арестованных по данному делу (31 человек) 13 «специально ездили в Ленинград для встречи с Хамбо Агван Доржиевым». Причём Г. Яшкулов, Ц. Санджиев и Д. Дамбаев «ездили туда по 3–4 раза»42.
В условиях гонений на буддийские общины всё более очевидной становилась необходимость прекращения внутренних разногласий. Начиная, по крайней мере, с 1929 г. обновленцы предпринимали попытки примириться со своими оппонентами – противниками реформ в Сангхе43. Так, в Цогольском дацане, к неудовольствию работников ОГПУ, «обновленческая часть ламства быстро сменила свои вехи и в 1929 году окончательно консолидировалась с реакционной частью и стала на прямой открытый путь борьбы с соввластью»44. К 1933 г. необходимость объединения усилий представителей всех направлений буддизма осознали и лидеры обновленчества. Доржиев присылал из Ленинграда курьеров в Цугольский, Анинский, Янгажинский, Агинский, Гусиноозерский, Кыренский дацаны. Они передали бурятским буддистам «директиву об объединении всех сил, ликвидации внутренних раздоров и сохранении единства ламства». Кроме того, в директиве указывалось на невозможность «открытых методов противодействия соввласти»45. Для многих деятелей буддийской Сангхи целесообразность существования того или иного течения могла оправдываться не столько принципиальными соображениями, сколько политической конъюнктурой, желанием сохранить существование религиозной общины в советском обществе. Одной из причин отказа от противостояния с консерваторами можно назвать то, что обновленцы разочаровались в реформаторстве как способе задобрить советскую власть и окончательно поняли, что мирное сосуществование с ней невозможно.
После отказа власти от политики «религиозного нэпа» среди буддийских священников появилось понимание, что перед лицом надвигающейся опасности нужно забыть о своих разногласиях и перестать заигрывать со своим врагом. Тревога по поводу дальнейшей судьбы Сангхи и стремление защитить её побудила Доржиева отправиться в поездку по районам Бурятии, в ходе которой он обращался к верующим и выступал с открытым осуждением «коммунистов, комсомольцев и безбожников», которые незаконно преследуют и притесняют религию. Эти проповеди вызывали горячий отклик, на них «собиралось значительное количество верующих, которые приносили ему разные приношения». Особое возмущение у сотрудников органов безопасности вызывал тот факт, что стремление посетить проповедь Доржиева срывало назначенные на то же время общественные собрания. Лидер обновленцев собирал «компрометирующие» материалы на неправильные действия местных советских органов по отношению к ламству. Доржиев использовал их для составления жалобы во ВЦИК. В ней он просил Смидовича по примеру Монголии войти «в положение верующих буддистов Бурято-Монголии и Калмыцкой области, чтобы дать им пока возможность спокойного существования, не разрушая насильственно в корне их старых обычаев, к которым они привыкли в течение многих сотен лет». Действия Доржиева, по оценке работников ОГПУ, являлись «объективно антисоветскими», заставив их начать искать способ «сократить гастролирование Доржиева»46. В дальнейшем чрезмерная активность лидера обновленцев привела к его аресту и смерти в заключении.
Агентурные сведения о «контрреволюционной» деятельности Доржиева, в том числе в связи с имевшими место в Бурятии восстаниями, начали собирать уже в конце 1920-х гг.47 Работники ОГПУ использовали агента под условным именем «Мурин», который от лица бурятских буддистов приезжал к Доржиеву в Ленинград и был им послан нелегально в качестве эмиссара в Тибет к далай-ламе и в Китай к Банчен-Богдо. В переданных с «Муриным» письмах лидер обновленцев пытался выступить в качестве посредника между враждующими духовными лидерами буддистов. Авторы информационного документа особо отмечают, что Доржиев просил «Мурина» информировать устно Банчен-Богдо, что «дальнейшая судьба ламства и ламаизма в СССР зависит от него». «Мурин» после «всестороннего и обстоятельного инструктажа» был переброшен в Монголию, как «завербованная рабочая сила, согласно санкции Особого отдела ОГПУ»48.
Возможно, что под именем «Мурин» скрывался некий священник Чапчаев, подробная запись беседы с которым была зафиксирована в одном из информационных документов: далай-лама подробно расспрашивал его о происходивших в СССР гонениях на буддизм, предлагал связаться с Чичериным с просьбой прекратить их, а также выражал обеспокоенность тем, что Доржиев стал «русским человеком», «живёт в Москве, а не в монастыре» и «одевается по-европейски». В качестве возможного преемника постаревшего лидера обновленцев далай-лама называл Ш. Тепкина49.
Власть всячески противодействовала Доржиеву в его борьбе за сохранение Сангхи. В 1930 г. «фактически был ликвидирован» бурятский Центральный духовный совет. После этого «непосредственное руководство стало осуществляться Агван-Доржиевым и его заместителем Норбоевым Данзан». Управлять делами общины лидеры буддийских обновленцев были вынуждены нелегально. Они, по словам авторов информационного документа, всеми силами стремились «устранить какие бы то ни было подозрения о своих связях с дацанами в БМ АССР». Эту конспирацию сотрудники ОГПУ связывали с ликвидацией «контрреволюционных повстанческих организаций в Селенгинском, Закаменском, Кяхтинском аймаках»50.
Сторонники Доржиева в Калмыкии также обвинялись в участии в контрреволюционных выступлениях, как это произошло, например, в 1934 г. с членами «повстанческой группы» «Хамбо». В числе арестованных по делу оказались настоятели буддийских монастырей (бакши), носители высших духовных званий (харамбо и доромбо), а также лица, побывавшие прежде в Тибете, Китае, Монголии и Бурят-Монголии. Работники ОГПУ отмечали, что «данная контрреволюционная группа образовалась на основе общности классовых интересов и антисоветских взглядов буддийского духовенства по заданию проживающего в Ленинграде неофициального представителя Тибета Хамбо Агван Доржиева». Последний назван «известным японофилом и панмонголистом, являющимся на протяжении ряда последних лет идейным вдохновителем контрреволюционного движения буддуховенства в Калмыкии и Бурят-Монголии». Арестованные по делу «Хамбо» регулярно посещали Доржиева в Ленинграде и информировали его «в контрреволюционном духе о жизни буддуховенства и населения, получали установки о контрреволюционной работе на местах. По возвращении в Калмыкию они по указаниям Хамбо сгруппировали вокруг себя гелюнгов и кулацко-националистические элементы из числа верующих, в частности председателей хурульных советов, развёртывали широкую антисоветскую агитацию, используя каждый удобный момент, как, например: массовое богослужение в хурулах и др[угие] сборища верующих. В отдельных хурулах (Гахатинский, Ики-Багутовский и др.) устраивались специальные моления “Сахюза”, “Майдри” с лозунгами “за наступление хорошего времени, за процветание религии, за победу над врагами религии” и т. д. с привлечением значительного количества верующих (300–400 чел[овек]). Во время или после окончания таких молений гелюнги обрабатывали верующих по одиночкам или группами в контрреволюционном духе»51.
Как отмечали работники ОГПУ, «Хамбо» делали основной упор на «привитие в массах сознания о неизбежности гибели соввласти в связи с предстоящей войной между Японией и СССР». Согласно показаниям арестованного Бады Балмаева, агитаторы предсказывали, что «японцы скоро объявят войну СССР, свергнут советский строй, восстановят старую власть, и тогда наступит хорошая жизнь для духовенства и верующих, так как японцы проповедуют буддийскую религию, они будут защищать буддистов». В целях агитации буддийскими священниками использовался «Зарлик» (сочинение) одного из старинных буддийских святых, где говорилось «о наступлении хорошей жизни для буддистов» в год «Красной мыши» (по буддийскому летоисчислению – 1936 г.). Согласно донесениям ОГПУ, священники сообщали Доржиеву о положении буддийского духовенства в Калмыкии, политическом и экономическом положении в регионе. Эти сведения использовались им для составления жалоб в Москву на «незаконные действия местных властей, гонения буддийской религии, преследования духовенства» на местах. Кроме того, эти сведения он передавал тибетскому послу в Монголии. В Ленинграде в связи с указанным делом в 1934 г. был арестован бурятский гелюнг Чагдыр Эрдниев, который обеспечивал связь между Доржиевым и участниками «повстанческой группы»52.
Архивные документы позволяют проследить эволюцию взглядов лидера обновленцев, приведшие его к столкновению с недавним союзником. В них зафиксировано содержание бесед Доржиева с «рядом близких к нему лиц по вопросам текущей политики партии и советской власти». Как докладывали сотрудники органов безопасности, он «неоднократно отмечал, что партия и власть в последнее время искажает заветы Ленина», который, по его словам, был «поистине гениальным человеком и оставил гениальные заветы, которые, к сожалению, не выполняются его последователями – последователями в кавычках. Наступает тяжёлое время. Молодёжь начинает играть руководящую роль в государстве. Старые работники – соработники Ленина начинают оставаться за бортом. Неопытная молодёжь управляет вовсю, проводит резкую политику. Притесняют крестьян и особенно верующих. Особенную активность проявляют молодые бурятские работники, которые объявили войну против ламства. Такая резкая политика чревата опасностью для самой партии, ибо это может подорвать авторитет её среди масс. В результате такой резкой политики получится взрыв негодования масс. Что будет в дальнейшем – покажет будущее»53.
Внимание сотрудников ОГПУ также привлекло сообщение прибывшего из Тибета ламы Гатапова, которое дало «основание полагать, что Доржиев продолжает пользоваться большим авторитетом у далай-ламы». Как отмечал Гатапов, «далай-лама высоко ценит и уважает Доржиева, считая его человеком, который сыграл решающую роль в истории Тибета, когда Англия проявляла по отношению к Тибету большую агрессивность». По мнению духовного лидера буддистов, именно благодаря Доржиеву Тибет сохранил свою самостоятельность54. Проблема заключалась в том, что в связи с изменившейся внешнеполитической ситуацией хорошие отношения с лидером Тибета перестали быть преимуществом Доржиева в глазах представителей советской власти.
Таким образом, как показало исследование, само понятие «золотого века буддизма» носит весьма условный характер и связано с заявлениями лидеров буддийского обновленчества о возможности «сотрудничества» между «близкими по духу» буддизмом и большевизмом. Попытки буддистов доказать свою лояльность и сохранить свою самобытность были изначально обречены на провал. Власть стремилась к интеграции коренного населения Бурятии и Калмыкии в советское общество, что подразумевало отказ от «религиозных предрассудков» и буддийской идентичности. Отношения между обновленческим буддийским духовенством и советской властью в 1917–1925 гг. можно описать скорее не как «золотой век» или «медовый месяц», а как отношения симбиоза, когда каждая из сторон пытается использовать другую в своих интересах.
1 © 2024 г. А. В. Сипейкин
Бухарин М. Д. К истории изучения буддийского искусства в СССР в 1920-е гг. // Музей. Памятник. Наследие. 2022. Вып. 1(11). С. 86; Дамдинов А. В. Агван Доржиев в обновленческом движении бурятского буддийского духовенства // Бурятский буддизм: история и идеология. Улан-Удэ, 1997. С. 81.
2 Басхаев А. Н. Буддийская церковь Калмыкии: 1900–1943 гг. Элиста, 2007. С. 90, 119–120.
3 Дорджиева Г. Ш. Репрессированное духовенство Калмыкии. Элиста, 2014. С. 14; Синицын Ф. Л. «Красная буря». Советское государство и буддизм в 1917–1946 гг. СПб., 2013. С. 37; Цыремпилова И. С. Обновленческое движение в буддизме на территории этнической Бурятии как социокультурное явление в 1920-е гг. // Известия Иркутского государственного университета. Сер. История. 2014. Т. 9. С. 68.
4 Цыремпилов Н. Сангха в период упадка. Реакции российских буддистов на Русскую революцию и Гражданскую войну // Государство. Религия. Церковь. 2019. № 1/2(37). С. 347–370.
5 Герасимова К. М. Обновленческое движение бурятского ламаистского духовенства (1917–1930 гг.). Улан-Удэ, 1964.
6 Амоголонова Д. Д. Буддизм и политическая идентичность бурят в начале ХХ в. // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 421. С. 61.
7 Цыремпилова И. С. Обновленческое движение в буддизме… С. 70.
8 Басхаев А. Н. Буддийская церковь Калмыкии… С. 115.
9 ЦА ФСБ России, ф. 2, оп. 7, д. 412, л. 45, 65.
10 Там же, л. 64–65, 68.
11 Синицын Ф.Л. К истории возникновения теории общности буддийского учения и коммунистической идеологии // Вопросы философии. 2012. № 6. С. 107.
12 Там же. С. 108, 112; Цыремпилов Н. Сангха в период упадка… С. 362.
13 ЦА ФСБ России, ф. 2, оп. 7, д. 412, л. 13–14, 25.
14 Там же, л. 13–14.
15 Синицын Ф.Л. К истории возникновения… С. 108, 112; Цыремпилов Н. Сангха в период упадка… С. 362.
16 Басхаев А. Н. Буддийская церковь Калмыкии… С. 103.
17 Freeze G. L. Counter-reformation in Russian Orthodoxy: Popular Response to Religion Innovation, 1922–1925 // Slavic Review. Vol. 54. № 2 (Summer 1995). P. 338.
18 ЦА ФСБ России, ф. 2, оп. 5, д. 331, л. 3.
19 Там же, л. 6–7; оп. 7, д. 412, л. 41.
20 Там же, оп. 7, д. 412, л. 7.
21 Там же, л. 9, 21–22.
22 Там же, оп. 5, д. 331, л. 10–11.
23 Дорджиева Г. Ш. Репрессированное духовенство Калмыкии. С. 11; Синицын Ф. Л. «Красная буря»… С. 170.
24 Синицын Ф.Л. «Красная буря»… С. 175.
25 ЦА ФСБ России, ф. 2, оп. 5, д. 331, л. 4.
26 Басхаев А. Н. Буддийская церковь Калмыкии… С. 111.
27 ЦА ФСБ России, ф. 2, оп. 7, д. 412, л. 19.
28 Басхаев А. Н. Буддийская церковь Калмыкии… С. 174.
29 Badmaeva E. The accelerated «settlement of the religious question» by the Bolshevik party and soviet state apparatus in Kalmykia (1917–1924) // Новый исторический вестник. 2017. № 3(53). С. 126–127.
30 ЦА ФСБ России, ф. 2, оп. 7, д. 412, л. 47.
31 Там же, оп. 11, д. 1509, л. 101.
32 Там же, л. 38–41, 100–101.
33 Там же, л. 34, 45.
34 Там же, л. 34, 45–46.
35 Там же, л. 34, 45.
36 Там же, л. 36.
37 Там же, л. 45–46.
38 Там же, л. 35
39 Там же, л. 47.
40 Там же, л. 43.
41 Там же, л. 47.
42 Там же, ф. 3, оп. 2, д. 748, л. 2–3.
43 Там же, ф. 2, оп. 7, д. 412, л. 12.
44 Там же, оп. 11, д. 1509, л. 81.
45 Там же, л. 99.
46 Там же, оп. 7, д. 412, л. 23–24; оп. 11, д. 1509, л. 27–28.
47 Там же, оп. 7, д. 412, л. 73.
48 Там же, оп. 11, д. 1509, л. 28–29.
49 РГАСПИ, ф. 89, оп. 4, д. 162, л. 142–144.
50 ЦА ФСБ России, ф. 2, оп. 11, д. 1509, л. 99.
51 Там же, ф. 3, оп. 2, д. 748, л. 2–4.
52 Там же.
53 Там же, л. 4.
54 Там же, ф. 2, оп. 7, д. 412, л. 46.
About the authors
Alexander Sipeykin
Moscow University of Industry and Finance «Synergy»
Author for correspondence.
Email: info@rcsi.science
кандидат исторических наук, доцент
Russian Federation, MoscowReferences
Supplementary files