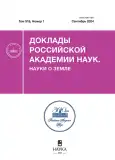Indicator role of rare alkalines (Li, Rb, Cs) in waters of the Baikal ecosystem (Russia)
- Authors: Grebenshchikova V.I.1, Kuzmin M.I.2
-
Affiliations:
- Vinogradov Institute of Geochemistry, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences
- aVinogradov Institute of Geochemistry, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 518, No 1 (2024)
- Pages: 57-66
- Section: GEOCHEMISTRY
- Submitted: 20.01.2025
- Accepted: 20.01.2025
- Published: 15.09.2024
- URL: https://bakhtiniada.ru/2686-7397/article/view/277474
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2686739724090067
- ID: 277474
Cite item
Full Text
Abstract
The distribution of rare alkalis (Li, Rb, Cs) in water bodies of the Baikal ecosystem (Baikal water, tributaries, groundwater from wells, springs, thermal springs and the only flow – the Angara River) located in the Baikal rift zone has been analysed. Significant differences in the concentrations of rare alkalis in some water bodies, but close mean and median values of their concentrations in the surface and deep water of Baikal and its flow – the Angara River – have been established. The water of Barguzin thermal springs on the eastern shore of Baikal contains maximum concentrations of rare alkalis, but has no significant influence on Baikal water due to its natural self-purification and deep water renewal during geodynamic movements. The established proximity of rare alkali concentrations in the Barguzin and some thermal springs of Kamchatka emphasises their indicator role in the genesis of water bodies.
Keywords
Full Text
Байкальская экосистема расположена в Байкальской рифтовой зоне (БРЗ), которая является активной до настоящего времени, что подтверждается частыми землетрясениями и геодинамическими подвижками [1].
Байкальская водная экосистема представлена сопряжёнными в пространстве водными объектами, доступными для изучения: поверхностной и глубинной водой озера Байкал, водой многочисленных притоков, скважин, родников, минеральных источников в береговой зоне и водой единственного стока — р. Ангары (рис. 1).
Рис. 1. Карта-схема отбора проб воды Байкальской экосистемы. Красным цветом показаны скважины, зелёным — минеральные источники, синий — пробы поверхностной и глубинной воды Байкала. Врезка на карте справа – место нахождения баргузинских термальных источников. Красный квадрат — Гаргинская гравитационная аномалия [5].
Озеро Байкал имеет всемирную известность, охраняется ЮНЕСКО и представляет большой интерес для исследователей разных стран. Уникальность Байкала заключается в наличии огромных запасов чистой питьевой воды, постоянстве и близости её химического состава по всему объёму озера, большой глубине (1642 м) и протяжённости озера (более 2000 км), наличию большого количества притоков (более 360), родников, горячих и холодных минеральных источников и единственного стока – р. Ангары.
В Прибайкалье интенсивно проявлена магматическая и вулканическая деятельность [2], её следы представлены разновозрастными породами от архея до кайнозоя, имеющими состав от основных до кислых и щелочных с различной геохимической и металлогенической специализацией, что, несомненно, оказывает влияние на химический состав притоков Байкала и, соответственно, на воду самого озера Байкал, сохраняя, тем не менее, её стабильное химическое состояние в последнее столетие [3].
С восточной стороны Байкала расположен Ангаро-Витимский гранитоидный батолит. По данным А.В. Травина и других [4], время консолидации гранитного расплава оценивается в диапазоне 320–290 млн лет и соответствует глубинным (>20 км) уровням магматической камеры. По полученным авторами данным время жизни остаточного расплава на глубинных уровнях может достигать 100 и более млн лет. Завершающая стадия тектонического экспонирования батолита к земной поверхности происходила от 60 млн лет до настоящего времени, отражая процесс зарождения и развития Байкальской рифтовой системы. Геофизические исследования [5] показали, что большая часть гранитоидного батолита может рассматриваться как единое пластообразное тело с несколькими утолщениями – магмаподводящими каналами или гравитационными аномалиями (Тельмамской и Гаргинской), уходящими на различную глубину – до 10–30 км (рис. 1). В районе Гаргинской аномалии Баргузинской впадины расположены многочисленные горячие минеральные источники (рис. 1, врезка), широко используемые в медицинских целях.
В результате мониторинговых исследований химического состава воды (2006–2022 гг.) Байкальской экосистемы были замечены и установлены особенности распределения некоторых редких элементов, например, ртути и урана [6, 7], что объяснялось приуроченностью Байкала к действующей рифтовой зоне. Поэтому стоит отметить ещё раз особенности глубинного строения Байкала и его окружения.
Байкал представлен тремя разноглубинными котловинами. Максимальная глубина отмечена в центральной впадине (1642 м). Вода вдоль берегов и в каждой котловине движется против часовой стрелки, отмечается подъём глубинной воды в пелагиальной зоне Байкала и опускание поверхностной воды в литоральных зонах (апвеллинг/даунвеллинг) [8]. За счёт последнего процесса происходит постоянное перемешивание и обновление воды Байкала. Кроме этого, предполагается возможное поступление глубинной воды при землетрясениях и геодинамических подвижках [9, 10], что также способствует постоянному обновлению воды Байкала.
Целью данной работы являлось сравнение и объяснение возможных причин значимых различий в распределении редких щелочных элементов (Li, Rb, Cs) в разных водных объектах Байкальской экосистемы. Интерес к этим элементам возник в результате химического анализа и установления различия их концентраций в сопряжённых в пространстве водных объектах Байкала.
Химический анализ воды Байкальской экосистемы проводился с использованием научного оборудования аккредитованного и сертифицированного аналитического центра “Изотопно-геохимические исследования” Института геохимии СО РАН [11]. Редкие щелочи (Li, Rb, Cs) и другие микроэлементы в воде определялись методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (MS-ICP) (ELEMENT 2, “Finnigan MAT”, Германия). Исследования микрокомпонентов Байкальской водной экосистемы продолжалось в мониторинговом режиме ежемесячно в 2006–2022 гг. только в истоке р. Ангары, в остальных объектах отбор проб осуществлялся в тёплое время года. Соответственно по различным водным объектам отобрано и проанализировано различное количество проб воды (табл. 1).
Таблица 1. Концентрации Li, Rb, Cs (мкг/л) в горячих источниках Камчатки (по Арсановой, 1974) и сопряженных водных объектах Байкальской экосистемы
Параметры | Источники Камчатки [12] | Источники Баргузинской впадины | Притоки Байкала | Приток Баргузин | Скважины | Байкал | Исток Ангары | Родники |
Кол-во проб | 14 | 12 | 225 | 9 | 21 | 141 | 193 | 10 |
Литий | ||||||||
Мин. | 5.0 | 5.4 | 0.09 | 1.31 | 0.22 | 1.14 | 0.13 | 1.19 |
Макс. | 760.0 | 243.0 | 12.17 | 3.61 | 6.43 | 7.48 | 3.13 | 3.45 |
Медиана | 225.0 | 81.5 | 1.23 | 1.80 | 2.77 | 1.93 | 2.08 | 1.52 |
Рубидий | ||||||||
Мин. | 2.0 | 7.6 | 0.04 | 0.50 | 0.05 | 0.14 | 0.44 | 0.03 |
Макс. | 60.0 | 84.0 | 3.2 | 1.74 | 4.3 | 1.0 | 3.08 | 0.49 |
Медиана | 20.00 | 20.12 | 0.58 | 1.11 | 0.24 | 0.56 | 0.59 | 0.37 |
Цезий | ||||||||
Мин. | 0.20 | 0.81 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0001 |
Макс. | 68.00 | 12.70 | 0.111 | 0.0058 | 0.063 | 0.018 | 0.031 | 0.020 |
Медиана | 7.5 | 4.04 | 0.0036 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0016 | 0.001 |
В большинстве водных объектах Байкальской экосистемы содержания редких щелочей не превышают их предельно допустимых значений для питьевой воды и воды рыбохозяйственных водоёмов. Исключением являются иногда повышенные концентрации лития в некоторых горячих источниках (>30 мкг/л), что сообщается посетителям и местному населению.
Анализ распределения редких щелочей выявил некоторые особенности и специфику их распределения в различных водных компонентах, что позволило рассмотреть и сравнить все изученные объекты и конкретно горячие минеральные источники Баргузинской впадины Прибайкалья с данными по термальным источникам другого региона – Камчатки [12].
Термальные источники Баргузинской впадины. Термальные источники вокруг Байкала широко используются в бальнеотерапевтической практике и обладают теплоэнергетическим потенциалом, как и в других регионах Прибайкалья. Баргузинские термальные источники имеют температуру 20–70°С, на глубине – более 100°С и относятся исследователями к азотному типу флюидных гидротерм. Анализ опубликованных данных по баргузинским источникам (Алгинский, Кучехирский, Умхейский, Гусихинский, Кулиндинский и др.) Байкальской экосистемы [13, 14] и собственной аналитической информации показал, что вода этих источников относительно пониженной минерализации, но в ней содержится повышенное содержание фтора (10–12 мг/л) и максимальное количество редких щелочей (табл. 1) по сравнению с другими изученными водными объектами Байкальской экосистемы.
Обзор опубликованных данных по термальным источникам Прибайкалья, показал, что повышенные содержания редких щелочей в термальных источниках и происхождение самих источников объясняются исследователями разными причинами: 1) взаимодействием водных растворов с гранитной магмой и выщелачиванием из неё редких щелочей [15], 2) формированием флюидных гидротерм в результате воздействия глубинных флюидно-гидротермальных магм вблизи границы Мохо и вынос их на поверхность в наиболее раздробленной части Баргузинской котловины. Е.В. Скляров и др. [16] считают, что проникающие из глубоких слоев в Баргузинской впадине Байкальского рифта флюидно-гидротермальные растворы способны доставлять на поверхность ювенильные растворы, обогащённые летучими, редкими щелочами и рудными элементами из водосодержащих слоёв Земли (астеносфера, граница Мохо). Рассказов С.В. и др. [10] по свинцово-изотопным данным предполагают, что вода термальных источников в Баргузинской долине, а также на Среднем и Северном Байкале может содержать компоненты нижнемантийных флюидов.
Полученные нами данные по баргузинским источникам были сопоставлены с водой некоторых камчатских источников. Г.И. Арсанова [12] выделяет на Камчатке три группы термальных источников, которые представляют: 1) действующие горячие гидротермы и гейзеры, 2) затухающие вулканогенно-гидротермальные системы и 3) остывающие гидротермы. Источником термальных вод на Камчатке она считает глубинные флюиды (ювенильные, граница Мохо) и полагает, что вода появляется во флюидном состоянии на глубине порядка ~15‒7 км при дифференциации глубинного магматического очага.
Анализ баргузинских термальных источников показал их сходство с третьей группой гидротерм Камчатки — “остывающих и растекающихся” (таблица 1). Концентрации Li в воде горячих источников Баргузинской впадины достигают максимальных значений и изменяется в пределах 3-х порядков: от 5.4 до 243 мкг/л, Rb — от 7.6 до 84.5 мкг/л, Cs — от 0.81 до 12.7 мкг/л. Полученные максимальные значения по Rb в баргузинских термах даже несколько выше, чем в “остывающих термах” Камчатки. Медианные концентрации Cs в баргузинских и камчатских термальных источниках находятся в пределах одного порядка значений (4.04 и 7.5 мкг/л).
Притоки Байкала. В многочисленных притоках Байкала, дренирующих разные по составу породы, в том числе, лейкограниты, редкометальные граниты и сиениты, содержания редких щелочей (Li, Rb, Cs) никогда не достигают максимальных значений, которые отмечены в воде баргузинских термальных источников, в том числе и в воде притока Баргузин, рядом с которым расположены рассмотренные термальные источники (таблица 1, рис. 2).
Рис. 2. Распределение редких щелочей в горячих источниках Камчатки [12] и в сопряжённых водных объектах Байкальской экосистемы (1 — горячие источники Камчатки, 2 — горячие источники Баргузинской впадины, 3 — устье р. Баргузин, 4 — устья других притоков Байкала, 5 — вода скважин, 6 — поверхностная и глубинная вода Байкала, 7 — исток р. Ангары, 8 — родники.
В притоках Байкала максимальные концентрации Li могут достигать 10–12 мкг/л. Это преимущественно притоки западного побережья Байкала (реки Рель, Анга, Бугульдейка, Б. Голоустная), где отмечаются выходы палеопротерозойских гранитоидов, содержащих редкометалльную минерализацию. При этом отчётливо видно, что повышение редких щелочей в воде устьев притоков чаще происходит осенью, когда обилие дождей приводит к интенсивному дренажу вмещающих пород и незначительному дополнительному поступлению не только редких щелочей, но и других подвижных элементов из гранитоидов, например, Be, F, Th, редкоземельных элементов.
В некоторые годы исследований редкие щелочи в относительно повышенных содержаниях отмечались в р. Селенга и в притоках южной части Байкала — реки Утулик, Переемная, Хара-Мурин, Солзан, но в основном это касалось концентраций Li и Cs.
Содержания Rb в притоках на порядок меньше Li, но Rb повышен в воде притоков именно западного побережья Байкала. Значения концентраций Cs в притоках очень низкие, часто на пределе обнаружения и различаются в пределах 3 порядков значений.
Вода устья притока Баргузин, в долине которого размещаются исследованные термальные источники, содержит средние концентрации редких щелочей и не выделяется среди других притоков Байкала (таблица 1), что вызывает удивление. Это может свидетельствовать о том, что процессы, происходящие после попадания (стекания) воды из термальных источников в реку Баргузин, приводят к быстрому перемешиванию воды и осаждению многих элементов в прибрежных осадках реки.
Вода из скважин в береговой зоне. В воде из скважин (глубина от 8 до 70 м) вокруг Байкала разброс данных по концентрациям Li меньше, чем в притоках и находится в пределах одного порядка значений. Однако его медианное значение больше, чем в притоках Байкала. Аналогично изменяются концентрации Rb и Cs, но их медианные значения также меньше (таблица 1). Повышенные значения редких щелочей (Li — 5–6 мкг/л, Rb – до 4.3 мкг/л, Cs — до 0.063 мкг/л) отмечены в скважинах на ЮВ-берегу Байкала в пос. Листвянка и на острове Ольхон, где вмещающими породами являются древние субщелочные гранитоиды и сиениты, что может свидетельствовать о том, что подземная вода в береговой зоне Байкала незначительно, но может насыщаться редкими щелочами за счёт дренирования пород, окружающих скважины, с относительно повышенными концентрациями этих элементов.
Поверхностная и глубинная вода Байкала. Анализ редких щелочей в поверхностной и глубинной воде Байкала выявил отсутствие резких различий в их концентрациях, что нашло отражение в удивительно компактных блок-диаграммах (большинство значений находится в пределах 25–75%) их распределения (рис. 2–4).
Рис. 3. Распределение лития (мкг/л) и урана (мкг/л) в поверхностной воде Байкала и в устьях притоков весной 2020 г. Красным пунктиром выделены повышенные содержания элементов в байкальской воде (пояснения в тексте).
Рис. 4. Распределение Li, Rb, Cs на поверхности и в глубинной воде Байкала осенью 2022 г.
Вода Байкала в литоральных зонах специально не отбиралась на анализ, т.к. влияние прибрежных поселков на воду Байкала известно уже давно. Однако за счёт особых горизонтальных и вертикальных течений в Байкале, за счёт нахождения в устьях рек геохимических барьеров происходящие изменения быстро нивелируются.
Изменение концентраций Li в воде от поверхности на глубину 1640 м менее стабильное, так как отбор проб воды происходит быстро и особенности её подъёма к поверхности в самой глубокой котловине Байкала показывают некоторые незначительные вариации изменения значений концентраций, в пределах 1.5–2 раза (рис. 4) за счёт апвеллинга глубинной воды. Ранее, кроме повышения Li в это же время (рис. 3) также отмечено увеличение в поверхностной воде Байкала концентраций урана [7], но уже более существенное – почти в 10 раз. При этом концентрации Rb и Cs были не повышены. Сопоставление полученной информации в разные годы исследований (2007–2022 гг.) показало, что такие изменения могут быть обусловлены сейсмическими подвижками в Байкальской рифтовой зоне, особенно заметными в 2020 и 2022 гг. (рис. 3).
Li, Rb и Cs в байкальской воде имеют более низкие концентрации и, соответственно, вариабельность в глубинной воде не отмечается или очень не значительная.
Таким образом, небольшое повышение содержаний редких щелочей весной и осенью в 2020 и 2022 гг. в поверхностной воде в южной пелагиальной части Байкала, вполне возможно, коррелируется с происходящими землетрясениями в это время года (рис. 3), но концентрации редких щелочей в воде Байкала фактически не изменяются.
Вода истока Ангары (сток Байкала). Вода в истоке Ангары не замерзает зимой, поэтому многолетний ежемесячный мониторинг воды позволил получить значительное количество данных по концентрациям Li, Rb, Cs (193 пробы, таблица) с 2006 по 2022 гг. Анализ воды р. Ангары показал, что Li изменяется в пределах одного порядка – 0.13–3.13 мкг/л. Для весны 2022 г. характерно максимальное значение Li – 3.13 мкг/л (рис. 5). Этот год характеризуется повышенным количеством землетрясений именно в южной части Байкальской водной экосистемы.
Рис. 5. Распределение ежемесячных концентраций Li, Rb, Cs в воде истока р. Ангары в 2006–2022 гг. Красные точки — годовые медианные значения элементов. В 2014–2016 гг. — перерыв в опробовании.
По всем редким щелочам в воде истока Ангары получены очень узкие и компактные поля распределения данных (рис. 2, 5). Медианы значений концентраций редких щелочей в воде истока фактически совпадают с аналогичными данными по воде Байкала, что подтверждает – вода Ангары отражает состав Байкала. Однако количество проб с минимальными концентрациями Li в воде истока больше, чем в воде Байкала (рис. 2). Концентрации Rb и Cs в повышенных количествах единичны, что было характерно и для распределения Li.
Вода родников в береговой зоне Байкала. Вода родников содержит минимальные концентрации редких щелочей по сравнению с другими водными объектами Байкальской экосистемы и близка к воде скважин (рис. 2, таблица 1). Максимум Li отмечен в роднике вблизи устья р. Баргузин – 3.45 мкг/л, что свидетельствует о повышении его концентраций в грунтовых водах за счёт поступления в них воды из устьевой части р. Баргузин.
Концентрации Li в воде других родников вокруг Байкала очень близкие, несмотря на разный состав дренируемых пород. Значения Rb в воде родников изменяются в пределах одного порядка. Содержания Cs вновь повышено в районе родника возле устья р. Усть-Баргузин. В остальных родниках его концентрации низкие.
Таким образом, выполненный сравнительный анализ распределения концентраций редких щелочей (Li, Rb, Cs) в воде сопряжённых компонентов Байкальской экосистемы показал их индикаторную роль и значимые различия в концентрациях. По всем редким щелочам в воде истока Ангары получены очень узкие и компактные поля распределения данных (рис. 2). Медианы значений концентраций редких щелочей в воде истока Ангары фактически совпадают с аналогичными данными по воде Байкала.
Отсутствие в окружающих гранитоидах Ангаро-Витимского батолита редкометалльных гранитов, а также субвулканических литий-фтористых пород свидетельствует о низких и средних концентрациях редких щелочей в гранитоидной магме батолита, что установлено ранее [17].
С помощью физико-химического моделирования (программа “Селектор”) [18] было продемонстрировано, что современные азотные термы не могут сформироваться в гранитоидах с низкими и средними концентрациями редких щелочей и фтора.
Установленная близость значений концентраций редких щелочей в баргузинских горячих источниках и некоторых современных термальных источниках Камчатки подчеркивает их индикаторную роль в генезисе водных объектов. Геохимические отличия водных объектов Прибайкалья могут свидетельствовать о длительном воздействии глубинного флюидно-гидротермального источника, обусловленного, возможно, Гаргинской гравитационной аномалией в районе действующих термальных источников, а также постоянными динамическими подвижками в Байкальской рифтовой зоне, поддерживающими их функционирование. Это подтверждается наличием в водной толще западного побережья Байкала вдоль Северобайкальского разлома следов действующих здесь ранее грязевых вулканов [19].
Таким образом, индикаторная роль редких щелочей в воде Байкальской экосистемы заключается в различии их концентраций в некоторых сопряжённых водных компонентах, а также в сходстве в других компонентах, что позволило высказать свои предположения об их источниках. Однозначно можно предполагать глубинный источник флюидных гидротерм в баргузинских термах по аналогии с камчатскими гидротермами. В устьях многочисленных притоков Байкала сказывается влияние вмещающих их пород, в частности гранитоидов и рудной минерализации, но видны отличия в зависимости от типа гранитов и наличия в них минералов, содержащих повышенные концентрации редких щелочей. Однако, содержания в воде устьев притоков, даже дренирующих гранитоиды, никогда не достигают значений редких щелочей в термальных источниках. Это же можно сказать о породах вокруг Байкала и на острове Ольхон, в которых пробурены скважины или находятся родники, что свидетельствует о несущественном влиянии вмещающих пород. Вода Байкала и истока Ангары показывает низкие и близкие значения редких щелочей, что также закономерно, поскольку для Байкала характерен процесс “самоочищения и обновления”, благодаря известным разным типам течений, и наличию в литоральных зонах геохимических барьеров. Ангара – единственный сток Байкала и её вода естественно отражает особенности состава воды Байкала.
Следует также признать, что повышенная сейсмичность, тектонические подвижки в Байкальской рифтовой зоне, отмеченные особенности течения воды в Байкале способствуют глубинному (ювенильному) обновлению воды Байкала и поддерживают её постоянный геохимический состав и чистоту.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Работа выполнялась при поддержке РФФИофи_м № 17-29-05022 и в рамках государственного задания ИГХ СО РАН № 0284-2021-0003.
About the authors
V. I. Grebenshchikova
Vinogradov Institute of Geochemistry, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: vgreb@igc.irk.ru
Russian Federation, Irkutsk
M. I. Kuzmin
aVinogradov Institute of Geochemistry, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences
Email: vgreb@igc.irk.ru
Academician of the RAS
Russian Federation, IrkutskReferences
- Ключевский А. В., Гребенщикова В. И., Кузьмин М. И., Демьянович В. М., Ключевская А. А. О связи сильных геодинамических воздействий с повышением содержания ртути в воде истока р. Ангара (Байкальская рифтовая зона) // Геология и геофизика. 2021. № 2. C. 293–311.
- Sklyarova O. A., Sklyarov E. V., Och L., Pastukhov M. V., Zagorulko N. A. Rare earth elements intributaries of Lake Baikal (Siberia, Russia) // Applied Geochemistry. 2017. 82. 164–176.
- Гребенщикова В. И., Кузьмин М. И., Демьянович В. М. Разнонаправленная динамика химического состава воды Байкальской экосистемы (Байкал, притоки, исток р. Ангара // Геология и геофизика. 2024. Т. 65. № 3. С. 386–400.
- Травин А. В., Владимиров А. Г., Цыганков А. А., Ханчук А. И., Эрнст Р., Мурзинцев Н. Г., Михеев Е. И., Хубанов В. Б. Термохронология Ангаро-Витимского гранитодного батолита, Забайкалье, Россия // ДАН. Науки о Земле. 2020. Т. 494. № 1. С. 53–59.
- Турутанов Е. Х. Ангаро-Витимский батолит: форма и размеры по гравиметрическим данным // ДАН. 2011. Т. 440. № 6. С. 815–818.
- Гребенщикова В. И., Кузьмин М. И., Ключевский А. В., Демьянович В. М., Ключевская А. А. Повышенные содержания ртути в воде истока р. Ангара: отклики на геодинамические воздействия и сильные землетрясения // ДАН. Науки о Земле. 2020. Т. 491. № 2. С. 77–81.
- Гребенщикова В. И., Кузьмин М. И., Демьянович В. М. Уран в воде Байкальской экосистемы // ДАН. Науки о Земле. 2023. Т. 512. № 2. С. 332–340.
- Шимараев М. Н., Троицкая Е. С., Блинов В. В., Иванов В. Г., Гнатовский Р. Ю. Об апвеллингах в озере Байкал // ДАН. 2012. Т. 442. № 5. С. 696–700.
- Диденков Ю. Н., Бычинский В. А., Ломоносов И. С. О возможности существования эндогенного источника пресных вод в рифтовых геодинамических условиях // Геология и геофизика. 2006. Т. 47. № 10. С. 1114–1118.
- Рассказов С. В., Чувашова И. С., Ясныгина Т. А., Саранина Е. В., Чебыкин Е. П., Ильясова А. М. Сходство и различие в развитии позднекайнозойских Витимской и Даригангской расплавных аномалий: обоснование потенциальной возможности подъема флюидов нижней мантии под Баргузинской долиной, средним и Северным Байкалом // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту). 2023. Выпуск 21. С. 222–223.
- Skuzovatov S. Yu., Belozerova O. Yu., Vasil’eva I. E., Zarubina O. V., Kaneva E. V., Sokolnikova Yu. V., Chubarov V. M., Shabanova E. V. Centre of Isotopic and Geochemical Research (IGC SB RAS): Current State of Micro- and Macroanalysis // Geodynamics & Tectonophsics. 2022. V. 13. № 2. Article 0585.
- Арсанова Г. И. Происхождение термальных вод вулканических областей // Вулканология и сейсмология. 2014. № 6. С. 44–58.
- Ломоносов И. С. Геохимия и формирование современных гидротерм Байкальской рифтовой зоны. Новосибирск: Наука, 1974. 168 с.
- Трошин Ю. П., Ломоносов И. С., Брюханова Н. Н. Условия формирования рудно-геохимической специализации современных гидротерм Байкальской рифтовой зоны // Геология и геофизика. 2008. Т. 49. № 3. С. 226–234.
- Плюснин А. М., Замана Л. В., Шварцев С. Л., Токаренко О. Г., Чернявский М. К. Гидрогеохимические особенности состава азотных терм Байкальской рифтовой зоны // Геология и геофизика. 2013. Т. 54. № 5. С. 647–664.
- Sklyarov E. V., Sklyarova O. A., Lavrenchuk A. V., Menshagin Yu. V. Natural pollutants of Northern Lake Baikal // Environmental Earth Sciences. 2015. V. 74. P. 2143–2155.
- Гребенщикова В. И., Носков Д. А., Герасимов Н. С. Геохимия и условия формирования Ангаро-Витимского батолита (Прибайкалье) // Вестник ИГТУ. 2009. 33. С. 24–30.
- Павлов С. Х., Чудненко К. В. Формирование азотных терм в системах “гранит-вода” и “вода-порфирит” // Геохимия. 2023. Т. 68. № 3. С. 285–293.
- Лунина О. В., Кучер К. М., Наумова Т. В., Ситникова Т. Я. Новые находки грязевого вулканизма у северо-западного побережья оз. Байкал по данным подводной видеосъемки // ДАН. Науки о Земле. 2023. Т. 513. № 2. С. 218–223.
Supplementary files