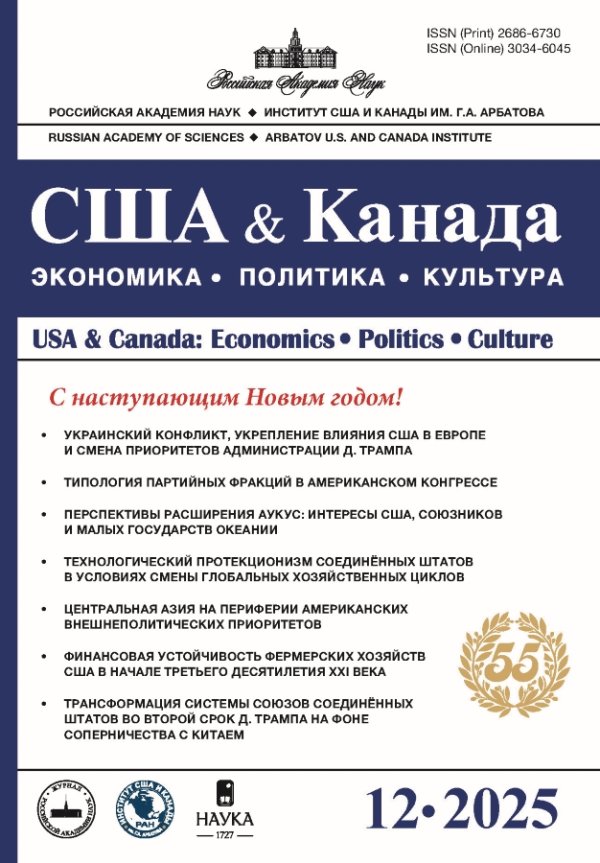Transformation of Pacific Regions in the Second Half of the 20th Century – Beginning of the 21st Century
- Authors: Boldyrev V.E1
-
Affiliations:
- Institute of History, Archaeology and Ethnology Far- Eastern Branch of the RAS
- Issue: No 4 (2024)
- Pages: 104-122
- Section: Background material
- URL: https://bakhtiniada.ru/2686-6730/article/view/257341
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2686673024040075
- EDN: https://elibrary.ru/RVSMLX
- ID: 257341
Cite item
Full Text
Abstract
The paper is devoted to transformation of international political regions in the Pacific. In the late 1960s to early 1970s the formation of the Indo-Pacific started as a consequences of US military and political activities and the intensification of bipolar confrontation. But an emphasis on military aspects at the expense of the economic ones as well as US foreign policy planning based on classical, smaller regions, weakened the unity of the Indo-Pacific space. The end of the Cold War and economic growth in East Asia turned Indian Ocen region into a periphery. Then, for 25 years, economic architecture of the Asian-Pacific, rather than its military-political framework, was at the core of US foreign policy interests. India, Japan, and China used the appeared vacuum to shape a common Indo-Pacific space in accordance with their perspectives. All three had economic foundations and military-political superstructures. In the 2010s, the USA reacted to China’s growth and suggested their own politically motivated version of the Indo-Pacific region, based on political-military presence and interaction later solidifying this in official strategies. So, the formation of the Indo-Pacific is related to space-based objective mutual interests and military and politically motivated regions.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ Характерной чертой второй половины 2010-х годов стало распространение индо-тихоокеанского дискурса. Сначала в нём превалировала научная составляющая. В исследованиях затрагивались экономические [Barai, Kar, Bhasin, 2015]; [Choudhury S.R., 2018]; [Das K. Ch., 2018]; [Kumar S., 2020] и политические проблемы [Chandra, 2018]; [Kukreja, 2020]; [Kumar Sh., Verma, Hussian Shah, 2020], вопросы соотношения естественных и искусственных процессов в формировании Индо-Пацифики [Das. S., 2021], исследовалась эволюция термина [Куприянов, 2021]. Параллельно усиливался политический аспект дискурса. Первой страной, разработавшей индо-тихоокеанскую стратегию, была Индия [4]. Предложенная ей интерпретация носила ограниченный характер и касалась, главным образом, развития флота. С началом 2020-х годов были приняты индо-тихоокеанские стратегии ЕС [8], США [6], Канады [7], Индо-Тихоокеанскому региону посвящён обширный раздел японской стратегии национальной безопасности [13]. Во всех них одно из важнейших мест заняла политическая аргументация. Это свидетельствовало, что индо-тихоокеанский дискурс приобрёл глобальное политическое измерение, а также локальные содержательные интерпретации. В этих условиях Н. Мелвин обратил внимание, что некоторые страны негативно реагируют на участившееся упоминание ИТР в политической плоскости. Чётким и последовательным его оппонентом, как на уровне идей, так и на уровне практических шагов, он обозначил Китай. Россия, по его оценкам, выступала последовательным оппонентом дискурса об ИТР, который был предложен коллективным Западом, но действия Москвы, в целом, соотносились с индо-тихоокеанской практикой западных правительств [Melvin, 2021]. Этот «российский парадокс» указывает на то, что присутствуют две грани ИТР: с одной стороны, западными странами активно продвигается дискурс о регионе для обслуживания их текущих политических интересов, с другой стороны, существуют объективные тенденции регионального развития, не зависящие от создаваемых политиками текстов. С учётом того, что дискурсивная сторона проблемы чаще попадала в поле зрения исследователей, в то время как соотношение объективного и субъективного начал анализировалось эпизодически, целью данной работы заключается в том, чтобы выявить их соотношение в процессе региональной эволюции. Задачами являются проанализировать влияние функциональных сред и временных условий, выявить роль отдельных стран в организации регионального пространства, исследовать его эволюцию. Методологической основой исследования выступает определение международного политического региона (МПР) В.И. Гантмана, Е.М. Примакова. В соответствии с этим МПР является изменчивой проблемно-политической общностью, чьи границы и состав меняются в зависимости от набора проблем, их содержания и характера. Следовательно, меняются и географические границы МПР. При этом состояние отношений между странами, входящим в него, определяется не только уровнем, но и характером связей между функциональными системами, с помощью которых осуществляется взаимодействие [Основы, 2022: 221–225]. Большое влияние на это оказывают господствующие в верхних эшелонах власти идеи, инерционность и новаторство мышления, неравномерность развития, успехи и неудачи интеграционных объединений и проектов [Россия, 2011: 6]. Вместе эти четыре фактора задают темпоральную динамику МПР. ИНДО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН В УСЛОВИЯХ БИПОЛЯРНОСТИ Впервые в советской науке проблема ИТР в международно-политическом контексте была поднята М.Г. Носовым в 1987 г. Как следует из исследования, географически целостным регионом понимался АТР: его ядром выступала Восточная Азия, по военно-политическим причинам её дополняли США и их тихоокеанские союзники за азиатскими пределами. Индо-Тихоокеанский регион как общий для пространств Тихого и Индийского океанов возник вследствие морской, военной и политической активности сверхдержав в 1960-х – начале 1970-х годов. Она выражалась в активизации международных и внутренних торговых морских перевозок, присутствия советских и американских ВМФ как вследствие необходимости защищать пути гражданских судов, так и вследствие распространения общей логики биполярного противостояния на индоокеанское пространство, военном взаимодействии США со странами НАТО на просторах Индийского океана, его охвате переговорами сверхдержав по глобальной военно-политической проблематике [Советско-американские отношения, 1987: 208–233]. Как следует из данного описания, фундаментом ИТР является море, соответственно присутствие стран в нём обеспечивается их морской деятельностью. Она может базироваться на двух аспектах: экономическом и военно-политическом. Экономический аспект в тех условиях не мог получить должного развития ввиду объективных причин: дальневосточные районы СССР оставались слабо развитыми в сравнении с европейской частью страны, ключевые экономические центры были сосредоточены на Тихом океане, при этом с каждым из них у Советского Союза были непростые, зависимые от политической конъюнктуры, отношения. Индийский океан для советского флота был лишь связующим звеном между европейской частью и дальневосточными портами. В этой связи ключевым стало военно-политическое измерение, которое было представлено противостоянием сверхдержав, американским военным присутствием и военно-политическим сотрудничеством с союзниками, а также советским ответом на него в виде постоянного присутствия группировки ВМФ. Но вместе с тем М.Г. Носов указывал, что МПР, возникший таким образом, оказывался подверженным эрозии. Ввиду того что основным спусковым крючком стала военно-политическая деятельность США, то и соответствующие изменения в планировании вели к новой трансформации. Они начались в период президентства Дж. Картера, когда Министерство обороны вновь стало оперировать «классическими» меньшими регионами – Ближним Востоком, Средним Востоком, Персидским заливом, Южной Азией – в определении целей и задач ведомства (Приводится по: [Советско-американские отношения, 1987: 208–233]). Это ослабляло контекст, способствовавший возникновению ИТР в политическом измерении. Если принять во внимание книгу П. Швейцера [Швейцер, 1995], в которой доказывается тезис, что рост американского военно-политического присутствия в перечисленных регионах был обусловлен глобальной антисоветской стратегией Р. Рейгана, то можно утверждать, что в американском военно-политическом планировании в данном случае возобладала континентальная составляющая. Наконец, американское внешнеполитическое планирование в 1980-х годах подтверждает отсутствие общего индо-тихоокеанского видения: за 1981–1988 гг. были изданы только три стратегии так или иначе касавшихся региона Индийского океана. Они были посвящены проблемам его юго-западной части [10], Африканскому Рогу [11], отношениям США и Австралии [12]. Это указывало, что в Вашингтоне сделали ставку на те параметры присутствия, которые ослабляли возможности для формирования ИТР: в центре внимания оказались проблемы континентальной, а не морской стратегии, возобладало старое деление на малые регионы, они стали восприниматься в Вашингтоне как плацдарм для нанесения удара по Советскому Союзу, в то время как для поддержания индо-тихоокеанского контекста необходимо было пространство для стабильного противостояния. В условиях распада социалистической системы и СССР тихоокеанскому региону удалось избежать дестабилизации, сопоставимой с Европой, здесь возобладало доминирование экономических отношений между уже существовавшими центрами и поднимавшимися новыми индустриальными странами. Это позволило А.Д. Богатурову констатировать, что тенденция экономизации отношений, возникшая в Восточной Азии во второй половине 1970-х годов, стала доминирующей [Богатуров, 1997: 213–218]. На неё наложилось укрепление идей экономического либерализма в Соединённых Штатах, которые сделали ставку на свободную торговлю. Этой точке зрения оппонируют М.И. Крупянко и Л.Г. Арешидзе, считая, что военно-политическая составляющая сохранила своё значение для тихоокеанской политики Вашингтона, но её центром, как и экономической политики, оказалась Восточная Азия [Крупянко, Арешидзе, 2010]. Таким образом, распад биполярной системы, завершение противостояния сверхдержав на пространстве Индийского океана, смещение интересов США в сторону Восточной Азии, смена военно-политических приоритетов экономическими способствовало тому, что Индоокеанский регион оказался на периферии американских интересов, которые 20 лет назад стали одним из условий формирования ИТР. ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН И ИНТЕРЕСЫ США В ПОСТБИПОЛЯРНЫЙ ПЕРИОД Поскольку американские интересы в биполярную эпоху способствовали сначала сопряжению регионов Индийского и Тихого океанов в единое целое, а потом его дезинтеграции на «классические» регионы, логичным будет сконцентрировать внимание на восточноазиатской политике США в постбиполярный период. Ключевым элементом курса при У. Клинтоне стала внешнеэкономическая политика, в центре которой оказался формат АТЭС, при этом Вашингтон сделал ставку на то, чтобы занять ведущее место в торговых процессах АТР, а также использовать впоследствии свои лидерские позиции для формирования выгодных для себя торгово-экономических условий посредством юридических норм и членства в международных организациях и форматах [Печатнов, 2008: 446]. После избрания Дж. Буша-младшего президентом и ввиду приоритетного внимания Ближнему Востоку, на азиатско-тихоокеанском направлении возникла пауза. Она была прервана в 2005–2006 гг. С одной стороны, активизировался переговорный процесс по заключению двусторонних соглашений о свободной торговле (ССТ), что в числе прочего позволило Вашингтону не только сделать отношения в рамках существующих форматов более интенсивными, но и выдвинуть идею транстихоокеанской зоны свободной торговли [Liu, 2011]. Логичным следствием этого шага стало присоединение США к Транстихоокеанскому партнёрству (ТТП) в ноябре 2008 года. С другой стороны, как отмечает Т. Дж. Кристенсен, произошло существенное усиление Китая, которое повлекло ряд изменений. Во-первых, размещение на территории КНР иностранных производств превратило её в ядро производственносбытовых цепочек. Во-вторых, в регионе развилась производственная взаимозависимость. В-третьих, экономика играла роль амортизатора в вопросах безопасности, предотвращая развитие силовых сценариев. С учётом этих тенденций администрация Дж. Буша-младшего сформировала модель взаимодействия с Китаем. Она включала вовлечение КНР в международные западные институты, развитие региональных диалогов, запуск Стратегического экономического диалога (СЭД) в 2006 г. как площадки для обсуждения проблем, способных повредить развитию двусторонних отношений [Christensen, 2015]. Приняв президентские полномочия в 2009 г., Б. Обама продолжил политику предшественника. В 2010 г. США приняли деятельностное участие в организации модели переговоров о ТТП, которая позволяла подключаться к процессу не только официальным переговорщикам, но и широким группам интересов, представлявших отрасли, объединения, регионы [18]. Такой подход открыл возможность для обсуждения широчайшего круга проблем, что в конечном счёте отразилось на структуре проекта соглашения, которое касалось различных аспектов участия государства, поддержки рыночных условий экономики, авторского и трудового права, инструментов регулирования и поддержки национальных экономик, финансов, электронной среды, торговли [17]. В целом, несмотря на существовавшие трудности, касавшиеся устранения многочисленных двусторонних разногласий между участниками переговоров, предложенный проект соглашения позволял не только интенсифицировать торгово-экономические отношения, но и формировал региональную среду для их развития. Общую линию предшественника продолжил Б. Обама и на китайском направлении: ключевым форматом двустороннего взаимодействия остался СЭД. Однако даже внешний обзор гласных документов Госдепартамента, касающихся американо-китайских отношений, позволяет констатировать, что роль СЭД была чрезмерной: подавляющее большинство документов было связано с взаимодействием сторон в рамках исключительно этого формата. Столь чрезмерный акцент на нём объясняется стремлением Вашингтона придать своим отношениям с Пекином институционализированный характер. Иными словами, интересам США отвечало создание в АТР различных форматов взаимодействия с ключевыми партнёрами, которые предполагали внедрение таких моделей, которые формировали бы общие, единообразные юридические и дипломатические параметры для всех вовлечённых сторон. Однако было бы упрощением сводить американскую политику на Тихом океане исключительно к экономической составляющей. 2006 г. в АТР ознаменовался также и попыткой активизировать военно-политические контакты, о чём свидетельствовало создание «четвёртки» (Quad). В то же время ряд экспертов обращают внимание на следующие особенности архитектуры американских военнополитических отношений, возникшие в постбиполярный период и повлиявшие на курс Б. Обамы. По мнению Ш. Хамейри и К. Джайасурии [Hameiri, Jayasuriya, 2011], положение в сфере безопасности в АТР характеризовалось тремя парами дихотомий: секьюритизация нетрадиционных проблем и доминирование традиционных проблем «жёсткой» безопасности, противопоставление интересов одной страны интересам группы стран, противопоставление интересов двух стран друг другу. Следствием этого положения стал постоянный поиск новых форматов взаимодействия в регионе. Во многом это положение, как замечают Сун Ру [Sun, 2012], Т. Сатаке и Дж. Хеммингс [Satake, Hemmings, 2018] стало следствием эволюции системы американских альянсов после распада биполярной системы. На Тихом океане в отличии от Европы в период холодной войны не сложились многосторонние структуры, доминировали двухили трёхсторонние форматы. В 1990-е годы консервация прежней архитектуры определялась рядом факторов. Из-за подавляющего военно-политического доминирования США в АТР другие страны были вынуждены действовать с оглядкой на них. Американские союзники опасались, что при возникновении многостороннего альянса они попадут во внутриальянсовую «ловушку угрозы», при которой необходимо реализовать союзнические обязательства в отношении другого участника альянса при возникновении угрозы, которая не имеет прямого отношения к данной стране, но опасна для союзника. Наконец, они оценивали военно-политический курс США в отношении АТР как подверженный одновременно диверсификации и сегментации взаимодействия в зависимости от региональной и международной конъюнктуры. Результатом этой трансформации стало возникновение неустойчивой сети американских трёхсторонних квазиальянсов. Она, правда, по оценкам Сун Ру, имела одну сильную сторону: эти треугольники были организованы так, что вместе с США в состав каждого из них входила Япония, что делало её ключевым американским союзником в АТР. Таким образом, азиатско-тихоокеанская политика США в начале 2010-х годов характеризовалась существенным диссонансом. С одной стороны, с учётом доминирования экономических начал в отношениях на Тихом океане и либеральных идей внутри Соединённых Штатов, была сделана ставка на создание двухи многосторонних форматов, которые выступили полем, позволявшим приступить к процессу реализации торгово-экономической политики как инструмента по созданию единого пространства, основанного на правилах в соответствии с американскими интересами. С другой стороны, сопоставимого единства в военно-политической сфере не наблюдалось, архитектура альянсов была сегментированной. Это указывало на существование свободного пространства, открытого для перестройки в соответствии с новыми идеями, что делало военно-политическую сферу ключевой при наступлении нового этапа трансформации тихоокеанской политики США. СТРАНЫ АЗИИ И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ИНДО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА Снижение активности США в Индоокеанском регионе при повышенном внимании к экономическим вопросам в АТР породило вакуум, который рано или поздно должен был быть кем-то заполнен. Первым шагом в этом направлении стоит считать инициированную Индией в 1987 г. политику «Смотри на Восток», которая в 2014 г. трансформировалась в политику «Действуй на Востоке». Она изначально предполагала два измерения: экономическое и политическое. Однако, как замечает А.В. Куприянов, основой для индийской политики в ИТР служат не только экономика и политика, но и обеспечение безопасности и культурно-цивилизационная база [Куприянов, 2021]. Таким образом, построение единого пространства было возможно не только на военно-политических основаниях, которые доминировали в период холодной войны, но и на ином фундаменте. Понимание этой многогранности точнее раскрылось в индийской морской стратегии 2015 г., в которой океан обозначен принципиальной основой общего пространства Индийского и Тихого океанов, в пределах которого реализуется сотрудничество военно-политическое, по противодействию угрозам безопасности, имеющим социальную и экономическую природу (терроризм, нелегальная добыча ресурсов, пиратство, незаконное перемещение грузов и людей), экономическое, прежде всего, связанное с экономикой океана, развитием соответствующей инфраструктуры [4]. Такое ранжирование приоритетов в стратегии не является случайным. Если концепция «Смотри на Восток / Действуй на Востоке» основывалась, прежде всего, на объективных предпосылках, необходимости кардинально обновлять инфраструктуру энергетическую, транспортную, телекоммуникационную, чтобы тем самым обеспечить хозяйственный рост [India’s, 2011: 245–280], то есть была в немалой степени обращена к внутренним проблемам Индии, то индо-тихоокеанская идея возникла и была развита в военно-морской среде [Куприянов, 2021], вследствие чего приобрела соответствующую смысловую окраску в официальных и академических текстах. Такое положение дел высвечивают одну из ключевых проблем ИТР: соединение в политике стран объективных и субъективных начал, при этом первые связаны с построением общего пространства, основанного на текущих потребностях страны, которые существуют независимо от их восприятия, а вторые чётко связаны с интересами определённой влиятельной группы общества, которые оформляются как идея, реализуемая в виде дискурсов и нарратива. Второй страной, предпринявшей усилия по построению ИТР, стала Япония. Впервые соответствующую идею в 2000 г. озвучил премьер-министр Японии Ё. Мори: она касалась глобального партнёрства Японии и Индии (Приводится по: [Mukherjee R., 2018]). В дальнейшем С Абэ в течение первого срока на посту председателя правительства конкретизировал идею предшественника, обозначив сотрудничество Токио и Нью-Дели стратегическим и глобальным, использовав в официальных заявлениях термин «Индо-Тихоокеанский регион», предложив концепцию сопряжения двух океанов. Она предполагала тесное сотрудничество Японии и Индии, совместное построение более широкой Азии с привлечением США и Австралии [Borah, 2022, 3–4], заключение с Нью-Дели Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнёрстве, вовлечение восточноафриканских стран в индо-тихоокеанское пространство [Daimon-Sato, 2021]. Немаловажной основой для будущей индо-тихоокеанской политики Японии стала идея «Дуги свободы», выдвинутая министром иностранных дел Т. Асо. Она предполагала приверженность демократии, правам человека, рыночной экономике, верховенству закона [Масуо, 2019]. В целом, совокупность идей Токио свидетельствовала, что для него построение ИТР возможно в экономической, политической, гуманитарной и правовой плоскостях. Впоследствии на основе этих идей была кристаллизована концепция «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», которую оценивают как форму расширения Азии, основанную на транспарентности, свободе движения транспорта, людей, капитала, знаний и разработке соответствующих правил и норм. Её инструментами выступали соединимость (connectivity), помощь развитию, торговоэкономические отношения. В географическом плане реализация японской концепции, главным образом, касается связей суши и морской литорали и охватывает пространство от Океании до восточного побережья Африки [3]; [Nagy, 2021]. Японская практика позволяет выделить три ключевых субпространства на индо-тихоокеанских просторах. Первым из них стала Восточная Азия и Тихий океан, где реализуются многосторонние торгово-экономические инициативы с участием Японии, со странами которой Токио поддерживает отношения в области обеспечения безопасности [2]. Второе субпространство представлено Индией, которая важна как торгово-экономический партнёр, в котором можно создать производственную базу, ориентированную на импорт японской продукции [Barai, Kar, Bhasin, 2015], и как транспортно-логистический узел [Borah, 2022, 50, 114]; [Wallace, 2018]; [Choudhury, 2018]. Третье субпространство было представлено Восточной Африкой, в которой Токио планировал сформировать внутреннюю производственную базу, для чего выступал за повышение уровня образования, инвестиции, сотрудничество по реализации экономических проектов, интенсификацию межчеловеческих контактов [Das K. Ch., 2018]. Таким образом, ключевым отличием японских усилий стал акцент на экономическое взаимодействие, которое связано в первую очередь с объективными потребностями стран, а значит они способствовали возникновению обширного пространства, построенного на основе совпадения интересов. КНР, третья страна, постепенно наращивала силы и впоследствии стала предпринимать систематические усилия по формированию ИТР в соответствии со своим видением. Р.П. Пардо обратил внимание, что изначально внешнеполитическая стратегия Китая в Азии и на Тихом океане предполагала «зонтичное» понимание площадки или инициативы. Пробой сил стали шестисторонние переговоры. В ходе них Пекин предпринял попытку создать многостороннюю, постоянно действующую региональную конструкцию в Северо-Восточной Азии, заложил дипломатическую основу для будущего трехстороннего взаимодействия КНР – РК – Япония, а в отношениях с США закрепил главенство двустороннего формата. Это позволило Р.П. Пардо трактовать участие Пекина в шестисторонних переговорах как первую попытку построить китаецентричную региональную архитектуру [Pardo, 2012]. Более масштабным усилием стала Инициатива «Пояс и путь» (ИПП), впервые сформулированная в 2013 г. Текст «Видения…» позволяет говорить об инициативе, как гибкой, адаптивной, чьи инструменты способны менять своё практическое содержание в зависимости от конкретного случая. С точки зрения формирования пространства, выделяются следующие её аспекты: ставка на развитие отраслевого сотрудничества, устранение барьеров для инвестиций и движения капитала, оптимизация международных производственных и сбытовых цепочек, развитие инфраструктуры, интеграция морского и сухопутного пространств, организация новых многосторонних механизмов по принципу «Китай – группа заинтересованных стран» [1]. Практика показывает, что иногда они могут заменяться двусторонним сотрудничеством [Kobayashi, King, 2022]. При этом официальная трактовка ИПП, данная в 2015 г., позволяет говорить ещё об одной её характеристике, сравнительно чёткой географической локализации, которая включает Евразию, за исключением северной её части, Юго-Восточную Азию, север Индийского океана, Восточную Африку, Средиземноморье и Европу [1]. Зафиксированное в ИПП видение свидетельствовало о стремлении Китая занять главенствующую роль в региональных торгово-экономических отношениях, реанимировав в современных условиях дальневосточную систему международных отношений Раннего Нового времени, на которое, по оценкам В.Я. Белокреницкого, пришёлся прежний подъём Китая. В качестве её особенностей он называл китаецентричность, подавляющую экономическую мощь Китая, стремление его императоров получить дипломатическое признание китайского верховенства [Белокреницкий, 2010: 68]. Географический же охват ИПП говорит в пользу того, что её центром выступит индо-тихоокеанское пространство. Таким образом, все азиатские инициативы, относившиеся к ИТР, изначально имели экономическое основание, связанное с объективными потребностями развития, но обладали также и потенциалом для обретения политическим и военным измерением, которые, однако, были следствиями экономической практики, но не привнесённым элементом. Так в случае с Индией активизация военно-политической составляющей произошла вследствие роста роли моря в экономике страны. Формирование правил взаимодействия проистекало из стремления Японии юридически защитить выгодные её национальным интересам способы хозяйственного взаимодействия со странами Тихого и Индийского океанов. Намерение Китая укрепить политическое влияние стало логичным следствием его экономического усиления. Иными словами, обретение политического и военного измерений индо-тихоокеанским пространством было неизбежным, однако оно нуждалось в прочной экономической опоре. США И ИТР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ Рост самостоятельности азиатских стран в формулировании и реализации инициатив, способных привести к образованию МПР, вызвал в США ответную реакцию, сначала на экспертном, а позднее и на официальном уровне. Первыми, кто обозначил, что в скором времени Китай будет конкурентом США в вопросах интеграции, строительства политически и экономически мотивированных пространств и сфер, были Р. Каплан и Э. Экономи. Р. Каплан [Kaplan, 2009]; [Kaplan, 2010] считал, что китайское влияние в течение 2010–2020-х годов будет распространяться, главным образом, в западном направлении. Последнее будет иметь два вектора. Вследствие стремления получить доступ к ближневосточным и африканским ресурсам усилится влияние КНР в Индийском океане, оно будет способствовать формированию нового региона, выполняющего роль связующего звена между Ближним Востоком и АТР. Второй вектор имеет континентальное измерение и касается, прежде всего, контактов со странами Центральной Азии. Результатом этого движения на запад Р. Каплан предвидел возникновение обширной сферы китайского влияния в Восточном полушарии, которая будет противопоставлена американскому присутствию. С точки зрения Э. Экономи [Economy, 2010], такое движение Китая стало логичным результатом его политики, проводимой с конца 1990-х годов: она позволила настроить отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки, богатыми минеральными ресурсами. Это стало одним из условий роста экономической и военной мощи КНР, послужило фактором китайской экспансии. Чтобы противостоять ей, автор предлагала правительству США влиять на китайское поведение совместно с союзниками и партнёрами и добиваться от Пекина признания либеральных ценностей как незыблемой основы мира. По оценкам Дж. М. Оуэна [Owen, 2021], американо-китайская конкуренция стала реальностью с приходом к власти Си Цзиньпина. Он предпринял попытку построить собственный мировой порядок, который оппонирует либеральному, защищающему американские интересы. Для китайского порядка, по мнению Дж. Оуэна, характерны отказ от силового продвижения идеологии и строя, но китаецентричная экономическая интеграция, рост зависимости стран через долг, транспортные и торговые операции, вовлечение в финансовые институты, созданные Китаем. В то же время в статье подчёркивается, что КНР не намерена отказываться от преимуществ либерального порядка. Наиболее однозначное экспертное мнение выразил М. Малик [Malik, 2016]. По его мнению, ключевой проблемой на Тихом океане является китайская военная угроза, поскольку Пекин сделал ставку на то, чтобы изменить либеральный мир, ведомый Вашингтоном. Чтобы ей эффективно противодействовать, предлагалось придать «четвёрке» военный антикитайский характер, а в оперативном и стратегическом планировании заменить Азиатско-Тихоокеанский регион на Индо-Тихоокеанский. Таким образом, в экспертном сообществе были предложены три аспекта для трансформации курса США на Тихом океане: выработать ответ на рост Китая, усилить военно-политическое присутствие в регионе, объединить в планировании пространства Тихого и Индийского океанов. В рамках пересмотра тихоокеанского курса в Соединённых Штатах выделились две линии. Первую представляли президентская администрация и Государственный департамент. Л.Н. Гарусова оценивает её как нестабильную, поскольку политика Вашингтона не была последовательной, при Б. Обаме интенсивность отношений с Нью-Дели снизилась, а их динамика стала, главным образом, зависеть от инициативности индийской стороны [Десятилетие, 2022, 123–132]. Вторая линия была представлена Министерством обороны, которое предприняло более активные усилия по пересмотру внешнего курса. Одной их составляющей стал поиск сторонников среди политических сил. В течение 2013 г. на слушаниях в Палате представителей сначала адмирал в отставке Гэри обозначил, что военный курс Соединённых Штатов на тихоокеанском пространстве может быть только антикитайским [15], а позднее доцент Колледжа ВМС США Э. Эриксон назвал укрепление военно-политического сотрудничества с Индией критически значимым в контексте американского ответа на усиление китайских вооружённых сил и ВМС [19]. Эта точка зрения впоследствии нашла поддержку в Конгрессе. В частности, сенатор М. Хироно, которая представляла Демократическую партию, впоследствии на слушаниях в Комитете по делам вооружённых сил использовала термин «Индо-Азиатско-Тихоокеанский регион» [9]. Второй составляющей стал пересмотр официальных взглядов на существующие границы МПР. В 2015 г. в выступлениях Э. Картера, предназначенных для внутренней [16] и международной аудитории [5], наряду с признанием значимости АТР было чётко обозначено стремление Министерства обороны заменить в планировании азиатско-тихоокеанское направление на индо-тихоокеанское, поскольку к числу важных партнёров США была отнесена Индия. Логичным продолжением этой тенденции стало то, что в Стратегии национальной безопасности 2017 г. Д. Трамп сформулировал курс в отношении ИТР именно в военно-политическом ключе [14], а выход из ТТП как ядра американской региональной экономической архитектуры сделал это неизбежным. В качестве ключевых приоритетов в регионе были обозначены защита суверенитета, укрепление военно-политических союзов, мирное решение конфликтов, развитие инфраструктуры. При Дж. Байдене в Индо-Тихоокеанской стратегии была предпринята попытка несколько исправить этот уклон, но не отказаться от военнополитического измерения как её ядра [6]. С одной стороны, в стратегию были включены пункты о необходимости поддерживать производственно-сбытовые цепочки, развивать технологии и цифровую экономику. С другой стороны, военно-политические приоритеты были прописаны ещё чётче. Из них были перечислены укрепление морской инфраструктуры, сдерживание противника, развитие военно-политических отношений, модернизация вооружённых сил и поддержание либерального порядка. Кроме того, стоит заметить, что в обеих стратегиях зафиксированы политически мотивированные границы ИТР, который на западе ограничивается Индией и тем самым делит пространство Индийского океана пополам. В контексте продвижения Соединёнными Штатами ИТР исключительно в качестве МПР, имеющего военно-политические основы, интерес представляет реакция Японии. В принятой ею в декабре 2022 г. стратегии национальной безопасности основной акцент сделан на военно-политическое измерение, а в пространственном отношении регион был сокращён в соответствии с пониманием его администрацией Дж. Байдена [13]. Это свидетельствовало, что Япония, будучи ключевым военно-политическим союзником США в регионе, кардинально изменила свои приоритеты: на смену курсу, который опирался на объективные факторы, благоприятные для отношений на основе совпадения интересов, пришёл эксклюзивный подход, основанный на близости политического понимания обстановки. Таким образом, пересмотр планирования в отношении ИТР в США имел исключительно военные и политические основания, а Министерство обороны выступило ключевым пропонентом этих изменений. При этом важной их чертой стал реактивный ответ на рост китайского влияния, который воспринимался угрозой и в экспертных, и в военных, и в политических кругах. При этом просматривается определённое сходство с биполярной эпохой, когда присутствие США в ИТР имело исключительно военно-политическое измерение. Правда, в текущей обстановке оно приобретает значение не только сдерживания оппонента, но и контроля за союзниками. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Возникновение Индо-Тихоокеанского района было вызвано биполярным противостоянием. Поскольку ни СССР, ни США не были его индигенными странами, пространство приобрело военно-политическое измерение, а оно само воспринималось как ещё одна географическая арена сверхдержавного противостояния. Это было важнейшей причиной его слабости, которая проявилась при изменении внешнеполитического планирования в США. Это привело к дезинтеграции общего пространства на малые «классические» регионы. С распадом биполярной системы эта тенденция укрепилась, а вследствие слабости индоокеанских и силы восточноазиатских экономик Вашингтон сосредоточил основное внимание на АТР. Образовавшийся вакуум стал благоприятным для индо-тихоокеанских инициатив, предложенных странами региона. Всех их объединяло то, что в основе стратегий лежали экономические интересы, которые в большей мере благоприятствовали сближению на основе совпадения интересов. Политические интересы здесь были вторичными. Возвращение США и предложение концепции ИТР стало реакцией на рост Китая и ИПП. Из-за прежде слабой концептуальной проработки военно-политического присутствия и с учётом опыта 1970-х годов именно оно стало основой индо-тихоокеанского курса США. Однако ввиду того, что военно-политическое измерение в стратегиях стран региона было вторичным по отношению к экономическому, американский курс привёл к деформации ИТР. Она выразилась в навязывании искусственных, политически мотивированных границ и функциональных пониманий региона. Это привело к эрозии его индигенных интерпретаций, о чём свидетельствует пример Японии. Таким образом, трансформация тихоокеанских регионов за последние полвека позволяет говорить о двух их измерениях. Первое касается объективно существующей общности стран, которое основано на совпадении и близости интересов, прежде всего, экономических. Второе измерение связано с военно-политическими интерпретациями этого пространства, которое в отрыве от иных основ взаимодействия предполагает продвижение точки зрения на развитие региона, отвечающей текущим интересам конкретного правительства. В первом случае архитектура взаимодействия настраивается эволюционным путём, хотя и с учётом особенностей каждой из стран. Во втором случае государство вносит искусственные восприятия региона.×
About the authors
V. E Boldyrev
Institute of History, Archaeology and Ethnology Far- Eastern Branch of the RAS
Email: boldyrev89@list.ru
ORCID iD: 0000-0002-2354-8197
Cand. Sci. (History), senior researcher Vladivostok, Russian Federation
References
- Прекрасные перспективы и практические действия по совместному созданию экономического пояса шёлкового пути и морского шёлкового пути XXI в. Россия и АТР. 2015. №3. С. 255–270.
- Achieving the “Free and Open Indo-Pacific (FIOP)” Vision. Japan’s Ministry of Defense Approach. Available at: https://www.mod.go.jp/en/d_act/exc/india_pacific/india_pacific-en.html (accessed: 07.05.2022).
- Diplomatic Bluebook 2019. Available at: https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2019/html/chapter1/c0102.html#sf01 (accessed: 07.05.2022).
- Ensuring Secure Seas: Indian Maritime Strategy. October, 2015. Available at: https://www.indiannavy.nic.in/sites/default/Indian_Maritime_Security_Strategy_Document_25Jan16.pdf (дата обращения: 5.09.2022).
- IISS Shangri-La Dialogue: “A Regional Security Architecture Where Everyone Rises”. As Delivered by Secretary of Defense Ash Carter, Singapore, Saturday, May 30, 2015. Available at: http://archive.defense.gov/Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1945 (дата обращения: 03.12.2016).
- Indo-Pacific Strategy of the United States. February 2022. Available at: https://www.whitehouse.gov/wp-content/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf (accessed 06.04.2022).
- Indo-Pacific: A new horizon of opportunity. Available at: https://www.international.gc.ca/transparence-transparence/indо-pacific-indo-pacifique/index.aspx?land=eng (дата обращения: 17.01.2023).
- Joint Communication to the European Parliament and the Council. The EU strategy for cooperation in the Indo-Pacific. 16.9.2021. Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/jointcommunication_indo_pacific_en.pdf (accessed: 24.09.2021).
- Maritime security strategy in the Asia-Pacific Region. Hearing before the Committee on Armed Service, United States Senate. One hundred fourteenth Congress. September 17, 2015. Washington: U.S. GPO, 2016. 48 p.
- National Security Decision Directive Number 57. United States Policy Toward the Horn of Africa. September 17, 1982. Available at: https://irp.fas.org/offdocs/nsdd/nsdd-57.pdf (accessed 29.08.2022).
- National Security Decision Directive Number 208. United States Policy Toward the Southwest Indian Ocean. January 30, 1986. Available at: https://irp.fas.org/offdocs/nsdd/nsdd-208.pdf (accessed 29.08.2022).
- National Security Decision Directive Number 229. U.S. / Australian Relations. May 29, 1986. Available at: https://irp.fas.org/offdocs/nsdd/nsdd-229.htm (accessed 29.08.2022).
- National Security Strategy of Japan. December 2022. Available at: www.cas.go.jp/jp/siryou/221216anzenhoshou/nss-e.pdf (accessed: 17.01.2023).
- National Security Strategy of the United States of America. December 2017. Available at: https://nssarchive.us/wp-content/uploads/2017/12/2017.pdf (accessed 28.12.2017).
- Rebalancing to the Asia-Pacific Region and implications for U.S. national security. Hearing before the Committee on Armed Service, House of Representatives. One hundred thirteenth Congress. July 24, 2013. Washington: U.S. GPO, 2014. 104 p.
- Remarks on the Next Phase of the U.S. Rebalance to the Asia-Pacific (McCain Institute, Arizona State University). As Delivered by Secretary of Defense Ash Carter, Tempe, AZ, Monday, April 06, 2015. Available at: http://archive.defense.gov/Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1929 (дата обращения: 03.12.2016).
- Trans-Pacific Partnership Agreement. Available at: https://ustr.gov/sites/default/files/tpp/full-text (accessed: 01.06. 2016).
- Trans-Pacific Partnership. Round 2. San-Francisci, June 2010. Available at: http://www.ustr.gov/tpp (accessed: 25.05.2012).
- U.S. Asia-Pacific strategic considerations related to People’s Liberation Army Naval Forces modernization. Hearing before the Subcommittee on seapower and projection forces of the Committee on Armed Service, House of Representatives. One hundred thirteenth Congress. December 11, 2013. Washington: U.S. GPO, 2014. 109 p.
- Белокреницкий В.Я. 2010. Восток в мирополитических процессах. Азия и Африка в истории международных отношений и современной мировой политике. М.: Институт востоковедения РАН. 320 с.
- Богатуров А.Д. 1997. Великие державы на Тихом океане. История и теория междунарродных отношений в Восточной Азии после Второй Мировой войны (1945–1995). М.: Конверт – МОНФ. 352 с.
- Десятилетие обманутых ожиданий: Тихоокеанская Азия и Тихоокеанская Россия между двумя глобальными кризисами. / Под ред. В.Л. Ларина. Владивосток: ИП Шульга В. Б., 2022. 456 с.
- Крупянко М.И., Арешидзе Л.Г. 2010. США и Восточная Азия. Борьба за «новый порядок». М.: Международные отношения. 448 с.
- Куприянов А.В. 2021. Индо-Тихоокеанский регион: индийский взгляд. Мировая экономика и международные отношения. Т. 65. №5. С. 49–58.
- Масуо Т. Глобальная дипломатия Японии как ответ на китайскую инициативу «Один пояс – один путь». Пути и пояса Евразии. Национальные и международные проекты развития на Евразийском пространстве и перспективы их сопряжения / Под ред А.В. Лукина и В.И. Якунина. М.: Весь мир, 2019. 416 с. С. 187–208.
- Основы теории международных отношений: Опыт ИМЭМО в 1970-е годы / под ред. Н.И. Иноземцева. М.: Аспект Пресс, 2022. 623 с
- Печатнов В.О. 2008. От Джефферсона до Клинтона: Демократическая партия США в борьбе за избирателя. М.: Наука. 503 с.
- Россия в полицентричном мире. / Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. М.: Весь мир, 2011. 580 с.
- Советско-американские отношения в современном мире / Под ред. Г.А. Трофименко, П.Т. Подлесного. М.: Наука, 1987. 304 с.
- Швейцер П. 1995. Победа. Роль тайной стратегии США в распаде Советского Союза и социалистического лагеря. Минск: Авест. 464 с.
- Barai, M.K., Kar, R.N., Bhasin, N. 2015. Understanding the Indo-Japan Relations in the Asia-Pacific century. Global Business Review. Vol. 16. No. 6. pp. 1061–1081.
- Belokrinitskii, V. Ya. 2010. Vostok v miropoliticheskikh protsessakh. Aziia i Afrika v istorii mezhdunarodnykh otnoshenii i sovremennoi mirovoi politike [The East in World Political Processes. Asia and Africa in History of International Relations and Contemporary World Politics] (In Russ.). Moscow, Institute of Oriental Studies RAS. 320 p.
- Bogaturov, A.D. 1997. Velikie derzhavy na Tikhom okeane. Istoriya i Teoriya mezhdunarodnykh otnoshenii v Vostochnoy Azii posle Vtoroi Mirovoi Voiny (1945– 1995) [The Greate Powers at the Pacific Ocean. History and Theory of International Relations in East Asia after the Second World War (1945–1995)]. (In Russ.). Moscow, Konvert – MONF. 352 p.
- Borah, R. 2022. The Strategic Relations Between India? The United States and Japan in the Indo-Pacific: When Three is not a Crowd. Singapore: World Scientific. 175 p.
- Chandra, V. 2018. India’s Accomodation in the Emerging International Order: Challenges and Prospects. India Quarterly. Vol. 74. No. 4. pp. 420–437. doi: 10.1177/0974928418802075
- Choudhury, S.R. 2018. India–Japan Relations: Economic Cooperation Enabling Strategic Partnership. International Studies. Vol. 54. No. 1–4. pp. 106–126. doi: 10.1177/0020881718791404
- Christensen, T.J. 2015. The China Challenge. Shaping the Choices of a Rising Power. New York – London: W.W. Norton & Company. 371 p.
- Daimon-Sato, T. 2021. Sino-Japan Aid War and India’s Role: Possibilities for ‘Win–Win–Win’. China Report. Vol. 57. No. 3. P. 289–308.
- Das, K.Ch. 2018. International Connectivity Initiatives by China and India for the developing Countries. South Asian Survey. Vol. 24. No. 2 pp. 101–116. doi: 10.1177/0971523118808075
- Das, S. 2021. Middle Power Cooperation in the Indo-Pacific: India and Australia at the Forefront. International Studies. Available at: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/00208817211056742 (accessed: 26.12.2021). doi: 10.1177/00208817211056742
- Desiatiletie obmanutykh ozhidanii: Tikhookeanskaia Aziya i Tikhookeanskaia Rossiia mezhdu dvumia global’nymi krizisami [The Decade of Deceived Expectations: Pacific Asia and Pacific Russia between the Two World Crises] (In Russ.) Ed. by V.L. Larin. Vladivistok: IP Shul’ga, 2022. 456 p.
- Economy, E.C. 2010. The Game Changer. Coping with China’s Foreign Policy Rev-olution. Foreign Affairs. Vol. 89. Nо. 6. pp. 142–152.
- Hameiri, Sh., Jayasuriya, K. 2011. Regulatory Regionalism and Dynamics of Territorial Politics: The Case of Asia-Pacific Region. Political Studies. Vol. 59. Nо. 11. pp. 20– 37.
- India’s Economy. Performance and Challenges / Ed. By Acharya, Mohan R. New Delhi: Oxford University Press, 2011. 435 p.
- Kaplan, R.D. 2009. Center Stage for the Twenty-first Century. Power Plays in the Indian Ocean. Foreign Affairs. Vol. 88. Nо. 2. pp. 16–36.
- Kaplan, R.D. 2010. The Geography of Chinese Power. How Far Can Beijing Reach on Land and at Sea. Foreign Affairs. 2010. Vol. 89. Nо. 3. pp. 22–41.
- Kobayashi, Yu., King, J. 2022. Myanmar’s strategy in the China – Myanmar Economic Corridor: a failure in hedging? International Affairs. Vol. 98. No. 3. Pp. 1013–1032. doi: 10.1093/ia/iiac049
- Krupyanko, M.I, Areshidze, L.G. 2010. SShA i Vostochnaia Aziia. Bor’ba za “novyi poriadok” [USA and East Asia. A Struggle for “Anew Order”] (In Russ.). Moscow, International Affairs. 448 p.
- Kukreja, V. 2020. India in the Emergent Multipolar World Order: Dynamics and Strategic Challenges. India Quarterly. Vol. 76. No. 1. pp. 8–23. doi: 10.1177/0974928419901187
- Kumar, S. 2020. Reinvigoration of BIMSTEC and India’s Economic, Strategic and Security Concerns. Millennial Asia. Vol. 11. No. 2. pp. 187–210. doi: 10.1177/0976399620925441
- Kumar, Sh., Verma, S.S., Hussian Shah, Sh. 2020. Indo-US Convergence of Agenda in the New Indo-Pacific Regional Security Architecture. South Asia Research. Vol. 40. No. 2. pp. 215–230. doi: 10.1177/0262728020915564
- Kupriyanov, A.V. 2021. Indo-Tikhookeanskii region: indiiskii vzgliad [The IndoPacific: Indian View] (In Russ.). World Economy and International Relations. Vol. 65. No. 5. pp. 49–58.
- Liu Fu-Kuo. 2011. The Structural Change in the United States – China Relation: Security Implications for The Asia Pacific Region. East Asian Review. Vol. 14. pp. 39–56.
- Malik, M. 2016. Balancing Act. The China – India – U.S. Triangle. World Affairs. Vol. 179. Nо 1. pp. 46–57.
- Masuo, T. Global’naia diplomatiia Iaponii kak otvet na kitaiskuiu initsiativu “Odin poias – odin put’” [Japan’s Global Diplomacy as a Response to Chinese Initiative “One Belt – One Road”] (In Russ.). Puti i poiasa Evrazii. Natsional’nye i mezhdunarodnye proekty razvitiia na Evraziiskom prostranstve i perspektivy ikh sopriazheniiya [Roads and Belts of Eurasia: National and International Development projects at Eurasian Space and Prospects for its Interface] Ed. by A.V. Lukin, V.I. Yakunin. Moscow, Ves’ Mir, 2019. 416 p. pp. 187–208.
- Melvin, N. 2021. Russia and the Indo-Pacific Security Concept. Available at: https://static.rusi.org/277_russia_ip.pdf (accessed: 26.06.2021)
- Mukherjee, R. 2018. Japan’s strategic outreach to India and the prospects of Japan –India Alliance. International Affairs. Vol. 94. No. 4. pp. 835–859.
- Nagy, S. 2021. Sino-Japanese Reactive Diplomacy as Seen Through the Interplay of the Bent and Road Initiative (BRI) and Free and Open Indo-Pacific (FIOP). China Report. Vol. 57. No. 1. pp. 7–21.
- Osnovy teorii mezhdunarodnykh otnoshenii: Opyt IMEMO v 1970-e gody [Frames of Theory of International Relations. IMEMO Experience in 1970-s] (In Russ.), Ed. by N.I. Inozemtsev. Moscoe, Aspekt Press, 2022. 623 p.
- Owen, J.M. 2021. Two emerging international orders? China and the United States. International Affairs. Vol. 97. Nо. 5. pp. 1415–1431.
- Pardo, R.P. 2012. Chian and Northeast Assia Regional Security Architecture: The SixParty Talks as a Case of Chinese Regime-Building? East Asia. Vol. 29. Nо. 4. pp. 337–354.
- Pechatnov, V.O. 2008. Ot Dzheffersona do Klintona: Demokraticheskaia partiia SShA v bor’be za izbiratelia [From Jefferson to Clinton: The Democratic Party of USA in the Struggle for the Voters] (In Russ.). Moscow, Nauka. 503 p.
- Rossiia v politsentrichnom mire [Russia in Polycentric World] (In Russ.). Ed. by A.A. Dynkin, N.I. Ivanova. Moscow, Ves’ Mir, 2011. 580 p.
- Satake, T., Hemmings, J. 2018. Japan – Australia security Cooperation in the bilateral and multilateral contexts. International Affairs. Vol. 94. Nо. 4. pp. 815–834.
- Shweizer, P. 1994. Victory: The Reagan Administration’s Secret Strategy that Hastened the Collapse of the Soviet Union. Washington D.C., The Atlantic Monthly Press, 1994. 284 p.
- Sovetsko-Amerikanskie otnosheniia v sovremennom mire [Soviet-American Relations in a Contemporary World] (In Russ.). Ed. by G.A. Trofimenko, P.T. Podlesnyi. Moscow, Nauka, 1987. 304 p.
- Sun Ru. 2012. The Prospects of the United States’ Asia-Pacific Alliance System. China International Studies. Nо. 4. pp. 54–75.
- Wallace, C. 2018. Leaving (north-east) Asia? Japan’s Southern Strategy. International Affairs. Vol. 94. No. 4. pp. 883–904. doi: 10.1093/ia/iiy027
Supplementary files