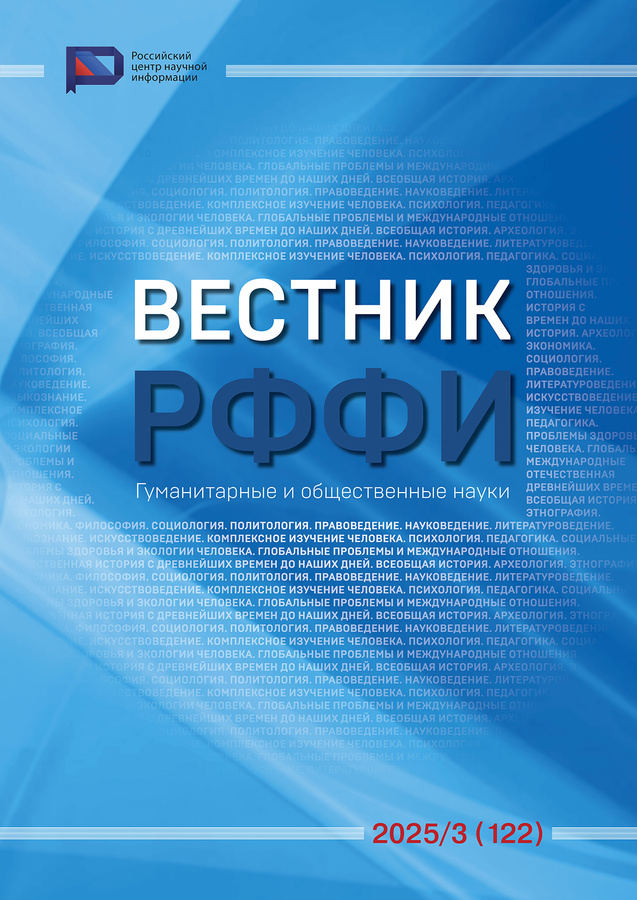Роль семьи в формировании жизнеспособности человека
- Авторы: Махнач А.В.1
-
Учреждения:
- Институт психологии РАН
- Выпуск: № 4 (2024)
- Страницы: 27-35
- Раздел: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
- URL: https://bakhtiniada.ru/2587-6090/article/view/281786
- DOI: https://doi.org/10.22204/2587-8956-2024-119-04-27-35
- ID: 281786
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье представлены теоретические и эмпирические исследования жизнеспособности семьи. Обосновано применение экологической теории и системного подхода для изучения феноменов жизнеспособности семьи. Социальная модель исследований рассматривается как методическая основа научного интереса к жизнеспособности человека и – позже — семьи. Приводятся данные об изучении психологии семьи в России и за рубежом, а также результаты исследования роли поддержки семьи в формировании жизнеспособности человека.
Полный текст
В истории появления и разработки большинства концепций и понятий «жизнеспособность человека» и «жизнеспособность семьи» заметную роль сыграла социокультурная экологическая теория Ю. Бронфенбреннера [1]. Согласно его теории, на развитие человека влияет ряд взаимосвязанных экологических систем, начиная с микросистемы (семьи) и заканчивая хроносистемой (взрослением, старением). Теория экологических систем человека определяет семейные и социальные факторы как оказывающие существенное влияние на его жизнеспособность.
Другим теоретическим основанием для изучения жизнеспособности человека стал системный подход, в рамках которого описаны общесистемные представления о структурно-функциональном пространстве существования этого феномена. На основе общесистемных закономерностей психических явлений, выделенных Б.Ф. Ломовым: связей, тенденций, зависимостей, вариативности, повторяемости, сферы действия, границ применения [2], выявлены признаки жизнеспособности семьи как малой социальной группы [3]. Наряду с экологической теорией системный подход к изучению психики стал теоретическим основанием наших исследований жизнеспособности человека, семьи. Для разработки понятий «жизнеспособность человека», «жизнеспособность семьи» у российских психологов, возможно, как ни у кого больше, имеются фундаментальные разработки отечественных философов, кибернетиков, биологов и генетиков. Достаточно перечислить их имена: биолог и эволюционист И.И. Шмальгаузен, философ А.А. Богданов, эколог Н.Ф. Реймерс, методологи науки И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин.
Разработка общепсихологической концепции жизнеспособности человека и семьи обусловлена теоретической готовностью к этому современной науки. Изучение этих понятий стало возможным благодаря лонгитюдным исследованиям по психологии развития в зарубежной психологии; исследованиям российскими учёными адаптации, саморегуляции, контроля поведения, совладания как компонентов жизнеспособности; сближению понятийного поля отечественной и зарубежной психологии; попыткам системного исследования этого феномена в теоретическом пространстве кибернетики, философии, истории, педагогики, психологии. Этому также способствовали эволюция и трансформация исследовательских парадигм и теорий; возрастающая роль культуры в анализе жизнеспособности человека в русле «антропологического поворота» К. Ранера [4] как способа переосмысления и обновления научного дискурса в целом и в гуманитарных/социальных науках; интерес к изучению самореализации, самоактуализации, увлечённости, профессионального успеха, нравственных ценностей, благополучия и др.
Социальная модель исследований: понятия «жизнеспособность человека» и «жизнеспособность семьи»
Появлению интереса к феномену жизнеспособности человека предшествовали снижение акцента на его патологии и увеличение интереса к его сильным сторонам. В. O’Лири отмечал: «Психологи недавно пришли к мысли о необходимости отказа от исследований в рамках моделей уязвимости / дефицита человека и сосредоточились на изучении моделей позитивных приобретений человека, вышедшего из сложной жизненной ситуации с важным для его дальнейшего развития опытом» [5, p. 426]. Конструкт «жизнеспособность человека» стал рассматриваться в двух полюсах: риска или неблагоприятного воздействия — позитивной адаптации. В связи с этим жизнеспособность человека оценивается как: а) хороший выход из ситуации, несмотря на неблагоприятное воздействие; б) устойчивое проявление компетентности под влиянием стресса; в) восстановление после травматического события [6]. Исследования жизнеспособности человека в социальных науках могут быть сгруппированы вокруг трёх основных понятий, классифицирующих содержание этого термина: подготовленность человека; реагирование и адаптация; восстановление или приспособление.
Первые исследования жизнеспособности семьи появились примерно 20 лет назад и начались с изучения неуязвимости / жизнеспособности ребёнка в семейном контексте [7]. В ходе анализа индивидуальной жизнеспособности ребёнка в семье было обнаружено, что он способен преодолевать трудности благодаря поддержке и защите, оказываемым одним из родителей или взрослым. Доказательством этого служат результаты лонгитюдов, в частности известный эксперимент Э. Вернер. В них было показано, что у каждого ребёнка, находящегося в трудной жизненной ситуации, в его окружении есть человек, который принимает его, может поддержать его самооценку, развить его компетентность. Три основных фактора социальной и семейной поддержки составили: а) сеть поддерживающих ресурсов; б) поддерживающее поведение; в) субъективная оценка поддержки [8].
Значимыми факторами защиты для жизнеспособности семьи являются адаптивность, сплочённость, хорошее общение, рассматриваемые как психологические ресурсы её социального благополучия [9]. Показано, что семья может проявлять жизнеспособность в одной области функционирования и не иметь её в другой. Исследования жизнеспособности семьи подчеркнули роль культуры для жизнеспособного общества: психическое здоровье граждан, социальная активность человека, развитие института семьи, традиций, способности людей к объединению и развитию духовности в жизни человека, что особенно актуально в эпоху кризисов [10].
Ф. Уолш, пионер исследований жизнеспособности семьи, разработала структуру её жизнеспособности, которая включает три области её функционирования: системы убеждений, организационные модели и коммуникативные процессы. По её мнению, взгляд на семью через призму жизнеспособности имеет несколько преимуществ:
¡ «позволяет фокусироваться на сильных сторонах семьи, закалённой стрессом каждого из кризисов, в длительных периодах неблагополучия;
¡ ни одна модель здорового функционирования не может подходить всем семьям;
¡ оптимальное функционирование и благополучие членов семьи меняются со временем по мере возникновения проблем, что и развивает семью» [11, р. 405].
Жизнеспособность семьи является её системной характеристикой, поэтому способность членов семьи успешно адаптироваться к неблагоприятным условиям, используя внутренние и внешние ресурсы, есть важный индикатор фактора семьи в её жизнеспособности [12]. В последнее время произошёл переход к изучению жизнеспособности семьи как динамическому понятию с акцентом на компетентности, её сильных сторонах и ресурсах.
Изучение жизнеспособности семьи в России
В 2003 г. мы предложили термин «resilience» переводить как «жизнеспособность» и обосновали такой перевод. Впоследствии понятие «жизнеспособность человека» стало частью общепсихологической терминологии в российской психологии. Предложенный нами перевод — «жизнеспособность человека» — наиболее полно описывает те признаки психического явления, за которыми стоит следующее содержание: способность человека к преодолению неблагоприятных жизненных обстоятельств с возможностью восстанавливаться и использовать для этого все внутренние и внешние ресурсы, способность к жизни во всех её проявлениях, базирующейся на воле к жизни [7].
Поскольку в исследованиях российских учёных понятие «жизнеспособность семьи» появилось не так давно, обратимся к анализу тематики исследований психологии семьи в историческом контексте — по названиям статей, отражающим, как правило, актуальность проблематики. Мы провели контент-анализ названий статей по двум временным периодам (1970-е–1980-е и 1990-е–2000-е гг.) и отметили различия в основных понятиях, отражающих научный интерес к теме психологии семьи. Если в статьях 1970-х–1980-х гг. наиболее частотным словом являлась «семья», то в 1990-х–2000-х гг. — «неблагополучная семья»; в 1970-х–1980-х с понятием «семья» близкими по частотности были слова «дети», «брак», «семейное воспитание», «патриотическое воспитание», то в 1990-х–2000-х гг. «неблагополучная семья» как ядерное понятие поддерживалось такими словами, как «девиантное поведение», «социальная дезадаптация» (рис.).
Рис. Контент-анализ массива слов из названий статей в исследованиях по психологии семьи в 1970–1980 гг. (слева), словарная база n = 171; в 1990–2000-х гг. (справа), словарная база n = 122 (по статьям, индексированным в РИНЦ) Примечание: наполнение Word-cloud с 3-м пороговым значением по программе Atlas.ti (версия 9.5.6). В облаке с 3-м пороговым значением отображены слова, которые имеют частоту 3 и выше (число вхождений слова в лексическую базу)
Таким образом, согласно статьям 1990-х–2000-х гг., основными выводами о состоянии института семьи в России являются следующие: низкая воспитательная функция; утрата влияния на ребёнка; передача ответственности за семью другим социальным институтам; отсутствие сохранения и передачи культурных традиций от одного поколения к другому; зачастую самостоятельное, без помощи общества преодоление проблем; вынужденность действий без внешней поддержки; склонность к чрезмерному употреблению алкоголя (наркотиков); несистемный характер воспитания детей — от случая к случаю их проблемного поведения. Обратим внимание на важное основание проводимых в этот временной период исследований: большинство из них осуществлялось в русле медицинской модели (нарратива) [13], многие статьи по-прежнему посвящены преимущественно изучению неблагополучной семьи.
Количественного роста исследований семьи в русле позитивной психологии не выявлено и в 2017–2021 гг.: отмечался невысокий интерес к анализу феноменов жизнеспособности семьи у российских психологов. Число работ по жизнеспособности семьи незначительно (табл. 1), в то же время в зарубежной психологии наблюдается заметный рост публикаций: почти в четыре раза с 2017 по 2021 г.
Таблица 1
Число статей российских (база РИНЦ) и зарубежных исследователей (база Mendeley) по жизнеспособности семьи в психологии и других науках
Год | Жизнеспособность семьи в статьях по психологии | Жизнеспособность в статьях по другим наукам | ||
в мире | в России | в мире | в России | |
2017 | 1411 | 4 | 16 696 | 198 |
2018 | 2202 | 6 | 21 312 | 180 |
2019 | 2240 | 6 | 22 068 | 169 |
2020 | 3154 | 1 | 28 770 | 199 |
2021 | 4274 | 8 | 33 327 | 221 |
Среди причин различий между российскими и зарубежными психологами, а также учёными смежных областей знания по числу исследований жизнеспособности отметим следующие:
¡ большинство методов диагностики семьи созданы в XX в. при адаптации зарубежных методик, не всегда проводилась полноценная психометрическая работа с методикой;
¡ сбор эмпирических данных затруднён из-за разнообразия предметов исследования, а также вероятностного влияния множества внутренних и внешних переменных на семью;
¡ сложность разработки дизайна эмпирического исследования;
¡ вероятностная изменчивость переменных вследствие влияния внешних и внутренних факторов;
¡ редкое использование качественных и смешанных методов сбора и анализа эмпирических данных;
¡ разнообразие и постоянное изменение форм семей;
¡ изменение во времени числа субъектов в семье, что усложняет проведение срезов/лонгитюдов.
В зарубежных работах изучение феномена жизнеспособности происходило в рамках условно выделяемых и исторически сложившихся четырёх волн интереса к этому феномену. Концептуализация термина «жизнеспособность» в исследованиях последних лет происходит преимущественно в русле социальной модели и теории экологических систем У. Бронфенбреннера. В них акцент на философию экологического бытия позволяет расширить понимание этого феномена от узкого, детерминированного факторами защиты и риска до системной характеристики человека или семьи. Такой ракурс позволил нам выделить основания для пятой волны изучения жизнеспособности человека, где интерес к семье предоставил возможность системно анализировать происходящие в ней процессы в рамках её экологии.
Мы ставим своей целью исследовать жизнеспособность семьи, так как это расширяет понимание возможностей здоровой семьи, функционирующей в неблагоприятных условиях жизни. Согласно нашим представлениям, жизнеспособность семьи и воспринимаемая социальная поддержка не только оказывают прямое влияние на индивидуальную жизнеспособность члена семьи, но также являются для него защитными факторами.
Эмпирические исследования роли семьи в формировании жизнеспособности человека
Кратко опишем результаты наших исследований, в которых были изучены социально-психологические особенности семей, оказывающие влияние на формирование жизнеспособности человека. В наших работах субъектами исследования были специалисты помогающих профессий (СПП), кандидаты в замещающие родители, профессиональные замещающие родители.
Так, в исследовании Т.Ю. Лотаревой, выполненном под нашим руководством, показано, что семейная / социальная поддержка является одним из наиболее важных компонентов жизнеспособности СПП. Семья, друзья, коллеги — это мощный ресурс для сохранения жизнеспособности человека, к которому он обращается в поисках этой поддержки [14]. Для СПП поддержка коллег, семьи, а также понимание и принятие ими вовлечённости и заинтересованности работой служит очень важным ресурсом жизнеспособности. При этом умение человека выстраивать надёжные отношения с людьми является ключевым условием помощи детям с нарушенной привязанностью. Не случайно у СПП значения показателя находятся на максимальном уровне по Шкале социальной поддержки (MSPSS; Д. Зимет и соавт.). Это указывает на то, что отношения в семье, с друзьями представляют собой надёжный ресурс для СПП. Такие же максимально высокие значения выявлены по шкалам теста «Семейные ресурсы» [15]. Данные по этой группе СПП свидетельствуют о том, что стаж работы связан с семейными ресурсами, в то же время специалисты в одинаковой степени склонны опираться на поддержку семьи. При этом поддержка со стороны членов семьи более выражена в группе СПП со стажем до двух лет. Этот факт мы связываем с тем, что более молодые СПП в силу своего возраста ближе к родительской семье, чем их коллеги старшего возраста [14].
В ряде наших исследований мы изучали кандидатов в замещающие родители и профессиональных замещающих родителей. Актуальность исследований этой группы семей связана с тем, что, несмотря на все усилия государства, некоммерческих организаций, волонтёров, острота проблем сиротства остаётся. Исследования замещающих семей в России имеют определённую тенденцию. По приведённым в табл. 2 данным в 2016–2018 гг. отмечалось повышение научного интереса к феноменам замещающей семьи. Далее — заметное уменьшение количества публикаций, что совпадает со снижением числа сирот в стране. Согласно данным Минпросвещения РФ, у нас по-прежнему катастрофически много сирот (n = 41 958), при этом число россиян, желающих принять в семью на воспитание сироту, заметно меньше (n = 36 795). Также важно отметить, что сокращается число семей, которые, пройдя обучение в школах приёмных родителей, взяли на воспитание в семью ребёнка: с 2010 по 2023 г. этот показатель снизился почти в два раза: в 2021 г. только 34% осуществили свой план. Приведённых цифр достаточно, чтобы согласиться с тем, что исследовательский интерес к проблематике сиротства и замещающего родительства неправомерно и необоснованно, к сожалению, снижается.
Таблица 2
Число статей по проблематике замещающих / приёмных семей за 2013–2023 гг. (по базе РИНЦ)
Год | Замещающая семья | Приёмная семья |
2013 | 20 | 32 |
2014 | 38 | 35 |
2015 | 57 | 54 |
2016 | 90 | 68 |
2017 | 76 | 124 |
2018 | 88 | 95 |
2019 | 73 | 90 |
2020 | 76 | 83 |
2021 | 70 | 70 |
2022 | 74 | 88 |
2023 | 78 | 85 |
Всего | 740 | 824 |
Отмечается, что недостаточная психолого-педагогическая подготовка кандидатов в замещающие родители, а после устройства ребёнка в семью — бессистемная поддержка семьи зачастую приводят к тому, что семья рассматривает прекращение своего статуса замещающей после возврата ребёнка в детский дом, удваивая травматизацию ребёнка [16]. В то же время отсутствие системного подхода к диагностике, обучению и сопровождению заявителей ставит под сомнение прогноз успешности устройства сироты в семью. Было показано, что среди характеристик как детей, так и замещающих семей наиболее сильными факторами, способствующими неуспешности приёмной опеки, являются минимальная степень участия семьи в программах психологической поддержки [17]; недостаточное число профессиональных замещающих семей, которые поддерживают ребёнка, разлучённого на время со своей семьей, а также в процессе возможной его реинтеграции в кровную семью. Как оказывается помощь, имеет ключевое значение, поэтому, говоря о социальной поддержке замещающей семьи, следует учитывать то, как эта поддержка воспринимается ею. Д. Гейт и Н. Хейзел ввели понятие «негативной поддержки», которое подчёркивает тонкую грань между помощью и вмешательством, утратой контроля над собственной жизнью и детьми [18]. Поддержка в этом смысле означает отношение к семье как к необеспеченной ресурсами, социально несостоятельной и, соответственно, слабой, что вполне укладывается в медицинскую модель взаимодействия врача и пациента; с такой ролью семьи не соглашаются большинство современных исследователей [13].
Приведём пример включения понятия «жизнеспособность семьи» в психологическое обследование кандидатов в замещающие родители через поиск признаков этой интегративной характеристики в семье и последующее её развитие. Понятия «жизнеспособность семьи» и связанное с ним «ресурсы» должны рассматриваться как основания для планирования работы с кандидатами в замещающие родители на занятиях и в дальнейшем — с замещающей семьёй и приёмным ребёнком. Понимание замещающими родителями необходимости формирования жизнеспособности у приёмного ребёнка, обращение к его и семейным ресурсам позволят предотвратить возврат ребёнка в детский дом.
За последние 20 лет исследователи семейной поддержки обосновали значимое влияние факторов защиты на способность семьи оказывать эту поддержку. Показано, что благодаря более сильной семейной поддержке снижается риск сердечно-коронарных заболеваний у детей, успешнее проходит социально-психологическая адаптация подростков к условиям школы, колледжа; снижается негативная симптоматика у хронически или тяжело больных детей.
Проведённые нами исследования позволили разработать контекстную модель жизнеспособности семьи, в которой выделенные в ней компоненты («Человек», «Семья», «Общество», «Государство», «Культура») составляют, по нашему мнению, основное содержание системно-экологической концепции жизнеспособности семьи. Понятие «системное» в определении задаёт системную детерминацию разрабатываемой концепции. Понятие «экологическое» задаёт проблемное пространство и ви́дение решения проблем семьи [19, с. 141].
Отметим, что контекстный подход к изучению жизнеспособности человека и семьи также наиболее часто встречается в современных исследованиях этих объектов. Такой подход позволяет различать внутренний контекст жизнедеятельности членов семьи посредством изучения их индивидуально-психологических особенностей, знаний, умений, опыта. Вместе с тем изучение внешнего контекста жизнедеятельности семьи уточняет социальные и культурные влияния, общие для всей семьи внешние и значимые характеристики её жизнеспособности [Там же, с. 139–140].
Заключение
Жизнеспособность семьи рассматривается как признак здорового и социально приемлемого её функционирования. При этом концептуализация понятия «жизнеспособность семьи» происходит через индивидуальные и семейные ресурсы, социальные ресурсы общества, сопоставление роли индивидуальных, семейных и социальных ресурсов. Жизнеспособность семьи формируется благодаря социальной среде, расширенной семье, общественным институтам: морали, религии, государства. Жизнеспособность семьи определяется способностью выстраивать отношения в социальном окружении, своей ролью в этих отношениях: субъекта или объекта, соответственно вступая в субъект-объектные или субъект-субъектные отношения.
На наш взгляд, критерием жизнеспособности семьи является социальное благополучие в условиях неопределённости. Таким образом, изучение положительных характеристик, социального окружения, в частности потенциала семьи, позволяет охватить её разнообразие. При этом операционализация понятия «жизнеспособность семьи» может происходить в периоды устойчивой траектории её здорового функционирования на протяжении длительного времени.
Об авторах
Александр Валентинович Махнач
Институт психологии РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: makhnach@ipran.ru
доктор психологических наук, главный научный сотрудник, заместитель директора по научной работе
РоссияСписок литературы
- Bronfenbrenner U. The ecology of human development: experiments by nature and design. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979.
- Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М.: Наука, 1984.
- Махнач А.В. Жизнеспособность замещающей семьи как малой социальной группы: Автореф. дисс. … д-ра психол. наук. М., 2019.
- Ранер К. Введение в христианское богословие. М.: Библейско-богословский ин-т св. апостола Андрея, 2006.
- O’Leary V. Strength in the face of adversity: individual and social thriving // Journal of Social Issues. 1998. Vol. 54 (2). Pp. 425–446. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1998.tb01228.x.
- Masten A.S., Best K.M., Garmezy N. Resilience and development: contributions from the study of children who overcome adversity // Development and psychopathology. 1990. Vol. 2 (4). Pp. 425–444. https://doi.org/10.1017/S0954579400005812.
- Махнач А.В. Жизнеспособность как междисциплинарное понятие // Психологический журнал. 2012. Т. 33. № 6. С. 84–98.
- Hobfoll S.E., Spielberger C.D. Process of family stress: A response to Boss (1992) and Kazak (1992) // Journal of Family Psychology. 1992. Vol. 6 (2). Pp. 125–127. https://doi.org/10.1037/0893-3200.6.2.125.
- Махнач А.В. Диагностика жизнеспособности и ресурсности замещающих семей как условие профилактики отказов от приёмных детей // Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология труда. 2016. Т. 1. № 1. С. 227–253.
- Peleg O., Peleg M. Is resilience the bridge connecting social and family factors to mental well-being and life satisfaction? // Contemporary Family Therapy. 2024. https://doi.org/10.1007/s10591-024-09707-x.
- Walsh F. Family resilience: Strengths forged through adversity // Normal family processes: Growing diversity and complexity (4th ed.) / F. Walsh (Ed.). New York: The Guilford Press, 2012. Pp. 399–427.
- Hawley D.R., DeHaan L.G. Toward a definition of family resilience: Integrating life-span and family perspectives // Family Process. 1996. Vol. 35 (3). Pp. 283–298. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1996.00283.x.
- Makhnach A.V. Medical and social models of orphanhood: Resilience of adopted children and adoptive families // The Routledge International Handbook of Psychosocial Re-silience / U. Kumar (Ed.). New York: Routledge, 2017. Pp. 202–213.
- Лотарева Т.Ю. Влияние стажа работы на жизнеспособность профессионалов социальной сферы // Социальная психология и общество. 2016. Т. 7. № 4. С. 99–116. https://doi.org/10.17759/sps.2016070407.
- Махнач А.В., Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психологическая диагностика кандидатов в замещающие родители: Практическое руководство. М.: Институт психологии РАН, 2013.
- Carroll A.R. Betrayal trauma and resilience in former foster youth // Emerging Adult-hood. 2022. Vol. 10 (2). Pp. 459–472. https://doi.org/10.1177/2167696820933126.
- Aslamazova L.A., Muhamedrahimov R.J., Vershinina E.A. Family and child characteristics associated with foster care breakdown. Behavioral Sciences. 2019. Vol. 9. Art. 160. https://doi.org/10.3390/bs9120160.
- Ghate D., Hazel N. Parenting in Poor Environments: Stress, Support and Coping. London: Jessica Kingsley Publishers, 2002.
- Махнач А.В. Жизнеспособность человека в условиях неопредёленности // Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология труда. 2020. Т. 5. № 4. С. 131–166. https://doi.org/10.38098/ipran.opwp.2020.17.4.006.
Дополнительные файлы