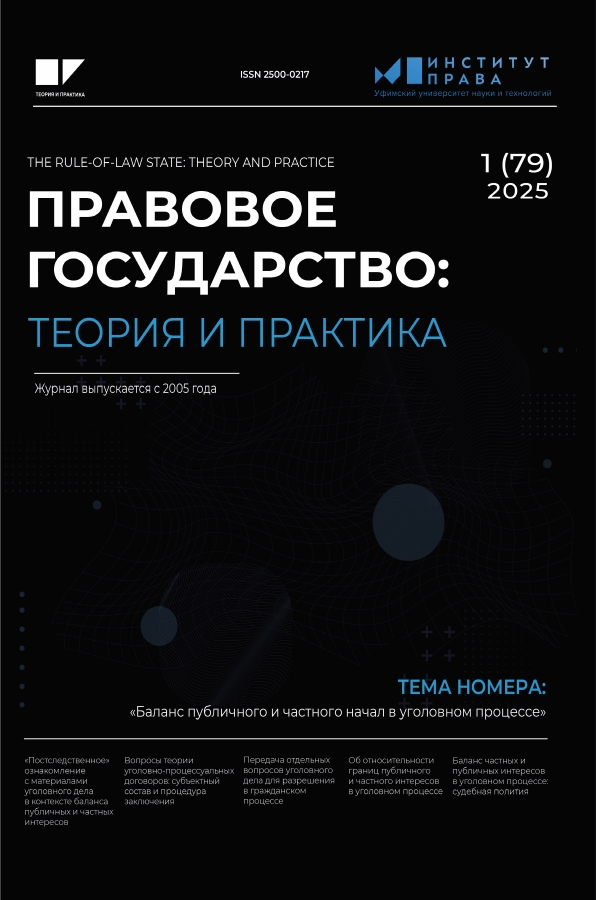“Post-Investigative” Familiarisation with Criminal Case Materials in the Context of Balancing Public and Private Interests
- Авторлар: Rossinsky S.B.1
-
Мекемелер:
- Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences
- Шығарылым: № 1 (2025)
- Беттер: 110-116
- Бөлім: THE BALANCE OF PUBLIC AND PRIVATE PRINCIPLES IN CRIMINAL PROCEEDINGS
- URL: https://bakhtiniada.ru/2500-0217/article/view/289563
- DOI: https://doi.org/10.33184/pravgos-2025.1.12
- ID: 289563
Дәйексөз келтіру
Толық мәтін
Аннотация
The relevance of the article is due to the unsuitability for the needs of law enforcement practice of the currently existing rules to acquaint defendants and lawyers with criminal case materials at the end of the preliminary investigation, primarily because of the predisposition of these rules to intentionally delay such a study. Purpose: to identify the causes that predetermined the emergence of shortcomings in the normative regulation of familiarisation with criminal case materials and to formulate proposals for their elimination. Methods: general scientific (dialectical, systemic, structural-functional, logical, etc.) and specific scientific (formal-legal, historical-legal, prognostic, etc.). Results: the article suggests that there is a need to review conceptual approaches to the procedure of familiarising the accused and his or her counsel with criminal case materials. The article states that in the modern context of the development of pre-trial mechanisms for criminal proceedings there is an objective need for the formation of a new, or rather, a highly updated model of the final part of the preliminary investigation, based on a reasonable balance of public and private interests as the most important condition for the implementation of state policy in the field of criminal justice. The article notes that when developing such a model, first of all, it is necessary to abandon the current extremely high level of comfort for non-powerful participants in criminal proceedings to realise their procedural opportunities.
Негізгі сөздер
Толық мәтін
Введение
Баланс публичности и «частности» в уголовном процессе, разумное соотношение государственных и частных интересов в ходе досудебного и судебного производства по уголовным делам – одна из самых обсуждаемых проблем уголовно-процессуальной доктрины, один из самых трендовых вопросов, попадающих в предмет современных научных изысканий антикриминального характера. И в этом нет ничего удивительного. Ведь, с одной стороны, большинством специалистов признается объективно существующая потребность в поиске нового вектора дальнейшего развития механизмов работы уголовной юстиции, предполагающего недопустимость реставрации некогда существовавшего перегиба – явно гиперболизированного приоритета государственных и общественных интересов над интересами отдельно взятых людей, в первую очередь подвергаемых уголовному преследованию лиц. С другой стороны, сегодня наблюдается постепенный, к слову, давно назревший отказ от научной моды на абсолютизацию западно-либеральных ценностей и детерминированных ими правозащитных идей о принципиально ином соотношении процессуальных сил, то есть о неоспоримом преимуществе «частности» над публичностью, о помещении прав и законных интересов личности на недосягаемый пьедестал.
При таких обстоятельствах поиск оптимального «коэффициента» сбалансированности государственных и частных интересов представляется чуть ли не главной задачей современных научных исследований уголовно-процессуальной направленности, а ее должное разрешение – одним из непреложных условий дальновидности и разумности правотворческой политики в сфере уголовной юстиции. В этой связи Н.В. Азарёнок и А.А. Давлетов правильно указали на особую актуальность и концептуальность поднятой проблемы. Обратив внимание на постепенное угасание стремлений к внедрению состязательной (англосаксонской) модели уголовного правосудия, авторы справедливо констатировали безуспешность предпринятых в данном направлении правотворческих шагов, свидетельствующую об изначальной нежизнеспособности намерений отказаться от традиционного для России континентального (смешанного) типа уголовного судопроизводства. В качестве главного фактора оптимизации уголовно-процессуального законодательства ученые назвали именно баланс публичных и частных интересов [1, с. 36].
Схожие либо предполагающие некоторую вариативность идеи содержатся и в ряде других современных публикаций [2, с. 25; 3, с. 71]. Правда, многие из них ограничиваются лишь правильными тезисами о разумном соотношении публичности и «частности» в уголовном судопроизводстве, общими призывами к балансу государственных и частных интересов как одному из базовых условий дальнейшего развития уголовно-процессуального законодательства. Нередко их авторы не утруждают себя подробным вниканием в нюансы тех или иных правоотношений, не уделяют должного внимания локальным уголовно-процессуальным механизмам и процедурам, не оценивают их на предмет разумной сбалансированности дискреционных полномочий органов предварительного расследования, прокуратуры, суда и диспозитивных правомочий невластных субъектов досудебного либо судебного производства по уголовному делу, не рассматривают конкретные нормативные перекосы в приемлемом соотношении публичности и «частности».
Вместе с тем общеизвестно, что «дьявол кроется в деталях»! Другими словами, именно эти, вроде бы не заслуживающие столь пристального внимания конкретные нормативные перекосы в своей совокупности и свидетельствуют об общем уровне сбалансированности государственных и частных интересов в уголовном процессе, позволяют оценить его на предмет соответствия подлинным потребностям российского социума в сфере уголовной юстиции и традиционному для национального правопорядка континентальному (смешанному) типу уголовного судопроизводства. Причем один из подобных перекосов видится в правовом регулировании установленной ст. 217 УПК РФ процедуры так называемого «постследственного» ознакомления с уголовным делом – ознакомления обвиняемого и его защитника со всеми материалами оконченного производством предварительного следствия1 в преддверии передачи уголовного дела в суд. Стремление к рассмотрению и оценке данной процедуры с точки зрения баланса публичных и частных интересов и предопределило подготовку настоящей статьи.
Правила ознакомления с материалами уголовного дела – наглядный пример разбалансировки публичности и «частности» уголовного процесса
Вообще, ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами оконченного досудебным производством уголовного дела перед направлением в суд с обвинительным заключением – достаточно важный и значимый компонент всего механизма предварительного следствия в целом и его финального фазиса в частности [4, с. 216–217]. Вместе с тем его правовая основа еще весьма далека от совершенства. Ведь содержание ст. 217 УПК РФ сводится к набору «тяжеловесных», не предполагающих филологической эстетики и поэтому достаточно сложно воспринимаемых нормативных положений, в том числе страховочных норм, возникших ввиду явного недоверия «коллективного законодателя» (читай – разработчиков УПК РФ) к должностным лицам органов предварительного расследования, аксиоматичной убежденности в их непорядочности, склонности к злоупотреблениям полномочиями и фальсификациям. К тому же данные положения во многом представляют собой очередные правила уголовно-процессуального делопроизводства, очередные пошаговые инструкции и «памятки», о неприемлемости введения которых в предмет законодательного регулирования уже неоднократно говорилось в публикациях автора настоящей статьи [5, с. 46; 6, с. 131–132]. Наибольшее количество нареканий вызывает вытекающий из смысла этих положений закона дисбаланс публичности и «частности», предполагающий перекос в сторону частных интересов обвиняемого, их превалирование над публичными интересами общества и государства.
Конечно, забота о личности – прямая обязанность государства, предопределенная ст. 2 и рядом других положений Конституции РФ. И в этой связи законодателю, безусловно, надлежит создавать благоприятные условия для реализации вступающими в публичные правоотношения людьми своих прав и законных интересов, в том числе обеспечивать режим комфортности для использования привлекаемыми к уголовной ответственности лицами и их защитниками своих процессуальных возможностей. Однако ни одну благую идею, в частности ценность прав человека в уголовном судопроизводстве, нельзя доводить до абсурда, превращать в абсолютную догму, безразборно подчиняя ей все средства и способы решения какой-либо прикладной, в том числе уголовно-процессуальной, задачи.
Именно такой недостаток и присущ правилам ознакомления обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела, именно эти положения закона можно признать образчиком разбалансировки публичности и «частности» уголовного судопроизводства, типичным нормативным перегибом, во многом обусловленным стремлением к демонстрации всему миру признания в России неких правозащитных ценностей. Например, чем еще можно объяснить подлежащий соблюдению «по умолчанию» запрет на ограничение времени ознакомления с предъявляемыми материалами? Как еще можно истолковать дозволенность повторно обращаться к уже изученным томам уголовного дела? С чем еще можно связать возможность раздельного ознакомления обвиняемого и защитника с предъявляемыми документами (предметами) лишь ввиду их собственного волеизъявления (ходатайства)?
О предрасположенности установленных правил к преднамеренному затягиванию времени ознакомления с материалами уголовного дела
Нетрудно заметить, что все эти юридические преференции, будучи направленными на усиление «частности» и одновременное ослабление публичности уголовного судопроизводства, на создание неоправданно привилегированных условий реализации обвиняемыми и защитниками своих процессуальных возможностей в преддверии завершения предварительного расследования, явно предрасположены к известной форме злоупотребления правом – искусственному затягиванию времени ознакомления с материалами уголовного дела, обусловленному самыми разнообразными причинами: от намерения получить какую-либо выгоду до банального процессуального нигилизма. Поэтому современные следователи нередко сталкиваются с вызванными подобным поведением обвиняемых и защитников практическими трудностями: увеличением сроков досудебного производства, неэффективным расходованием рабочего времени, ростом служебной нагрузки и т. д. Особую актуальность указанные проблемы приобретают на фоне бюрократизации досудебного производства, инкрементального разрастания объемов уголовных дел в целом и материалов отдельных процессуальных действий либо решений в частности, то есть ввиду тех деструктивных тенденций, о которых постоянно говорят и пишут прагматично настроенные ученые-процессуалисты, в первую очередь профессор Б.Я. Гаврилов [7, с. 8].
Конечно, в действующей системе уголовно-процессуального регулирования существуют некоторые правовые рычаги, позволяющие бороться с такой формой злоупотреблений: в ч. 3 ст. 217 УПК РФ предусматривается возможность ограничения времени ознакомления обвиняемых и (или) защитников с материалами уголовных дел. Причем в случаях несоблюдения данных сроков без уважительных причин следователям дозволяется принудительно завершить проводимые ознакомления. К слову, данная возможность появилась только через год после введения УПК РФ в действие, в июле 2003 г., известным девяносто вторым законом2, принятым для устранения целого ряда нормативных изъянов и «недоделок», обнаруженных в ходе первых месяцев применения нового порядка уголовного судопроизводства, тогда как изначальная редакция Кодекса никаких правовых рычагов, позволяющих бороться с подобными злоупотреблениями, вообще не предполагала – существовал абсолютный запрет на ограничение времени ознакомления обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела.
Но говорить об эффективности и повсеместном использовании этих рычагов в правоприменительной практике, увы, не приходится. Ведь любые ограничения темпоральных лимитов изучения обвиняемыми и защитниками уголовных дел допускаются лишь на основании судебных решений. А стремления к получению таких решений, как известно, упираются в трудоемкие, весьма забюрократизированные процедуры, отнимающие у следователей много и без того дефицитного времени. Кроме того, подобные возможности обуславливаются неопределенной, предрасположенной к вариативности толкования гипотезой, сводящейся к некоей явности (!) затягивания ознакомления с предъявляемыми материалами. С одной стороны, использованное законодателем словосочетание «явность затягивания» подразумевает очевидность, бесспорность, несомненность злонамеренного поведения, обусловленного циничным умыслом обвиняемого или защитника, то есть стремлением к преднамеренному увеличению сроков завершающей части предварительного расследования, тогда как с другой – никаких четких критериев, позволяющих распознать подобный умысел, просто не существует, на что справедливо указывается в некоторых публикациях [8, с. 408]. Да и вообще ограничение времени ознакомления с материалами уголовного дела, по смыслу закона, надлежит расценивать не как рассчитанную на повсеместное использование, а как являющуюся исключением из общего правила неординарную меру, подлежащую применению лишь в достаточно редких, единичных ситуациях.
В этой связи некоторые специалисты ратуют за внесение в УПК РФ дополнений, направленных на бо́льшую определенность правовой гипотезы, обуславливающей возможность ограничения сроков ознакомления с предъявляемыми документами (предметами). В первую очередь формулируются предполагаемые к введению в сферу законодательного регулирования критерии распознавания явности, то есть очевидности, бесспорности преднамеренного затягивания реализации права на ознакомление с уголовным делом. В качестве таковых, например, предлагаются: а) несерьезность причин более чем двухкратного уклонения от ознакомления с предъявленными материалами; б) установление объема (например, только один том в день) изучения материалов; в) непродолжительное по времени (например, только час в день) ознакомление с материалами уголовного дела; г) многократное (более трех раз) возвращение к ранее изученным материалам [9, с. 211].
Однако согласиться с такими, равно как и с другими схожими идеями все же достаточно трудно, а если быть более откровенным – решительно невозможно. Ведь, с одной стороны, любые подобные новации представляют собой очередные попытки превращения федерального закона в инструкцию или «памятку» для правоприменителей (в данном случае – превращения УПК РФ в комментарий к самому себе), о неприемлемости которых говорилось ранее. Тогда как с другой стороны, введение столь жестких критериев в предмет уголовно-процессуального регулирования станет еще одним шагом на пути ограничения дискреционной свободы следователей, уменьшения степени их процессуальной самостоятельности, усиления риска впасть в состояние правовой беспомощности при возникновении каких-либо «нештатных» обстоятельств. К тому же разумность предлагаемых критериев не подразумевает никаких серьезных научных обоснований – соответствующие взгляды преимущественно детерминированы не более чем опытом практической работы их авторов.
Но главная погрешность таких идей видится совершенно в другом – в их предопределенности намерением бороться с деталями, не устранив или даже не заметив главного, «купировать» последствия, не выявив причины. А между тем такая причина существует и состоит в некогда допущенной по вине «коллективного законодателя» разбалансировке, в нарушении разумного соотношения публичности и «частности» в уголовном процессе. Этот явный перекос в сторону частных интересов, их превалирования над публичными интересами общества и государства фактически остается незамеченным, в связи с чем никто из современных специалистов даже не пытается подвергать сомнению концепт существующего механизма изучения обвиняемыми и защитниками предъявляемых им для ознакомления документов (предметов), а все вносимые предложения обусловлены неоспоримостью общего нормативного подхода к предусмотренной ст. 217 УПК РФ процедуре, отношением к нему (подходу) как к само собой разумеющейся, аксиоматичной данности.
Заключение
На основании изложенного напрашивается вывод о необходимости пересмотра концептуальных подходов к процедуре ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Представляется, что в современных условиях развития механизмов досудебного производства по уголовному делу существует объективная потребность в формировании новой, а точнее, сильно обновленной модели финальной части предварительного следствия, основанной на балансе публичности и «частности», на разумном соотношении публичных и частных интересов как на важнейшем условии реализации государственной политики в сфере уголовной юстиции. Причем при разработке такой модели в первую очередь надлежит отказаться от существующего на сегодняшний день запредельно высокого уровня комфортности реализации невластными участниками уголовного судопроизводства своих процессуальных возможностей. В частности, из базовых условий ознакомления с уголовным делом разумно наконец исключить нелимитированную продолжительность времени для изучения предъявляемых документов (предметов), ничем не ограниченное право на повторные обращения к уже изученным томам уголовного дела, недопустимость раздельного ознакомления с материалами дела обвиняемого и защитника без их собственного волеизъявления (ходатайства).
Высказывая подобные, на первый взгляд крамольные, идеи, необходимо обратить особое внимание на одно немаловажное обстоятельство. Предлагаемые к исключению из сферы уголовно-процессуального регулирования условия ознакомления с материалами уголовных дел подразумевают достаточно слабую степень согласованности с современными средствами и способами реализации заинтересованными лицами своих процессуальных прав. Ведь любому имеющему, пусть даже самое отдаленное, отношение к реальной правоприменительной практике специалисту должно быть хорошо известно, а всякому «цивилизованному» человеку – понятно, что сегодняшние обвиняемые, другие невластные участники уголовного судопроизводства, в особенности профессиональные адвокаты, изучая предъявляемые материалы, фиксируют их посредством цифровых фотокамер, чаще всего встроенных в смартфоны и прочие «карманные» гаджеты. Между тем предлагаемые к исключению из сферы процессуального регулирования условия ознакомления с уголовными делами, напротив, были и остаются рассчитанными на более примитивные, в чем-то даже архаичные способы изучения и фиксации обвиняемыми и защитниками интересующих их документов (предметов), в первую очередь на внимательное прочтение, порой штудирование предъявляемых материалов в служебных помещениях органов предварительного расследования либо местах содержания под стражей, а также на переписывание наиболее важных фрагментов от руки. Вполне очевидно, что пик востребованности всех подобных способов миновал; они были распространены в уже ушедшую «доцифровую» эпоху. Все возникающие сегодня организационно-технические сложности, связанные с изучением материалов уголовных дел, вполне легко преодолимы путем надлежащего технического оснащения органов предварительного расследования цифровыми средствами фотофиксации документов (предметов).
1 Как известно, правом на ознакомление с материалами оконченного производством предварительного следствия помимо обвиняемого и его защитника наделены потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители. Схожие по предназначению процедуры присущи и ординарному дознанию, и сокращенному дознанию как альтернативным формам предварительного расследования. Вместе с тем все подобные механизмы предполагают высокую степень преемственности по отношению к базовому порядку, предусмотренному ст. 217 УПК РФ. В этой связи с учетом достаточно ограниченного объема настоящей статьи их подробное рассмотрение представляется излишним.
2 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ // Доступ из спав.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Именно таковым автору настоящей статьи видится основное направление дальнейшего развития нормативной базы «постследственного» ознакомления с материалами уголовного дела и оптимизации соответствующей правоприменительной практики.
Авторлар туралы
Sergey Rossinsky
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences
Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: s.rossinskiy@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-3862-3188
Doctor of Law, Professor, Chief Researcher of the Sector of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminology
Ресей, MoscowӘдебиет тізімі
- Davletov A.A., Azarenok N.V. The Balance of Public and Private Interests as a Fundamental Factor in the Formation of the Modern Russian Criminal Process. Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika = Laws of Russia: Experience, Analysis, Practice, 2021, no. 6, pp. 31–37. (In Russian).
- Guskova A.P., Muratova N.G. Judicial Law: History and Modernity of the Judiciary in the Field of Criminal Proceedings. Moscow, Yurist Publ., 2005. 176 p.
- Nasonov A.A. A Reasonable Balance of Public and Private Interests in the Criminal Procedure Sphere and the Role of the Category “Consent” in Its Provision. Obshchestvo i pravo = Society and Law, 2022, no. 2 (80), pp. 71–76. (In Russian).
- Rossinsky S.B. Pre-Trial Proceedings in a Criminal Case. Moscow, Norma: INFRA-M Publ., 2022. 232 p.
- Rossinskiy S.B. Criminal Procedure Code of the Russian Federation: The Embodiment of the “High” Purpose of the Criminal Procedural Form or a “Memo” for Illiterate Law Enforcers. Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika = Laws of Russia: Experience, Analysis, Practice, 2021, no. 6, pp. 42–47. (In Russian).
- Rossinskiy S.B. The Criminal Procedure Form Vs Rules of Criminal Judicial Procedure. Trudy Instituta gosudarstva i prava RAN = Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS, 2023, vol. 18, no. 1, pp. 116–135. (In Russian).
- Gavrilov B.Ya. XX Years of the Russian Criminal Procedure Law: Whether it Meets the Scientific Views and Requirements of the Law Enforcement Officer. Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika = Laws of Russia: Experience, Analysis, Practice, 2021, no. 6, pp. 7–14. (In Russian).
- Golova S.I. Familiarization with the Materials of a Criminal Case as a Guarantee of Protecting the Rights of the Accused at the Stage of Completion of the Preliminary Investigation by Drawing Up an Indictment. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya = Theory and Practice of Social Development, 2013, no. 10, pp. 406–409. (In Russian).
- Ignatiev A.N. Delaying the Process of Familiarization with the Materials of a Criminal Case: Defending the Rights of the Client or a Procedural Violation? Probely v rossijskom zakonodatel'stve. Yuridicheskij zhurnal = Gaps in Russian Legislation. Legal Journal, 2012, no. 2, pp. 210–213. (In Russian).
Қосымша файлдар