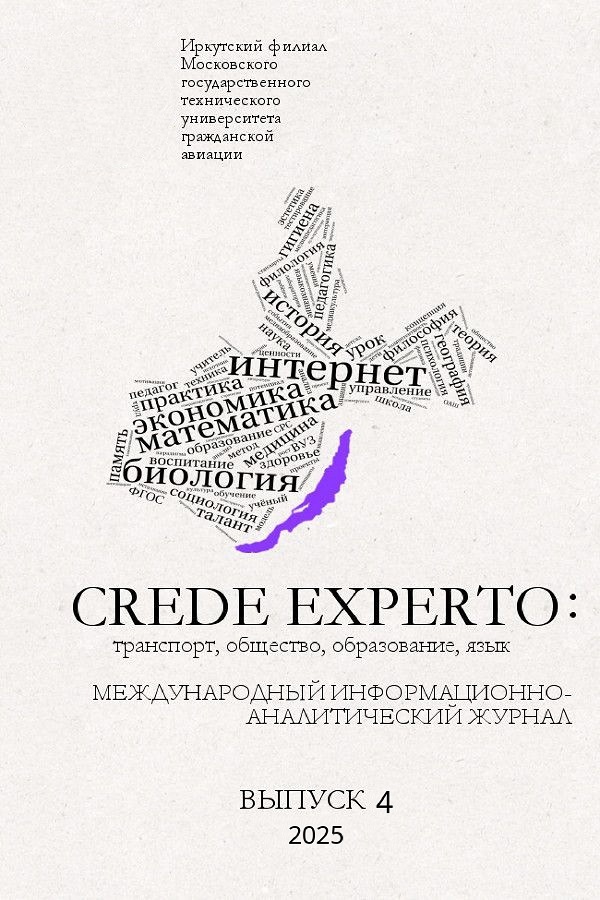The Dongxiang Leipzig-Jakarta List: Similarities and Discrepancies of the 20th and 21st Centuries Sources
- Authors: Novgorodov I.N.
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 192-211
- Section: Altaistics
- URL: https://bakhtiniada.ru/2312-1327/article/view/268458
- DOI: https://doi.org/10.51955/2312-1327_2024_3_192
- ID: 268458
Cite item
Full Text
Abstract
The article presents the Leipzig-Jakarta list of the Dongxiang language according to the sources of the 20th and 21st centuries of domestic and foreign scientists. The authors demonstrate the similarity in the vast majority of words, which indicates the stability of the studied list of the Mongolian language in China. At the same time, some part of the words reveal discrepancies in morphology and their semantics. Studying of the phonological system is necessary for further research of the Dongxiang language.
Full Text
Введение
Статья является продолжением ранее начатых исследований по устойчивому словарному фонду монгольских языков [Новгородов, 2019а; Новгородов, 2019б].
Фундаментальное изучение конвергенции языков алтайской общности актуально, так как ранее раскрытие масштабной древнейшей конвергенции тюркских и монгольских, монгольских и тунгусо-маньчжурских, тунгусо-маньчжурских и корейских, корейских и японских языков было предпринято в первичном виде [Щербак, 1997; Щербак, 2005; Clauson, 1962; Doerfer, 1963; Doerfer, 1985; Vovin, 2010; Janhunen, 2024] (для удобства изложения здесь обозначим указанных авторов антиалтаистами). Из истории алтаистики известно, что антиалтаисты 1) выступают против идей алтаистов о родстве тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, корейских и японских языков (здесь – алтаисты) [Ramstedt, 1957; Poppe, 1960; Miller, 1971; Starostin et al, 2003]; 2) объясняют сходства алтайских языков разновременными заимствованиями, контактами и конвергенциями.
Существует огромное число классификаций тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, которые находятся в зависимости от существующих противоположных подходов в объяснении генезиса алтайской языковой общности.
На наш взгляд, для дальнейшего изучения конвергенции языков алтайской общности целесообразно продолжить изучение устойчивого словарного фонда, на базе которого возможно установление систематизаций тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, корейских и японских языков.
Известно, что алтайская конвергентная языковая общность представлена на огромной территории Евразии от Японского моря на востоке, до Средиземного моря на западе. Значительная часть указанной общности представлена в Китае.
В Китае представлены языки, относящиеся к алтайской языковой общности. Так, наряду с тюркскими и тунгусо-маньчжурскими языками обнаруживаются различные языки монгольских народов. Среди них и язык дунсян.
Дунсяне (самоназвание: сарта (китайское 撒尔塔) или санта; китайское управленческое 东乡族, пиньинь Dōngxiāngzú) – этническое меньшинство в провинции Ганьсу, Китай. Язык относится к монгольской семье. Собственная письменность отсутствует. Большинство дунсян владеют китайским языком. Дунсяне исповедуют ислам, в частности суннизм и ихевани.
Дунсяне в основном живут в предгорьях к западу от реки Тао, к востоку от реки Дася и к югу от реки Хуанхэ в Линься-Хуэйском автономном округе провинции Ганьсу, городе Ланьчжоу, префектуре Динси и тибетском автономном округе Ганьнань. После основания Нового Китая некоторые дунсяне имигрировали из Ганьсу в Синьцзян-Уйгурский автономный округ.
Согласно «Китайскому статистическому ежегоднику-2021», население Дунсян в Китае составляет 774 947 человек.
Дунсяне получили свое название, потому что жили в Дунсяне, в Хэчжоу (ныне Линься, провинция Ганьсу). До основания Нового Китая они не признавались единым этническим меньшинством, и их часто называли «дунсян хуэй» или «монгольский хуэй». Это связано с тем, что народность дунсян очень похожа на народность хуэй на северо-западе с точки зрения образа жизни и религиозных верований, и исторические документы часто относят ее к национальности хуэй.
По историческому происхождению дунсян отсутствуют прямые и полные литературные записи, только отдельные исторические материалы и фрагменты легенд, а в Хэчжоу, где дунсяне жили поколениями, нет отдельных записей, а имеющиеся очень противоречивы. В основном информация черпается из записей народа хуэй, монголов и теории полиэтнической интеграции.
Согласно различным данным предками дунсян были сарты из Средней и Западной Азии. Когда они вернулись с монгольской армией из среднеазиатского похода Чингисхана, они поселились на территории современного Дунсяна и слились с местным населением, таким образом, ханьцы, монголы и другие популяционные группы постепенно образовали дунсян [东乡族].
Дунсянский язык распространён в провинции Ганьсу, а именно в Дунсянском автономном уезде (东乡族自治县, Dongxiang Autonomous County) Линься-Хуэйского автономного округа (临夏回族自治州, Linxia Hui Autonomous Prefecture) и соседних уездах и округах. Дунсянский – разговорный язык, применяемый лишь в обиходно-бытовой сфере как средство общения населения данного автономного уезда. Молодежь и работники административных учреждений в некоторых ситуациях общения пользуются китайским языком. Диалектная система отсутствует. Подробнее можно ознакомиться с языком в специальной научной литературе [Тодаева, 1961].
Науке известны стандартизированные списки базисной лексики. Например, широко известны списки Мориса Сводеша и устойчивого словарного фонда (the Leipzig-Jakarta list). Cписок Сводеша был основан главным образом на интуиции и для преодоления этого недостатка был предложен устойчивый словарный фонд.
Устойчивый словарный фонд выявлен на основе данных самого языка в соответствии с критериями. Как пишут авторы в книге «Loanwords in the World's languages», при создании этого списка слова выделялись по критериям: устойчивость к заимствованию (unborrowed score), всеобщность (representation score), доступность для восприятия (simplicity score), степень архаичности (age score), совокупность указанных данных (composite score) [Tadmor, 2009, p. 68]. Список представляет собой наиболее устойчивую к иноязычному влиянию область лексики. Однако в изучении устойчивого словарного фонда нужно иметь в виду, что любое слово может быть заимствовано, так как не существуют языки, в которых не отражались бы контакты, процессы конвергенции носителей конкретного языка с различными народами. Между тем, каково бы ни было смешение, всегда можно установить основу смешанного языка.
100-словный устойчивый словарный фонд установлен из 18 тематических групп: 1) the physical world/физический мир, 2) kinship/родство, 3) animals/животный мир, 4) the body/части тела, 5) food and drink/еда и питье, 7) the house/дом, 8) agriculture and vegetation/с/х и растительность, 9) basic actions and technology/ основные действия и технология, 10) motion/движение, 11) possession/обладание, 12) spatial relations/пространственные отношения, 13) quantity/количествo, 14) time/время, 15) sense perception/чувственное восприятие, 16) emotions and values/эмоции и ценности, 17) cognition/познание, 18) speech and language/язык и речь, 24) miscellaneous function words / pазличные функциональные слова.
Целью статьи является установление устойчивого словарного фонда (the Leipzig-Jakarta list) дунсянского языка как уникального диагностического признака этого языка.
Для достижения цели поставлены задачи установления источников по дунсянскому языку, так как у авторов статьи не было возможности живого и прямого обсуждения устойчивого словарного фонда с дунсянами. Источниками явились опубликованные в России и Китае, а также на Западе специальные труды. Конкретные источники указаны ниже. Выявление устойчивого словарного фонда (the Leipzig-Jakarta list) дунсянского языка согласно источникам.
Новизной работы является сам факт установления устойчивого словарного фонда дунсянского языка как диагностического признака с учётом источников отечественного языкознания и лингвистики Запада.
Теоретическое значение статьи заключается в создании базиса в виде диагностических данных/признаков в целях классификации современных монгольских языков. Устойчивый словарный фонд является одним из аргументов конвергентного происхождения связей языков алтайской общности и отсутствия их родственных связей.
Практическое значение статьи заключается в установлении диагностических данных/признаков дунсянского языка в виде устойчивого словарного фонда, позволяющего отделить его от других многочисленных языков Китая и, в частности, от других монгольских языков.
В связи с диагностическими данными/признаками необходимо их пояснить. Диагностическими данными/признаками являются позитивные и негативные признаки, по которым группа языков, несколько языков или один язык чётко отграничиваются от всех остальных языков семьи. Таким образом, диагностический признак – это типическая языковая черта, имеющая разные сферы проявления [Щербак, 1994, с. 24]. Диагностические признаки выступают дополнением к дифференциальным признакам языка.
Дифференциальные признаки формируются в недрах праязыка, являются результатом его древнейшей дивергенции или конвергенции и отражаются в современных языках и используются в их классификации. Дифференциальные признаки, используемые для классификации языков, устанавливаются эмпирически. Алтаистами эмпирически не установлены дифференциальные признаки тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, корейского и японских языков, то есть признаки, различающие их и восходящие к алтайскому праязыку, как это было сделано в отношении, например, тюркских языков [Щербак, 1994, с. 12-42]. Алтаисты в качестве объединяющих фонетических аргументов (соответствий) тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, корейских и японских языков приводят, например, «закон Рамстедта-Пельйо», ротацизм, ламбдаизм. Но при этом указанные аргументы не различают тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, корейские и японские языки друг от друга, а объединяют их. Кроме того, эти объединяющие признаки не признаются таковыми антиалтаистами, а считаются ими фактами фонетического освоения заимствований, то есть субституциями фонем. С точки зрения антиалтаистов указанные объединяющие признаки отсутствуют, так как алтайского праязыка не существовало, в недрах которого могли бы возникнуть дифференциальные признаки родственных алтайских языков. Например, алтаисты ротацизм и ламбдаизм рассматривают как важное доказательство их гипотезы. На самом деле праалтайские *-r’(-) и *-l’(-) отделяют чувашский от остальных тюркских языков (в которых они выступают в виде -z(-)/-s(-) и -š(-)/-s(-)), но не различают тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, корейские и японские языки, а «объединяют» их согласно воззрениям алтаистов. Пожалуй, единственный признак, разделяющий тюркские языки от монгольских, тунгусо-маньчжурских, корейских и японских проявляется в рамках действия «закона Рамстедта-Пельйо» (если отвлечься от идей Г. Дёрфера по халаджскому начальному h- (< *p-)), но он не дифференцирует оставшиеся языки. Таким образом, алтаистами не представлены дифференциальные признаки алтайских языков.
При этом необходимо принимать во внимание, что современные языки возникают не только в результате дивергенции, но и конвергенции. В связи с процессами дивергенции и конвергенции в происхождении языка тот или иной дифференциальный признак, возникший в праязыке, может быть утрачен или изменён (трансформирован). В некоторых случаях, в связи с процессами конвергенции, в современных языках происходит смешение дифференциальных признаков. Поэтому большую роль в изучении первоначального состояния языков играют диагностические признаки, в данном случае устойчивый словарный фонд, наряду с конкретной спецификой того или иного языка. Диагностические признаки могут отражать результаты как древнейшей, так и относительно поздней эволюции языков.
Материалы и методы исследования
Основным материалом исследования является монография Б.Х. Тодаевой «Дунсянский язык», изданная в г. Москве в 1961 г., в издательстве «Восточная литература», которая содержит лексические материалы середины XX века. Ценными являются материалы конца XIX века Г.Н. Потанина, представленные Б.Х. Тодаевой в указанной монографии. Этот источник в статье указан как [Тодаева, 1961]. Данные Г.Н. Потанина по дунсянскому языку требуют отдельного специального рассмотрения.
Также в статье использовался материал дунсянско-китайского словаря: Ma Guozhong 马国, Chen Yuanlong 陈元龙. 2012. 东乡语汉语词典 [Дунсянско-китайский словарь]. Gansu Minzu chubanshe. Этот источник в статье указан как [Ma et al., 2012].
Дополнительно был использован материал:
а) дунсянско-китайского словаря: 东乡语词汇 (Лексика дунсянского языка (Словарь дунсян)), изданный 蒙古语族语言方言研究所丛书 (в сборнике (серии) материалов по исследованию монгольских языков и диалектов монгольского языка) 布和等编 1983 (в 1983 году под редакцией Бу Хэ и др.) 内蒙古大学蒙古语文研究所 (Институтом исследования монгольского языка и литературы Университета Внутренней Монголии) (указан как [Bu, 1983]);
б) монографии: Nugteren Hans. 2011. Mongolic Phonology and the Qinghai-Gansu Languages. Utrecht. Thèse de doctorat. Leiden University. 563 p. (указан как [Nugteren, 2011];
в) Жулии Лефорт, младшего научного сотрудника Центра лингвистических исследований Восточной Азии (CRLAO) в Париже, Франция.
Материалы источников подаются в оригинальном написании.
В целях изучения сходств и различий источников XX и XXI веков используется сопоставление словарного состава.
Результаты
Ниже представлен устойчивый словарный фонд дунсянского языка и даны пояснения к нему.
Цифра 1 является порядковым номером пункта устойчивого словарного фонда; ‘ant’ – значением пункта на английском языке; 3. 817 – идентификационным номером списка базы данных «Worldloanword» по конкретной тематической группе, которая доступна по адресу (http://wold.clld.org/meaning); а) – материал Б.Х. Тодаевой; паiбусэ – дунсянская форма слова, написанная кириллицей; [Тодаева, 1961, с. 132] – указание на источник и его страницу; у Г.Н. Потанина па бэ цзу – словарный материал Г.Н. Потанина; б) – материал источника [Ma et al., 2012]; paipuzi – дунсянская форма слова, написанная латиницей; [paipudzi] – транскрипция дунсянского слова согласно сравнительной таблице фонетических знаков дунсянского языка и международных фонетических знаков [Ma et al., 2012, p. 9]; [Ma et al., 2012, p. 343] – указание на источник и его страницу; mǎyǐ – пиньи́нь (китайское 拼音, pīnyīn; более официально: 汉语拼音, Hànyǔ pīnyīn, Ханьюй пиньинь, то есть «Запись звуков китайского языка») – система романизации для путунхуа (китайское традиционное 普通話, управленческое 普通话, пиньинь Pǔtōnghuà) – официального языка в Китайской Народной Республике; 蚂蚁 ‘муравей’ – китайский иероглиф и его значение на русском языке:
1 ant 3.817
а) паiбусэ ‘муравей’ [Тодаева, 1961, с. 132], ср. у Г.Н. Потанина па бэ цзу;
б) paipuzi [paipudzi] [Ma et al., 2012, p. 343] mǎyǐ 蚂蚁 ‘муравей’;
2 arm/hand 4.33
а) kа ‘рука’ [Тодаева, 1961, с. 124], ср. у Г.Н. Потанин ka;
б) kha [qa] [Ma et al., 2012, p. 221] shǒu 手 ‘рука’;
3 ash 1.84
а) kалун фунiэсэн ‘зола’ [Тодаева, 1961, с. 125], фунiэсун ‘зола’, [Тодаева, 1961, с. 138], kалун ‘жаркий’ [Тодаева, 1961, с. 125];
б) funiesun [funiəsuŋ] [Ma et al., 2012, p. 114] huī 灰 ‘пепел’; с точки зрения Ж. Лефорт в дунсянском здесь может быть использована форма fiiniesun [fɯniəsuŋ] ‘пепел’;
4 back 4.19
а) нурун ‘спина’ [Тодаева, 1961, с. 131];
б) beizi [‘bəidzi] [Ma et al., 2012, p. 36] bèizi 背子 ‘спина’, nurun [nuruŋ] [Ma et al., 2012, p. 327] jǐliáng 脊梁 ‘позвоночный столб’;
5 big adjective 12.55
а) фугiэ ‘большой’ [Тодаева, 1961, с. 138] , ср. у Г.Н. Потанина фукэ;
б) fugie [fugiə] [Ma et al., 2012, p. 110] dà 大 ‘большой’;
6 bird 3.581
а) бунджу ‘птица’ [Тодаева, 1961, с. 113], ср. у Г.Н. Потанина шиванг;
б) bunzhu [buŋdʐu] [Ma et al., 2012, p. 50] niǎo 鸟 ‘птица’, siban [‘sibaŋ] [Ma et al., 2012, p. 402] chìbǎng 翅膀 ‘крыло’;
7 to bite 4.58
а) джау- ‘кусать’ [Тодаева, 1961, с. 119], kаджа- ‘кусать’ [Тодаева, 1961, с. 124];
б) zhao- [dʐao] [Ma et al., 2012, p. 496] yǎo 咬 ‘кусать’;
8 bitter adjective 15.37
а) ку ‘горький’ [Тодаева, 1961, с. 123], kышун ‘горький’ [Тодаева, 1961, с. 126];
б) kao [kao] [Ma et al., 2012, p. 218] kǔ 苦 ‘горький’, kuxin [kuɕin] [Ma et al., 2012, p. 252] kǔ xìng 苦性 ‘горечь’;
9 black adjective 15.65
а) kара ‘чёрный’ [Тодаева, 1961, с. 125], ср. у Г.Н. Потанина хара;
б) khara [qara] [Ma et al., 2012, p. 226] hēi 黑 ‘черный’;
10 blood 4.15
а) чусун ‘кровь’ [Тодаева, 1961, с. 141], ср.у Г.Н. Потанина чсун;
б) chusun [tʂusuŋ] [Ma et al., 2012, p. 68] xuè 血 ‘кровь’;
11 to blow (intransitive) 10.38
а) фулiэ- ‘дуть, продувать, выдувать’ [Тодаева, 1961, с. 138];
б) feilie- [fəiliə] [Ma et al., 2012, p. 106] chuī 吹 ‘дуть’;
12 bone 4.16
а) jасун ‘кость’ [Тодаева, 1961, с. 122], ср. у Г.Н. Потанина ясун;
б) yasun [jasuŋ] [Ma et al., 2012, p. 479] gǔ 骨 ‘кость’;
13 breast 4.41
а) эчэн ‘грудная клетка’ [Тодаева, 1961, с. 144];
б) echen[ətʂən] [Ma et al., 2012, p. 92] xiōng 胸 ‘грудь’, gogo [gogo] [Ma et al., 2012, p. 147] rǔfáng 乳房 ‘грудь (женская)’, gogo [Bu, 1983, p. 91] rǔfáng 乳 房 ‘грудь (женская)’;
14 to burn (intransitive) 1.852
а) kан таi- ‘сжигать, поджигать’ [Тодаева, 1961, с. 125], kан ‘огонь’ [Тодаева, 1961, с. 125], таi- ‘ставить, класть, пускать, подпускать’ [Тодаева, 1961, с. 125], шытара-‘гореть’ [Тодаева, 1961, с. 144];
б) sidara- [sidara] [Ma et al., 2012, p. 403] rán 燃 ‘зажигать’; qaŋ tai- , qaŋ sdara- [Bu, 1983, p. 68] zháohuǒ 着火,diǎnhuǒ 点火 ‘зажигать’ ‘поджигать’, qaŋ [Bu, 1983, p. 68] huǒ 火 ‘огонь’;
15 to carry 10.61
а) данла- ‘нести’ [Тодаева, 1961, с. 117], бэйлiэ- ‘нести на спине’ [Тодаева, 1961, с. 113];
б) beilie- [bəiliə] [Ma et al., 2012, p. 35] bèi 背 ‘нести на спине’, danla- [daŋla] [Ma et al., 2012, p. 76] dān 担 ‘нести (на плечах, на коромысле)’;
16 child (kin term) 2.43
а) кыван ‘сын, мальчик’ [Тодаева, 1961, с. 124], ср. кывасыла ‘дети’, ср. у Г.Н. Потанина кывенг;
б) kewon [kəwoŋ] [Ma et al., 2012, p. 221] nánhái 男孩 ‘мальчик’ érzi 儿子 ‘сын’, kewon используется в значении ‘сын’, но обладает семантикой ‘ребёнка’, которая проявляется во множественном числе kewosi [kə ‘wosi] [Ma et al., 2012, p. 221] háizimen 孩子们 ‘дети’;
17 to come 10.48
а) iрэ- ‘приходить’ [Тодаева, 1961, с. 124] ‘приходить’;
б) ire- [irə] [Ma et al., 2012, p. 194] lái 来 ‘приходить’;
18 to crush/to grind ‘давить; дробить/молоть’ 5.56
а) нуду- ‘толочь, измельчать’ [Тодаева, 1961, с. 131];
б) qida- [tɕida] [Ma et al., 2012, p. 358] mó 磨 ‘молоть’, nudu- [nudu] [Ma et al., 2012, p. 326] yán 研 ‘растирать, толочь’, nudu- [Bu, 1983, p. 32] zá 砸 ‘раздавливать; (рас)толочь, (рас)тереть; колоть’;
19 to cry/to weep 16.37
а) уiла- ‘плакать’ [Тодаева, 1961, с. 137], ср. у Г.Н. Потанина выйла-;
б) wila- [wila] [Ma et al., 2012, p. 457] kū 哭 ‘плакать’;
20 to do/to make 9.11
а) кiэ- ‘делать’ [Тодаева, 1961, с. 123];
б) gie- [giə] [Ma et al., 2012, p. 142] gàn干 ‘делать’;
21 dog 3.61
а) ноҕi ‘собака’ [Тодаева, 1961, с. 130], ср. у Г.Н. Потанина нохэй;
б) nogvei [noʁəi] [Ma et al., 2012, p. 323] gǒu 狗 ‘собака’;
22 to drink 5.13
а) очi- ‘пить’ [Тодаева, 1961, с. 132], ср. у Г.Н. Потанина учы-;
б) u- [u] [Ma et al., 2012, p. 438] hē 喝 ‘пить’; otȿi- [Bu, 1983, p. 15] hē 喝 ‘пить’ (воду, чай), u- [Bu, 1983, p. 17] hē 喝 ‘пить’ (большими глотками);
23 ear 4.22
а) чыkэӊ ‘ухо’ [Тодаева, 1961, с. 141] , ср. у Г.Н. Потанина чыкынг;
б) chighin [tʂiɢɯn] [Ma et al., 2012, p. 59] ěrduo 耳朵 ‘ухо’, tʂiɢəŋ ‘ухо’ [Bu, 1983, p. 160];
24 to eat 5.11
а) iджiэ-‘есть, кушать’ [Тодаева, 1961, с. 121], ср. у Г.Н. Потанина ичжэ-;
б) ijie- [iʥiə] [Ma et al., 2012, p. 189] chī 吃 ‘есть’;
25 egg 5.97
а) эндэҕi ‘яйцо’ [Тодаева, 1961, с. 144] , ср. у Г.Н. Потанина эндыгэй;
б) endegvei [əndəʁəi] [Ma et al., 2012, p. 95] dàn 蛋 ‘яйцо’;
26 eye 4.21
а) нудуӊ ‘глаз’ [Тодаева, 1961, с. 131], ср. у Г.Н. Потанина нутунг;
б) nudun [nuduŋ] [Ma et al., 2012, p. 326] yǎnjing 眼睛 ‘глаз’;
27 to fall 10.23
а) бау- ‘спускаться, сходить, слезать’ [Тодаева, 1961, с. 112], джiэлiэ-‘падать’ [Тодаева, 1961, с. 119], уна- ‘падать, сваливаться’ [Тодаева, 1961, с. 137];
б) bao- [bao] [Ma et al., 2012, p. 27] xià 下 ‘падать вниз’, una- [una] [Ma et al., 2012, p. 442] dǎo 倒 ‘падать, сваливаться’, сходный во внешнем облике глагол в материале Б.Х. Тодаевой выступает в другом значении jielie- [dʐiəliə] [Ma et al., 2012, p. 204] jiē 接 ‘принимать’;
28 far adverb 12.44
а) ҕоло, ҕолонi ‘далеко’ [Тодаева, 1961, с. 116];
б) gholo [ɢolo] [Ma et al., 2012, p.133] yuǎn 远 ‘далеко’;
29 fire 1.81
а) kан ‘огонь’ [Тодаева, 1961, с. 125], ср. у Г.Н. Потанина канг;
б) khan [qaŋ] [Ma et al., 2012, p. 224] huǒ 火‘огонь’;
30 fish 3.65
а) джаҕасун ‘рыба’ [Тодаева, 1961, с. 119];
б) zhagvasun [dʐаʁаsuŋ] [Ma et al., 2012, p. 493] yú 鱼 ‘рыба’;
31 flesh/meat 4.13
а) мiҕа ‘мясо’ [Тодаева, 1961, с. 128], ср. у Г.Н. Потанина мига;
б) migva [miʁa] [Ma et al., 2012, p.287] ròu 肉 ‘мясо’;
32 fly 3.83
а) шунбун ‘муха’ [Тодаева, 1961, с. 143];
б) shunbun [ʂuŋbuŋ] [Ma et al., 2012, p.401] cāngying 苍蝇 ‘муха’;
33 to give 11.21
а) огi- ‘дать’ [Тодаева, 1961, с. 131];
б) ogi- [ogi] [Ma et al., 2012, p. 331] gěi 给 ‘давать’, с точки зрения Ж. Лефорт в дунсянском здесь могут быть использованы глаголы ogi-/agi- в значении ‘давать’ [Bu, 1983, p. 2, 13];
34 to go 10.47
а) jаву- ‘ходить’ [Тодаева, 1961, с. 122], эчы- ‘идти’ [Тодаева, 1961, с. 144];
б) echi- [ətʂi] [Ma et al., 2012, p. 92] qù 去 ‘идти’, yawu- [jawu] [Ma et al., 2012, p. 480] zǒu 走 ‘ходить’;
35 good adjective 16.71
а) гау, гаунi ‘хорошо, хороший’ [Тодаева, 1961, с. 114];
б) gao [gao] [Ma et al., 2012, p. 121] hǎo 好 ‘хорошо’;
36 hair 4.14
а) усуӊ ‘волосы’ [Тодаева, 1961, с. 138], ср. у Г.Н. Потанина усун;
б) usun [usuŋ] [Ma et al., 2012, p. 449] tóufa 头发 ‘волосы’;
37 hard adjective 15.74
а) кытун, кытуннi ‘твёрдый’ [Тодаева, 1961, с. 126];
б) khidun [qɯduŋ] [Ma et al., 2012, p. 230] yìng 硬 ‘твердый’;
38 he/she/it/him/her 2.931
а) hэ ‘он’ [Тодаева, 1961, с. 140], эҕэн ‘он’ [Тодаева, 1961, с. 144];
б) tere/hhe/hhe tere [tərə]/[hə] [Ma et al., 2012, p. 426, 170] tā 他 / 她 ‘он’ ‘она’ ‘его’ ‘её’, egven [əʁən] [Ma et al., 2012, p. 93] tā 他 / 她 ‘он’ ‘она’;
39 to hear 15.41
а) соносу-‘слушать, услышать’ [Тодаева, 1961, с. 133], чэнлiэ- ‘слушать, услышать, прислушиться, подслушать’ [Тодаева, 1961, с. 141], чыkэӊда-‘слышать, услышать’ [Тодаева, 1961, с. 141];
б) chenlie- [tʂənliə] [Ma et al., 2012, p. 58] tīng 听 ‘слышать’; sonosu- [sonosu] [Ma et al., 2012, p. 407] tīngjiàn 听见 ‘слышать’, chighinda- [tʂiɢɯnda] [Ma et al., 2012, p. 60] dǎting 打听 ‘осведомляться’, ‘шептать/говорить на ухо тихо’;
40 heavy adjective 15.81
а) гунду, гундунi ‘тяжёлый’ [Тодаева, 1961, с. 115];
б) gundu [guŋdu] [Ma et al., 2012, p. 155] zhòng 重 ‘тяжелый’;
41 to hide (transitive) 12.27
а) нiу- ‘прятать, таить’ [Тодаева, 1961, с. 130];
б) niu- [niu] [Ma et al., 2012, p. 322] duǒ 躲 ‘прятаться’;
42 to hit/to beat 9.21
а) эҕы- ‘бить’ [Тодаева, 1961, с. 144];
б) egvi- [əʁɯ] [Ma et al., 2012, p. 93] dǎ 打 ‘бить’;
43 horn 4.17
а) эвэ ‘рог’ [Тодаева, 1961, с. 144];
б) ewe [əwə] [Ma et al., 2012, p. 102] jiǎo 角 ‘рог’;
44 house 7.12
а) гiэ ‘дом, здание’ [Тодаева, 1961, с. 114], ср. у Г.Н. Потанина кэ;
б) gie [giə] [Ma et al., 2012, p. 142] fángzi 房子 ‘дом’;
45 I/me 2.91
а) бi ‘я’ [Тодаева, 1961, с. 112];
б) bi [bi] [Ma et al., 2012, p. 39] wǒ 我 ‘я’;
46 in в 12.012
а) джiэрэ ‘в, на’, ‘наверху’ [Тодаева, 1961, с. 120], соторо ‘в’, ‘внутри’, ‘потроха’, ‘потроха’ [Тодаева, 1961, с. 133];
б) sudoro [sudoro] [Ma et al., 2012, p. 409] lǐbiān 里边 ‘внутри’; jiere [dʐiərə] [Ma et al., 2012, p. 207] shàngmian 上面 ‘на’;
47 knee 4.36
а) одэу ‘колено’ [Тодаева, 1961, с. 131], ср. у Г.Н. Потанина уату;
б) odou [odəu] [Ma et al., 2012, p. 330] xīgài 膝盖 ‘колено’;
48 to know17.17
а) мэджiэ- ‘знать’ [Тодаева, 1961, с. 129];
б) meijie- [məʥiə] [Ma et al., 2012, p. 282] zhīdao 知道 ‘знать’;
49 to laugh 16.25
а) шiнiэ- ‘смеяться’ [Тодаева, 1961, с. 129];
б) xinie- [ɕiniə] [Ma et al., 2012, p. 472] xiào 笑 ‘смеяться’;
50 leaf 8.56
а) лачын ‘лист’ [Тодаева, 1961, с. 127], ср. у Г.Н.Потанина лачын;
б) lachin [latʂin] [Ma et al., 2012, p. 253] yèzi 叶子 ‘лист’;
51 leg/foot 4.35
а) куан ‘нога’ [Тодаева, 1961, с. 123], шыҕара ‘нога’, ‘нога (ступня)’ [Тодаева, 1961, с. 11, 43], ср. у Г.Н. Потанина шикара;
б) kon [koŋ] [Ma et al., 2012, p. 243] jiǎo 脚 ‘нога (ступня)’, shighara [ʂiɢara] [Ma et al., 2012, p. 391] tuǐ 腿 ‘нога’;
52 liver печень 4.45
а) ‘печень’ у Б.Х. Тодаевой не отмечено;
б) shiro [ʂiro] [Ma et al., 2012, p. 396] gān 肝 ‘печень’;
53 long adjective spatial relations 12.57
а) фуду ‘длинный’ [Тодаева, 1961, с. 138];
б) fudu [fudu] [Ma et al., 2012, p. 109] cháng 长 ‘длинный’;
54 louse вошь 3.811 the head louse, 3.8112 the body louse
а) ‘вошь’ у Б.Х. Тодаевой не отмечено;
б) bosun [bosuŋ] [Ma et al., 2012, p. 47] shīzi 虱子 ‘вошь’;
55 mouth 4.24
а) амаӊ ‘рот’ [Тодаева, 1961, с. 110], ср. у Г.Н. Потанина аманг;
б) aman [amaŋ] [Ma et al., 2012, p. 7] kǒu 口‘рот’;
56 name 18.28
а) нэрэ ‘имя’ [Тодаева, 1961, с. 131]; ср. у Г.Н. Потанина нэрэ;
б) nere [nərə/niərə] [Ma et al., 2012, p. 313, 318] míng 名 ‘имя’;
57 navel 4.43
а) ‘пуп, пупок ‘ у Б.Х. Тодаевой не отмечено;
б) kuaisun [kuaisuŋ] [Ma et al., 2012, p. 246] dùqí 肚脐 ‘пупок’;
58 neck 4.28
а) ҕуджун ‘шея’ [Тодаева, 1961, с. 116], ҕыджыҕi ‘шея’, ‘коса’ [Тодаева, с. 117];
б) ghuzhun [ɢudʐuŋ] [Ma et al., 2012, p. 142] bózi 脖子 ‘шея’, ghizhigvei [ɢɯdʐiʁəi] [Ma et al., 2012, p. 131] jǐng 颈 ‘шея’;
59 new adjective 14.13
а) шынi ‘новый’ [Тодаева, 1961, с. 143];
б) shini [şini] [Ma et al., 2012, p. 393] xīn 新 ‘новый’;
60 night 14.42
а) шiэнi ‘ночь’ [Тодаева, 1961, с. 142], ср. у Г.Н. Потанина сени;
б) onjien [oŋʥiən] [Ma et al., 2012, p. 336] wǎn 晚 ‘ночь’, xieni [ɕiəni] [Ma et al., 2012, p. 467] yèjiān 夜间 ‘ночь’;
61 nose 4.23
а) kава ‘нос’ [Тодаева, 1961, с. 142], ср. у Г.Н. Потанина кава;
б) khawa [qawa] [Ma et al., 2012, p. 228] bí zi 鼻子 ‘нос’;
62 not 24.06
а) бу ‘не’ [Тодаева, 1961, с. 113], улiэ ‘нет’ [Тодаева, 1961, с. 137], эсэ ‘не’ [Тодаева, 1961, с. 144];
б) wi [wi] [Ma et al., 2012, p. 456] méiyǒu 没有 ‘нет’, bùzài 不在 ‘отсутствие’ (используется с частицами ya и ye, которые добавляются после wi, причём wi нельзя использовать отдельно), ulie [uliə] [Ma et al., 2012, p.442] bù 不 ‘нет, не’; ese [əsə] [Ma et al., 2012, p. 101] méi 没 ‘без’, ‘нет, не’;
63 old adjective14.15
а) очiэн ‘старый’ [Тодаева, 1961, с. 132];
б) oqiao [oʨiao] [Ma et al., 2012, p. 336] lǎo 老 ‘старый’;
64 one 13.01
а) ji ‘один’ [Тодаева, 1961, с. 122], нiэ ‘один’ [Тодаева, с. 130];
б) nie [niə] [Ma et al., 2012, p. 314] yī 一 ‘один’;
65 rain 1.75
а) ҕура ‘дождь’ [Тодаева,1961, с. 116];
б) ghura [ɢura] [Ma et al., 2012, p. 139] yǔ 雨 ‘дождь’;
66 red adjective 15.66
а) хулаҕан ‘красноватый’ [Тодаева, 1961, с. 139], хулан, хуланнi ‘красный’ [Тодаева, 1961, с. 139], ср. у Г.Н. Потанина хуланг, хупулаҕан ‘красный, красноватый’, ср. ув улаан [Тодаева, 1961, с. 139], чiмiэн ‘красный’, ‘изящный’ [Тодаева, 1961, с. 140];
б) hulan [χulaŋ] [Ma et al., 2012, p. 185] hóng 红 ‘красный’, qimien [tɕimiən] [Ma et al., 2012, p. 364] tǐmiàn 体面 ‘приятный (о внешности)’;
67 root 8.54
а) ‘корень’ у Б.Х. Тодаевой не отмечено;
б) giinzi [gɯndzi] [Ma et al., 2012, p. 147] gēnzi 根子 ‘корень’, undusun, untusun ‘корень’ [Nugteren, 2011, p. 541];
68 rope 9.19 91
а) джiэсун ‘верёвка’ [Тодаева, 1961, с. 120];
б) jiesun [ʥiəsuŋ] [Ma et al., 2012, p. 208] shéngzi 绳子 ‘веревка’;
69 to run (intransitive) 10.46
а) холу- ‘бегать’ [Тодаева, 1961, с. 139];
б) holu- [χolu] [Ma et al., 2012, p. 176] pǎo 跑 ‘бежать’;
70 salt 5.81
а) дансун ‘соль’ [Тодаева, с. 117], ср. у Г.Н. Потанина дабасун;
б) dansun [daŋsuŋ] [Ma et al., 2012, p. 76] yán 盐 ‘соль’;
71 sand 1.215
а) шазы ‘песок’ [Тодаева, 1961, с. 142];
б) shazi [ʂadzi] [Ma et al., 2012, p. 387] shāzi 沙子 ‘песок’;
72 to say 18.22
а) кiэлiэ- ‘говорить, рассказывать’ [Тодаева, 1961, с. 123], ср. у Г.Н. Потанина кэли;
б) kielie- [kiəliə] [Ma et al., 2012, p. 238] shuō 说 ‘говорить’;
73 to see 15.51
а) уджэ- ‘смотреть, рассматривать, лечить’ [Тодаева, 1961, с. 137];
б) uzhe- [udʐə] [Ma et al., 2012, p. 450] kàn 看 ‘видеть’;
74 shade/shadow 1.63
а) ‘тень’ у Б.Х. Тодаевой не отмечено;
б) xiaojiao [ɕiaoʥiao] [Ma et al., 2012, p. 463] yǐngzi 影子 ‘тень’;
75 skin/hide 4.12
а) арасун ‘кожа, шкура’, ‘кожица, тонкий покров, корка, шелуха’ [Тодаева, 1961, с. 18, 111], ср. у Г.Н. Потанина арасун;
б) arasun [arasuŋ] [Ma et al., 2012, p. 16] pí 皮 ‘кожа’;
76 small adjective 12.56
а) га ‘маленький’ [Тодаева, 1961, с. 114], мэiла мэiланi ‘маленький’ [Тодаева, 1961, с. 129], ср. у Г.Н. Потанин мила;
б) ga [ga] [Ma et al., 2012, p. 117] xiǎo 小 ‘маленький’, mila [mila] [Ma et al., 2012, p. 289] xiǎo 小 ‘маленький’;
77 smoke 1.83
а) фунiэ ‘дымка, мгла’ [Тодаева, 1961, с. 138];
б) funi [funi] [Ma et al., 2012, p. 113] yān 烟 ‘дым’;
78 soil 1.212
а) тура ‘земля, прах’ [Тодаева, 1961, с. 136], тура (шура) ‘земля’ [Тодаева, 1961, с. 6], ҕаджа ‘земля, почва’ [Тодаева, 1961, с. 116], ср. у Г.Н. Потанина kачжа;
б) tura [tura] [Ma et al., 2012, p. 436] tǔ 土 ‘земля’, ghazha [ɢadʐa] [Ma et al., 2012, p. 127] dì 地 ‘земля’;
79 to stand 12.15
а) баi- ‘стоять’ [Тодаева, 1961, с. 111];
б) bai- [bai] [Ma et al., 2012, p. 23] zhàn 站 ‘стоять’;
80 star 1.54
а) ходун ‘звезда’ [Тодаева, 1961, с. 139], ср. у Г.Н. Потанина хотун;
б) hodun [χoduŋ] [Ma et al., 2012, p. 175] xīng 星 ‘звезда’;
81 stone/rock 1.44
а) ташы ‘камень’ [Тодаева, 1961, с. 135], ср. у Г.Н. Потанина ташь;
б) tashi [taȿi] [Ma et al., 2012, p. 423] shítou 石头 ‘камень’;
82 to suck 5.16
а) гого- ‘сосать’ [Тодаева, 1961, с. 114], лашы- ‘сосать’ [Тодаева, 1961, с. 127];
б) gogo- [Bu, 1983, p. 91] shǔn rǔ 吮乳 ‘вскармливать грудью’, gogo- [gogo] [Ma et al., 2012, p. 147] shǔn nǎi 吮奶 ‘сосать молоко’, chī nǎi 吃奶 ‘кормить грудью’, gogogva- [gogoʁa] [Ma et al., 2012, p. 148] bǔrǔ 哺乳, shǔn 吮 ‘сосать, кормить грудью’, lashi- [laȿi] [Ma et al., 2012, p. 257] yòng zuǐ xīzhe chī 用嘴吸着吃 ‘есть ртом, всасывая’; xiyi- [ɕiji] [Ma et al., 2012, p. 474] xī 吸 ‘вдыхать, втягивать, всасывать’;
83 sweet adjective 15.35
а) андату ‘вкусный’ [Тодаева, 1961, с. 111];
б) andatu [aŋdatu] [Ma et al., 2012, p. 13] kěkǒude 可口的 ‘вкусный’, xiāng 香 ‘ароматный’;
84 tail 4.18
а) шiэӊ ‘хвост’ [Тодаева, 1961, с. 142], ср. у Г.Н. Потанина шянг;
б) xien [ɕiən] [Ma et al., 2012, p. 467] wěiba 尾巴 ‘хвост’;
85 to take 11.13
а) агi- ‘брать’ [Тодаева, 1961, с. 110];
б) agi- [agi] [Ma et al., 2012, p. 3] ná 拿, qǔ 取 ‘take’, с точки зрения Ж. Лефорт в дунсянском здесь могут быть использованы глаголы ogi-/agi- в значении ‘брать’ [Bu, 1983, p. 2, 13];
86 thick adjective 12.63
а) джуджан ‘толстый’ [Тодаева, 1983, с. 120], бiэдун ‘толстый’ Тодаева [Тодаева, 1961, с. 24, 122];
б) zhuzhan [dʐudʐaŋ] [Ma et al., 2012, p. 513] hòu 厚 ‘толстый’, biedun [biəduŋ] [Ma et al., 2012, p. 39] cū 粗 ‘широкий, толстый’;
87 thigh 4.351
а) ‘бедро’ у Б.Х. Тодаевой не отмечено;
б) boya [boja] [Ma et al., 2012, p. 48] dàtuǐ 大腿 ‘бедро’, ġuya [Nugteren, 2011, p. 345], ɢuja [Bu, 1983, p. 85] xiǎotuǐ 小腿 ‘голень’;
88 this 24.07
а) энэ ‘это’ [Тодаева, 1961, с. 144];
б) ene [ənə] [Ma et al., 2012, p. 96] zhèige 这个 ‘это/этот’;
89 to tie 9.16
а) джiэсунла- ‘связывать’ [Тодаева, 1961, с. 120];
б) zhayi- [dʐaji] [Ma et al., 2012, p. 499] zā 扎 ‘связать’;
90 tongue 4.26
а) кiэлiэн ‘язык’ [Тодаева, 1961, с. 123], ср.у Г.Н. Потанина кэлэн;
б) kielien [kiəliən] [Ma et al., 2012, p. 239] shétou 舌头 ‘язык’;
91 tooth 4.27
а) jа ‘зуб’ [Тодаева, 1961, с. 122], шыдуӊ ‘зуб’ [Тодаева, 1961, с. 143], ср. у Г.Н. Потанина шитунг;
б) shidun [ȿiduŋ] [Ma et al., 2012, p. 390] yáchǐ 牙齿 ‘зуб’;
92 water 1.31
а) усу ‘вода’ [Тодаева, 1961, с. 137];
б) usu [usu] [Ma et al., 2012, p. 448] shuǐ 水 ‘вода’;
93 what? 17.64
а) jан ‘что’ [Тодаева, 1961, с. 122];
б) yan [jaŋ] [Ma et al., 2012, p. 476] shénme 什么 ‘что?’;
94 who? 17.68
а) кiэн ‘кто’ [Тодаева, 1961, с. 123];
б) kien [kiən] [Ma et al., 2012, p. 241] sheí 谁 ‘кто?’
95 wide adjective 12.61
а) агуi агуiнi ‘обширный, необъятный’ [Тодаева, 1961, с. 110];
б) agvui [aʁui] [Ma et al., 2012, p. 3] kuān 宽 ‘широкий’;
96 wind 1.72
а) кэi ‘ветер’ [Тодаева, 1961, с. 124];
б) kai [kai] [Ma et al., 2012, p. 216] fēng 风 ‘ветер’;
97 wing 4.392
а) сыбан ‘крыло’ [Тодаева, 1961, с. 134];
б) siban [‘sibaŋ] [Ma et al., 2012, p. 402] chìbǎng 翅膀 ‘крыло’;
98 wood 1.43
а) мутун ‘дерево, деревянный’ [Тодаева, 1961, с. 129], ср. у Г.Н. Потанина мутун;
б) mutun [mutuŋ] [Ma et al., 2012, p. 301] shù 树 ‘дерево’, mùtou 木头
‘дерево’ ‘древесина’;
99 yesterday 14.49
б) учуҕуду ‘вчера’ [Тодаева, 1961, с. 138];
б) fuzhugvudu [fudʐuʁudu] [Ma et al., 2012, p. 116] zuótiān 昨天 ‘вчера’;
100 you (singular) 2.92
а) чи ‘ты’ [Тодаева, 1961, с. 141];
б) chi [tʂi] [Ma et al., 2012, p. 58] nǐ 你 ‘ты’.
Обсуждение
В источнике XX века впервые предпринято систематическое описание дунсянского языка согласно традициям советского языкознания. В источниках XXI века продолжено описание дунсянского языка на базе достижений лингвистики Китая и Запада.
В источниках XX и XXI веков дунсянского языка обнаружено подавляющее большинство внешне сходных слов при наличии незначительного числа расхождений, что свидетельствует о стабильности развития устойчивого словарного фонда изучаемого языка в соответствующих тематических группах.
Существенным различием, несмотря на сходство во внешнем облике подавляющего большинства слов в источниках XX и XXI веков, является различная трактовка фонетической системы дунсянского языка.
Например, положительной стороной работы Б.Х. Тодаевой является разработка фонологии дунсянского языка [Тодаева, 1961, с. 7, с. 12]. Фонологическая система использована в написании дунсянских слов средствами кириллицы. Однако несколько настораживает объявление согласных к и г переднеязычными, отсутствие фонологической оппозиции гласных по долготе/краткости [Тодаева, 1961, с. 7, с. 12]. В этой связи требуется дополнительное изучение фонетики дунсянского языка и установление особенностей его фонологической системы.
На Западе и судя по китайскому источнику [Ma et al., 2012] в алфавитных системах не используется продвинутая советская фонологическая система и её выражение в латинской алфавитной системе, ср.: «Сравнительная таблица фонетических знаков дунсянского языка и международных фонетических знаков» [Ma et al., 2012, p. 9]. Из-за этого система написания дунсянских слов средствами латиницы имеет несколько осложнённый характер, например, имеются трифтонги (iao, uai), передача аффрикат (ср. у Б.Х. Тодаевой всего две: ч, дж) представлена многими знаками (ʥ, ʨ, dʐ, tʂ, dz, ts) [Ma et al., 2012, p. 9], наличие значительного количества диграфов в обозначении согласных: gh – [ɢ], kh – [q], gv – [ʁ] и т.д.
Различия в морфологии слов в источниках немногочисленны. Примеры:
в пункте № 22 наряду с обнаруженной разницей в семантике в словах со значением ‘пить’ прослеживается аффикс глаголообразования -чы. У Б.Х. Тодаевой аффикс представлен в словоформе очi- [Тодаева, 1961, с. 132] (ср. у Г.Н. Потанина учы-), в источнике [Ma et al., 2012] указанный аффикс отсутствует u-[u] [Ma et al., 2012, p. 438], в словаре Bu He обнаружены оба варианта с незначительной разницей в периферийных значениях otȿi- [Bu, 1983, p. 15] ‘пить’ (с комментарием «пить чай, вино и т.д.»), u- [Bu, 1983, p. 17] ‘пить’ (с комментарием «большими глотками пить воду и т.д.»);
в пункте № 16 о наличии семантики ‘ребёнок’ в слове кыван –кыван ‘сын, мальчик’ свидетельствуют формы множественного числа: кывасыла – kewosi ‘дети’, причём в последней отсутствует показатель множественного числа -ла.
Анализ источников показал, что в источнике Б.Х. Тодаевой отсутствуют слова для обозначения пунктов: № 54 liver ‘печень’ 4.45, № 57 navel 4.43 ‘пупок’, № 887 thigh 4.351 ‘бедро’ (тематическая группа «части тела»), № 54 louse ‘вошь’ 3.811 (тематическая группа «животные»), № 67 root 8.54 ‘корень’ (тематическая группа «сельское хозяйство и растительность»), № 74 shade/shadow 1.63 ‘тень’ (тематическая группа «физический мир»).
В источниках различаются слова, обозначающие пункты, например:
в пункте № 62 обнаружена разница в словах со значением обозначения ‘нет, не’. У Б.Х. Тодаевой обнаруживаем серию: бу ‘не’ [Тодаева, 1961, с. 113], улiэ ‘нет’ [Тодаева, 1961, с. 137], эсэ ‘не’ [Тодаева, 1961, с. 144], в источнике [Ma et al., 2012] к этому ряду примыкает wi [wi] [Ma et al., 2012, p. 456] méiyǒu 没有 ‘нет’, bùzài 不在 ‘отсутствие’ (используется с частицами ya и ye, которые добавляются после wi, причём wi нельзя использовать отдельно);
в пункте № 89 to tie 9.16 ‘связывать’ у Б.Х. Тодаевой джiэсунла- [Тодаева, 1961, с. 120], глагол, образованный от джiэсун ‘веревка’, однако в источнике [Ma et al., 2012] он не обнаружен, и глагол ‘связывать’ представлен формой zhayi- [dʐaji] [Ma et al., 2012, p. 499], образованной от китайского zā 扎 ‘связывать’, в словаре Bu He представлены оба варианта, но у глагола ʥiəsula- [Bu, 1983, p. 168] указано значение ‘измерять с помощью веревки’.
Частичное различие представляют собой пункты:
№ 4 back 4.19 ‘спина’ у Тодаевой Б.Х. нурун [Тодаева, 1961, с. 131], в источнике [Ma et al., 2012] beizi [‘bəidzi] [Ma et al., 2012, p. 36];
№ 8 bitter 15.37 ‘горький’ у Б.Х. Тодаевой записаны как ку [Тодаева, 1961, с. 123] и kышун ‘горький’ [Тодаева, 1961, с. 126], в источнике [Ma et al., 2012] kao [kao] [Ma et al., 2012, p. 218], однако в данном источнике также есть слово kuxin [kuɕin] [Ma et al., 2012, p. 252] со значением имени существительного ‘горечь’;
№ 64 one 13.01 ‘один’ у Тодаевой для данного понятия указаны два слова ji [Тодаева, 1961, с. 122] и нiэ [Тодаева, 1961, с. 130], тогда как в источнике [Ma et al., 2012] отсутствует ji, обнаружено только nie [niə] [Ma et al., 2012, p. 314].
Далее обнаруживается сдвиг в семантике слов, например:
в пункте № 4 в источнике а) представлено нурун в значении ‘спина’, в то время как в источнике б) имеем nurun ‘позвоночный столб’ и новообразование beizi ‘спина’;
в пункте № 6 в одном из источников ‘птица’ представлено как шиванг (Г.Н. Потанин), в то время как в другом источнике siban [‘sibaŋ] [Ma et al., 2012, p. 402] имеет значение ‘крыло’;
в пункте № 18 у Б.Х. Тодаевой значение ‘молоть, толочь’ представлено одним словом нуду- [Тодаева, 1961, с. 131], а в источнике [Ma et al., 2012] подобное значение имеют два слова qida- [tɕida] [Ma et al., 2012, p. 358] и nudu- [nudu] [Ma et al., 2012, p. 326], в словаре Bu He также представлены два варианта nudu- [Bu, 1983, p. 32] и dzaji- [Bu, 1983, p. 174], которые отличаются специализированными значениями по сравнению с основным ‘толочь, измельчать’: qida- ‘толочь’ (о муке), nudu-dzaji- ‘колоть’ (например, орехи).
Заключение
Современную алтаистику отличает фундаментальное изучение конвергенции языков алтайской общности. Раскрытие масштабной конвергенции тюркских и монгольских, монгольских и тунгусо-маньчжурских, тунгусо-маньчжурских и корейских, корейских и японских языков в древнейшее, древнее, средневековое и современное время является актуальной задачей современной алтаистики. Конвергенция предопределила возникновение алтайских сходств, которые ранее были ошибочно интерпретированы в качестве наследия алтайского праязыка, подвергшегося дивергенции.
Для вскрытия конвергенции языков алтайской общности целесообразно продолжить изучение устойчивого словарного фонда, на базе которого возможно установление систематизаций тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, корейских и японских языков.
В статье установлен уникальный устойчивый словарный фонд дунсянского языка – одного из монгольских языков Китая, по источникам XX и XXI веков отечественных и зарубежных авторов. Установленный фонд является уникальным диагностическим признаком дунсянского языка, отличающим его от других монгольских языков. Устойчивый словарный фонд является базисом в классификации монгольских языков.
В источниках XX и XXI веков дунсянского языка обнаружено внешнее сходство в подавляющем количестве слов, что свидетельствует об устойчивости изучаемого фонда этого языка. Вместе с тем в некоторой части слов выявляются расхождения, в частности, в морфологии и семантике слов.
Для дальнейшего исследования дунсянского языка необходимо изучение его фонологической системы.
Благодарность
Выражаем благодарность Жулии Лефорт, младшему научному сотруднику Центра лингвистических исследований Восточной Азии (CRLAO), г. Париж, Франция.
About the authors
Innokentiy N. Novgorodov
Author for correspondence.
Email: i.n.novgorodov@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9378-0987
Doctor of Philological Sciences, Member of the Advisory Board of the Crede Experto: Transport, Society, Education, Language International Informational and Analytical Journal
Russian Federation, IrkutskReferences
- Clauson G. (1962). Turkish and Mongolian Studies. Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. London, 1962. – 261 p.
- Doerfer G. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. Bd. I. Mongolische Elemente im Neupersischen. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1963. 557 S.
- Doerfer G. Mongolo-Tungusica. Tungusica. Bd. 3. Wiesbaden: Harrassowitz, 1985. 307 S.
- Janhunen, J. (2023). The unity and diversity of Altaic. Annual Review of Linguistics. 9: 135-154
- Miller R. A. (1971). Japanese and the other Altaic languages. Chicago, London: University of Chicago Press, 1971. 331 p.
- Novgorodov I. N. (2019a). Glagoly ustojchivogo slovarnogo fonda mongol'skih yazykov [Verbs of the Leipzig-Jakarta list of the Mongolian languages]. Aktual'nye problemy mongolovedeniya i tyurkologii [Actual problems of the Mongolian and Turkic studies]. 47-52. (in Russian)
- Novgorodov I. N. (2019b). Glagoly ustojchivogo slovarnogo fonda i spiska M. Svodesha v tyurkskih i mongol'skih yazykah [Verbs of the Leipzig-Jakarta list and list of M. Swadesh in Turkic and Mongolian languages]. Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki: gumanitarnye nauki. 9-2: 163-169. (in Russian)
- Nugteren H. Mongolic Phonology and the Qinghai-Gansu Languages. Utrecht: Leiden University, 2011. Thèse de doctorat. 563 p.
- Poppe N. (1960). Vergleichende Grammatik der Altaischen Sprachen. T. 1. Vergleischende Lautlehre. Wiesbaden, 1960. 256 p.
- Ramstedt G. Einführung in die altaische Sprachwissenschaft. Bd. Lautlehre. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1957. 192 S.
- SHCHerbak A. M. (1997). Rannie tyurko-mongol'skie yazykovye svyazi (VIII–XIV vv.) [Early Turkic-Mongolian linguistic ties (VIII-XIV centuries)]. Saint Petesburg: ILI RAN. 292 p. (in Russian)
- SHCHerbak A. M. (2005). Tyurksko-mongol'skie yazykovye kontakty v istorii mongol'skih yazykov [Turkic-Mongolian linguistic contacts in the history of the Mongolian languages]. Saint Petesburg: Nauka. 195 p. (in Russian)
- SHCHerbak A. M. (1994). Vvedenie v sravnitel'noe izuchenie tyurkskih yazykov [Introduction to the Comparative Study of Turkic Languages]. Saint Petesburg: Nauka, 1994. 191 p. (in Russian)
- Starostin S., Dybo A., Mudrak O. (2003). An Etymological dictionary of the Altaic languages. 3 Volumes (Handbook of Oriental Studies / Handbuch Der Orientalistik - Part 8: Uralic & Central Asian Studies, 8). Brill: Academic Pub, 2003. 2106 p.
- Tadmor U. (2009). Loanwords in the world’s languages: findings & results // Loanwords in the world’s languages: a comparative handbook / edited by Martin Haspelmath, Uri Tadmor. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co., 2009. 1081 p.
- Todaeva B. H. (1961). Dunsyanskij yazyk [The Dongxiang language]. Moscow: Vostochnaya literatura, 1961. 151 p. (in Russian)
- Vovin A. (2010). Korea-Japonica: a re-evaluation of a common genetic origin. Honolulu: University of Hawaiʿi Press: Center for Korean Studies, University of Hawaiʿi, 2010. 278 p.
- 东乡族 – 东乡族. Dongxiang [Electronic resource] URL: https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%9C%E4%B9%A1%E6%97%8F/154648?fr=ge_ala (date of the application 22/08/2023). (in Chinese).
- Bu He. (1983). 东乡语词汇 [Dongxiang Language Dictionary]. 1983. 194 p. (in Dongxiang, Chinese).
- Ma Guozhong 马国忠, Chen Yuanlong 陈元龙. (2012). 东乡语汉语词典 [Dongxiang-Chinese Dictionary]. Gansu Minzu chubanshe. [Ma & Chen]. 2012. 518 p. (in Dongxiang, Chinese).
Supplementary files