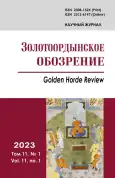Сибирский улус Джучи: кочевые традиции в преддверии имперских инноваций
- Авторы: Трепавлов В.В.1
-
Учреждения:
- Институт российской истории РАН
- Выпуск: Том 11, № 1 (2023)
- Страницы: 8-23
- Раздел: Оригинальные статьи
- Статья опубликована: 29.03.2023
- URL: https://bakhtiniada.ru/2308-152X/article/view/349246
- DOI: https://doi.org/10.22378/2313-6197.2023-11-1.8-23
- EDN: https://elibrary.ru/BVVBGR
- ID: 349246
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цель исследования: определение принципов наделения Чингиз-ханом царевича Джучи уделом после подчинения народов Южной Сибири в 1207 г., соотнесение критериев территориального разделения улуса с сведениями из эпического фольклора Южной Сибири и Центральной Азии.
Материалы исследования: «Тайная история монголов», придворные хроники Монгольской империи XIII–XIV вв., героический эпос народов Южной Сибири и Центральной Азии, историография истории Монгольской империи первой половины XIII в.
Результаты и научная новизна исследования: в результате сопоставлений реалий ранней Монгольской империи с патриархальными устоями жизни тюрко-монгольского кочевого общества, отраженными в эпических сказаниях, наблюдается проекция традиционных норм организации кочевого улуса на ситуацию с наделением Джучи уделом в завоеванных землях Южной Сибири. Так же, как в богатырских сказаниях, сын по приказу отца завоевывает соседние племена, живущие на севере и западе от родных кочевий, и получает их в управление. В данной ситуации действовала не только завещанная предками парадигма отношений между коренным и присоединенным населением улуса, но и архаичная схема убывания сакральности с севера на юг и с востока на запад.
Полный текст
Обстоятельства образования Джучиева улуса являются одним из основных проблемных аспектов в истории Золотой Орды. Из тех источников, которыми мы располагаем и которые многократно проанализированы в историографии, кажется, что предстает картина двухэтапного процесса: сначала произошло наделение Джучи уделом в Южной Сибири после его победоносного похода 1207 г. и затем, через много лет, получение им в управление Восточного Дешт-и Кыпчака и северного Хорезма. Первый этап четко отражен в «Тайной истории монголов» (далее ТИМ), насчет датировки второго споры среди историков ведутся до сих пор.
Однако представляется, что не менее важна еще одна проблема: по какому принципу Чингиз-хан передавал соответствующие народы и территории под начало своего первенца (а впоследствии и остальных сыновей и родичей)? Вопросу о критериях улусного членения империи исследователи обычно не уделяют внимания. В статье я предложу свой вариант решения этого вопроса относительно первого наделения Джучи в 1207 г. – как одну из возможных версий.
Как известно, одним из первых внешних мероприятий Чингиз-хана в статусе кагана была военная кампания в Южной Сибири. В 1207 г. правое крыло монгольского войска под командованием Джучи со среднего течения Онона выступило на северо-запад в сторону Байкала, пересекло без препятствий страну Баргуджин-Токум, населенную предками бурят, и подошло к верховьям Енисея, где начинались владения кыргызов. Тувинско-Минусинский регион подчинился без единого выстрела. Царевич был встречен кыргызской знатью, которая поднесла ему символические дары и присягнула на верность. Далее подчинились без сопротивления племена Горного Алтая и прииртышской лесостепи. Быстрое и бескровное присоединение к Монгольской империи обширного полиэтничного региона не только увеличивало ресурсы новорожденной державы, но и, надо полагать, знаменовало в глазах ее правителей явную поддержку со стороны божественных сил экспансионистских намерений, которые зарождались у монгольской правящей элиты.
Многократно цитировалась восторженная реакция Чингиз-хана на триумфальное возвращение Джучи: «Ты старший из моих сыновей. Не успел и выйти из дому, как в добром здравии благополучно воротился, покорив без потерь людьми и лошадьми лесные народы. Жалую тебе их в подданство» [18, с. 175]. Последняя фраза (irge čimada ögsü) в действительности не содержит «подданства», домысленного С.А. Козиным. Переводы ТИМ и дублирующего текста «Алтан тобчи» Лубсана Данзана XVII в., выполненные Н.П. Шастиной и И. Рахевилцем, адекватно передают ее как «Отдаю тебе эти народы» [22 с. 184; 53, с. 155].
Официальные придворные хроники не выделяют поход 1207 г. как значимую веху в формировании Улуса Джучи. В «Юань ши» рассказывается, что «Чжучи – старший сын Тай-цзу [Чингиз-хана]; в начале становления государства ему как циньвану [великому князю] был выделен в удел северо-запад. Эти земли крайне отдалены и находятся от столицы [Пекина] на расстоянии десятков тысяч ли» [21, с. 32; см. также: 14, с. 221]. Здесь явно речь не столько о южносибирском владении, сколько о созданной Джучиевыми наследниками громадной Золотой Орде, располагавшейся действительно в нескольких тысячах километрах от Китая1. Но поскольку китайские историографы династии Мин пишут здесь и о «начале становления государства» (т.е. о времени, предшествовавшем широким завоеваниям), то в данном сообщении оказались объединены сведения о сибирском походе Джучи и позднейшей (посмертной) территории его Улуса в Дешт-и Кыпчаке и Восточной Европе.
Рашид ад-Дин вообще не упоминает участие старшего Чингизида в кампании 1207 г., сообщая только о тогдашнем Чингизовом посольстве к енисейским кыргызам и их ответном визите с изъявлением покорности [32, с. 151]2.
Ни в одном источнике, насколько мне известно, не содержится обоснования причин передачи сибирских территорий под управление Джучи. Создается впечатление, будто это произошло по каким-то резонам, очевидным для монгольских и тюркских современников, но неведомым для иноземных наблюдателей и позднейших хронистов. Учитывая сходство первоначального государства Чингиз-хана с монгольскими улусами XII в. по многим параметрам [20, с. 198, 199], можно догадываться, что это произошло в ходе действия неких установок улусной жизни, которые перешли в новорожденную империю из кочевой старины. В историографии изредка встречаются краткие отсылки к неким традиционным нормам в данном эпизоде наделения. Например, по В.В. Бартольду, «Джучи как старший сын получил самый отдаленный удел» [4, с. 459], «…по-видимому, самому старшему сыну должна была предназначаться наиболее удаленная от отцовского дома часть владений. Этим и объясняется то, что вместе с военными успехами Чингиз-хана юрт (земельные владения) его старшего сына все время перемещались в западном направлении» [5, с. 496; то же см.: 10, с. 50]. Это была чрезвычайно плодотворная мысль, но она осталась на уровне догадки и при этом не объясняла, почему Джучиевы земли не расширялись после победоносных войн с империей Цзинь. О. Агатай в недавнем исследовании тоже видит главной причиной пожалования лесных народов Джучи в «простой семейной традиции степных народов: с достижением лидером зрелости он учреждал собственное домохозяйство и покидал отцовский дом» [51, с. 693]. Это тоже, если можно так выразиться, взгляд в верном направлении, хотя реальность несколько расходится с данной версией в деталях: Джучи после 1207 г. не «покинул отцовский дом», но долгие годы участвовал в военных кампаниях против чжурчжэней, хорезмшаха, кыпчаков и др. (сопровождая Чингиз-хана или отправляясь в дальние рейды по его приказу). Да и о его личной ставке («собственном домохозяйстве») известно, что располагалась она в Прииртышье, и он смог удалиться туда только по окончании войны в Хорезме [33, с. 78].
Дополнительную сложность при определении статуса сибирских пожалований Джучи вызывает назначение туда Чингиз-ханом нойона Хорчи в качестве полновластного наместника. Он получил приказ составить тумен из алтайских племен чиносов, телесов и теленгитов, над которыми ему надлежало «начальствовать»; причем свою кочевую ставку Хорчи должен был обустроить на Иртыше [18, с. 161; 53, с. 131], т.е. приблизительно в тех краях, где позднейшие хронисты помещали резиденцию Джучи. Вероятно, ему вменялись в обязанность те функции, которые хорошо известны по сведениям о компетенции «рядовых» улусных правителей (не принадлежавших к царствующему дому) в позднейшей Монгольской империи, – темников и тысячников: управление вверенным населением, его перекочевками, присмотр за пастбищами, сбор податей, командование отрядом улусных ополченцев и, возможно, судебные прерогативы.
Судя по ТИМ, назначение Хорчи произошло сразу после «коронационного» курултая 1206 г., когда новопровозглашенный каган отмечал наградами и почестями своих верных соратников. Отражение дальнейшей судьбы Хорчи в этом источнике ограничивается описанием его неудачной попытки усмирения мятежных туматов. Очевидно, этот нойон никак не проявил себя на поприще управления «лесными народами», которые через год были пожалованы Джучи. Однако имеется аналогичный случай назначения наместника в Джучиевы земли. Этого эпизода нет в ТИМ, но он запечатлен у Лубсана Данзана при описании череды наград и поощрений, предпринятых Чингиз-ханом после возвращения из хорезмийской кампании: «Когда Чингис-хаган выделял [для управления] землею оросутов и чэркисÿтов (т.е. Руси и Северного Кавказа. – В.Т.) Хукин-нойана, он соблаговолил дать наставление: “…Отдели западную сторону владения Джочи!...”». Нойон отвечал:
«Ты дал мне людей, чтобы готовили пищу,
Людей, чтоб приготовили питье, –
Восемь тысяч людей ты мне дал!
В дальние земли свои
Посылаешь меня управлять чужим народом» [22, с. 232–233].
Как в случае с Хорчи, так и с Хунаном мы видим сосуществование в одном владении царевича и наместника-военачальника, ответственного за повседневное управление населением улуса. Причем, в отношении Хунана указано, что его опорой становятся восемь тысяч монголов, которые явно призваны не только готовить для нойона пищу и питье, но и составлять военную опору его власти. То есть этот контингент не принадлежал к тем войскам, которыми командовал официальный улусный правитель – Джучи. Возможно, в таком разделении уже коренились будущие структурные, административные подразделения в империи: тот Иртышско-Алтайский край, что отошел под управление Хорчи, остался в Джучиевом улусе, а более восточные земли отошли в собственно-монгольский Коренной юрт. Таким же образом земли, предназначенные под начало Хукина, со временем составили правое крыло Джучиева улуса, в то время как в восточном Дешт-и Кыпчаке образовалось левое крыло.
Примечательно, что Рашид ад-Дин называет территорией, отданной отцом в управление Джучи, только «все области и улус, находившиеся в пределах реки Ирдыш и Алтайских гор, летние и зимние кочевья тех окрестностей» (с задачей дальнейшего завоевания Дешт-и Кыпчака), но умалчивает о более восточных землях, составивших удел старшего Чингизида после сибирского похода. Автору этих срок уже доводилось констатировать, что со временем Тува и Хакасия (области Кэм-Кэмджиут и Киргиз, по Рашид ад-Дину) были изъяты из юрисдикции Джучи и причислены к Коренному юрту – собственно монгольскому домену империи. Последний, по старой традиции и в соответствии с волей Чингиз-хана, находился после его смерти под властью его младшего сына Толуя, а вдова Толуя поручила управлять Южной Сибирью снова младшему сыну – Ариг-Буге [42, с. 48].
Названные выше факты и обстоятельства приводят к мысли о том, что появление Джучиева удела в Южной Сибири в результате похода 1207 г. не следует ставить в один ряд с позднейшим распределением улусов между Чингизовыми сыновьями. Представляется, что наделение/выделение отцом старшего сына строилось на патриархальных принципах, присущих до- или внегосударственной социальной жизни евразийских номадов.
Известно, что еще в доимперской жизни монголов практиковалось подчинение более сильными кочевыми сообществами более слабых и включение последних в систему сложившихся или формирующихся политий. Такие подчиненные группы обозначались многозначным термином богол (в данном контексте – конкретно унаган-богол – см. [35]), обычно и не вполне корректно переводимым как «раб». Он маркировал социально-политическую интеграцию новых «подданных» в структуру политии-победительницы и как бы перекодировку прежней структуры. Уже тогда, до образования империи, пока еще в масштабе ограниченного региона, происходило «формирование общественных отношений на новом уровне, когда складывается надплеменная, надлокальная социально-политическая структура, тяготеющая к универсализации мироустройства» [19, с. 247–248]. Сибирские «лесные народы» стали унаган-боголами – номинально Чингизова клана кият-борджигин, но фактически являлись первыми подданными всемонгольского кагана за пределами собственно Монголии. Конечно, это было не буквальное «рабство», а относительно более низкий статус новых членов коллектива жителей улуса, их младший ранг по отношению к его исконному населению. Близким аналогом такого положения у тюрков Южной Сибири в XVII–XVIII вв., очевидно, можно считать кыштымов – зависимые племена-данники (см., например [17, с. 95, 96]).
Традиционные социальные устои отразились в памятниках эпического и исторического фольклора тюркских и монгольских народов, а также в нормах их обычного права. В данном случае следует обратиться к отражению в этих текстах распределения компетенции, власти и владений между отцом и старшим сыном – как наиболее близкой аналогии с ситуаций наделения Джучи в 1207 г. Причем, представляется резонным обратиться к наиболее архаичным памятникам, которые отразили изначальные схемы социального устройства, с минимальными позднейшими инокультурными наслоениями. К текстам такого рода относятся, в частности, якутские эпосы-олонхо.
Почти все фольклорные героические эпопеи построены на преемственности биографий: когда доблестный отец заканчивает земное существование, его храбрец-сын вступает в управление улусом и прославляет свое имя новыми подвигами. Это было возможно только при сохранении несомненного божественного покровительства, и таким образом в глазах народа целые династии оказывались отмеченными «Божиею милостью» и закрепляли за собой право на первенство в социуме.
Раздел власти, народа и территории улуса между отцом и сыном наиболее понятен и наилучшим образом объясним. Передача в управление будущему наследнику части земель и подданных имела чисто практическое значение – приучить «царевича» к искусству властвования. Хотя мальчик мог считаться потенциальным правителем уже по факту рождения в семье улусного предводителя, но в эпосах вступление в ранг младшего правителя обычно производится только после того, как он проявил себя достойным продолжателем родительского дела (разбил могущественного врага, например). Впрочем, для отделения сына не обязательно было ждать войны. Случается, юноши получают в удел половину ханства после женитьбы, т.е. по достижении совершеннолетия, возраста самостоятельных решений.
«Черным по белому» о разделении улуса надвое между отцом и сыном сказано, например, в одном из алтайских cказаний. Там это объясняется невозможностью старшего хана управлять чрезмерно разросшимися владениями (стало слишком много скота и подданных) [6, с. 212]3. В прочих известных мне текстах резоны для расчленения территории и народа пополам столь явно не называются, за исключением отделения женившихся сыновей или передачи приданого мужу ханской дочери.
Наделение заключается в том, что отец отводит сыну место для поселения и пастбища для выпаса скота, а сам практически устраняется от вмешательства в дела сыновней улусной половины (лишь по просьбе сына старший хан может появиться в его уделе). На отведенных «царевичу» землях кочуют те соплеменники, которые переданы ему отцом, а также прибывшие со скотом в караване молодой жены в качестве приданого.
Однако бывают ситуации, когда хан делит улус по принципу, так сказать, автохтонности. В своей удельной части он оставляет население, исконно проживавшее на этих землях и доставшееся ему от предков. Сыну же он передает тех подданных, которых завоевал во время своего правления или же по его приказу завоевал сын. Следовательно, в последнем случае иерархия двух удельных частей выглядит предельно наглядно: та часть, где остается верховный хан и где проживают исконные обитатели ханства, считается «старшей», высшей по рангу; та часть, куда перебирается младший хан-соправитель и где живут новоприсоединенные роды, является «младшей», низшей, починенной.
Один из распространенных вариантов отношений между отцом и сыном в эпосе – их управление в разных частях подвластных владений, т.е. разным контингентами подданных. Герой олонхо Хаптагай-батыр еще жив, но его сын Хохое-батыр уже признан покоренными ламутами (совр. эвены) «как тойон» и самовластно действует на территории улуса: «и ламутов, и якутов свободно убивает» [7, с. 61, 62]. Здесь сыну доверено управление завоеванными землями, а на родовой территории остается отец. В одном из вариантов олонхо «Эр-Соготох» наблюдается такой же расклад обязанностей. Сын богатыря Эр-Соготоха Басымджи остается в улусе побежденного им (Басымджи) духа-абаасы. Отец, примчавшийся было на помощь, возвращается восвояси в свою землю [48, с. 90]. Причем постоянное личное присутствие младшего правителя на отведенной ему территории было необязательно. Женившись, Басымджи селится в родительском улусе, где ему ставят отдельный дом [48, с. 102, 103].
Таким образом, на землях рода сын ожидает перехода к нему родительского статуса и имущества, которые со временем достанутся ему в качестве наследства; если же присоединяется (завоевывается) население из чуждых кланов, то сын тойона получает полномочия по владычеству над ним. Естественно, в таком случае он считается в улусе младшим правителем – и по возрасту, и по положению.
Историческое соуправление отца и сына обладало еще одним внешним атрибутом. Характерное для тюрко-монгольских политий (как каганатов, империй, так и мелких улусов) – разделение территории и населения на две части-крыла – имеет соответствия в эпосе. В олонхо «Сюнг-Джасын» герой, находясь на своей земле, призывает старшего брата на помощь. Тот приходит «из склона долины, обращенной к северу» [50, с. 86], т.е. младший соправитель селился соответственно на севере от старшего, и улус был поделен на северную и южную части. Упоминавшийся выше сын богатыря Эр-Соготоха Басымджи остается в улусе побежденного им врага. Посетивший его отец возвращается к себе «прямо на юг» [48, с. 90]. Наблюдается аналогичное предыдущему примеру, расположение частей улуса, но с важным уточнением: завоеванная территория «по определению» ниже рангом, так как отходит младшему правителю, и северная ее позиция подтверждает эту второстепенность по сравнению с южным владением самого Эр-Согогоха.
Но противопоставление «север – юг» не основное в политической топографии исторических и эпических улусов. В том же тексте посланцы главы божеств-небожителей Юрюнг Айыы-тойона приказывают Басымджи отправиться на восток, дабы основать собственный улус [48, с. 93, 94]. Поскольку с востоком естественно соотносится запад, обратимся и к этой паре понятий.
Вот у супруги богатыря Тонг Саар-тойона после сына-человека рождается сын-бык. Изгнанный перепуганной матерью из дома, он селится на западной стороне улуса, но постоянно помогает старшему брату в борьбе с врагами своими мудрыми советами, да к тому же обладает способностью предсказывать судьбу [12, с. 113, 123, 124, 131].
Между востоком и западом существует давно замеченная исследователями оппозиция свойств. Восточные и западные земли осеняются подобающими небесами –
Там, на западе, под склоном
Погибельного, бедственного неба,
Что всюду полосато и визгливо
Там, где находилось
Восточное, приветливое небо... [26, с. 69, 70; ср.: 27, с. 321].
Запад олицетворяется с враждебными силами, прибежищем античеловеческих стихий; с запада происходят нашествия демонов-абаасы, на западе герой ищет вора, угнавшего скот. Восток, напротив, – средоточие идеальных качеств, там самая привлекательная природа, туда обращали лицом погребаемого покойника (см.: [15, с. 224, 225; 23, с. 123].
Нужно заметить, что в эпических текстах чаще фигурирует тандем не отца и сына, а двух братьев. Видимо, это наследие очень древнего близнечного мифа. Однако вторичность совместного правления двух братьев по отношению к соуправлению отца и сына может быть выведена даже из тех сюжетов, где мифологический пласт сохранился отчетливо, т.е. фигурируют небожители как жизненные персонажи и изображается начало человеческой истории. Герой ниспослан на землю, в Средний мир, и подвластное пространство он разделяет с младшим братом (см., например, олонхо «Нюргун Боотур Стремительный»). Но само направление его в мир является выполнением воли небесного Отца, остающегося в Верхнем мире. Стало быть, мироздание сначала делится как бы по вертикали между Творцом и его креатурой, и только потом, на более низком уровне, начинается соуправление братьев.
Разделение управленческих полномочий отца и сына также коренится в распределении функций в патриархальной кочевой семье [25, с. 104, 105]. У казахов, например, богатые скотоводы старались еще при жизни дать самостоятельность сыновьям, наделяя старших значительной долей своего скота и иногда дополнительными пастбищами. Наследником отцовского имущества и зимовья считался младший сын. Если в семье имелось несколько сыновей, то скот делился между ними; если поголовье скота возрастало настолько, что пастбищ не хватало на всех братьев, то они по очереди выделялись из семейных земель, начиная со старшего брата, а в отцовском стойбище оставался опять-таки младший сын [31, с. 255].
Если вновь обратиться к ситуации 1207 г., то мы видим проекцию традиционных норм организации кочевого улуса. Сын по приказу отца завоевывает соседние племена, живущие на севере и западе от родных кочевий, и получает их в управление. Здесь действует не только завещанная предками парадигма отношений между коренным и присоединенным населением улуса, но и архаичная схема убывания сакральности с севера на юг и с востока на запад.
В целом, можно согласиться с мнением О. Агатая, что в период первой военной кампании «Чингисхан расценивал Джучи как преемника на своем троне» [51, с. 691], и тот действовал соответственно этому статусу. Ведь в то время программа обширных завоеваний еще только задумывалась, и было неизвестно, насколько удачными они окажутся. Еще не было необходимости распределять между членами семьи огромные уделы и управлять множеством разноязычных кочевых и оседлых подданных. Когда же империя начала обретать свои пространственные очертания за пределами монгольских степей, по мере завоевания «оседлых» стран, вступили в силу иные принципы ее внутреннего административного деления, отличавшиеся от патриархальной схемы внутрисемейных отношений. Что это были за принципы, нужно исследовать дополнительно, но, как представляется, они уже во многом расходились с традиционными нормами распределения власти в кочевой степи прежней эпохи.
По мере постепенного расширения подвластных земель и увеличения количества поданных возникала проблема распределения этих трофеев между членами семьи монгольского кагана-завоевателя. Наделение Чингизовых сыновей улусами в 1220-х гг. в самом общем виде соответствовало этим нормам (о них см., например [24, с. 425, 426; 36, с. 88]). Даже после значительного территориального разрастания державы Чингиз-хана и начала притока к его двору полиэтничных специалистов-управленцев из покоренных народов влияние доимперских установлений можно увидеть в административной практике.
Приведем знаменательную сцену из «Алтай тобчи» Лубсан Данзана, описывающую наделение Чингиз-ханом уделами двух старших сыновей по возвращении из западного похода. К Джучи и Чагатаю отец обращается со словами: «Я отправляю вас, отделяя так, как отделил бы половину своего дома, половину своего тела». Как известно, Джучи были отданы в управление Хорезм и Кыпчакская степь, Чагатаю – Мавераннахр и Семиречье; все это расценивалось как «половина дома». Другая «половина», стало быть, – Монголия, Маньчжурия, Уйгурия и Южная Сибирь. Право наместника над западными землями предоставлялось Чиигизову первенцу, Джучи. Каган говорит ему: «В чем согласие между отцом и сьшом? Ведь не тайком отправляю я тебя [так] далеко, [а для того], чтобы ты управлял тем, чем я овладел. Чтобы сохранил ты то, над чем я трудился. Отделяю тебя, чтобы стал ты опорою половины моего дома, половины моей особы» [22, с. 229]. Чагатаю же, судя по «Алтай тобчи», ничего подобного сказано не было. Значит, Джучи признан старшим правителем западной части государства, обязанным сохранять завоеванные земли и управлять ими. А Чагатай подчинен брату, поскольку также выделен в западную «половину дома».
В «Тайной истории монголов» этой сцены нет, но содержится следующая информация. Чингиз-хан обратился к сыновьям с вопросом о кандидатуре своего преемника. Джучи тут же повздорил и подрался с Чагатаем, а затем сказал: «Будем служить парой с Чаадаем. Высказываемся за Огодая!». Чингиз-хан возразил: «К чему же непременно парой? Мать-земля велика. Много на ней рек и вод. Скажите лучше – будем отдельно друг от друга править иноземными народами, широко раздвинув отдельные кочевья» [18, с.186]. Данная версия наделения старших царевичей тоже свидетельствует о задуманной обособленности западных улусов, но умалчивает о главенстве Джучи на западе.
Здесь мы можем также обнаружить любопытные аналогии/прецеденты в фольклоре Центральной Азии и Южной Сибири. Героические эпосы дают развернутую картину традиционного разделения/сочетания компетенций в правящей кочевой семье (подробно см. [40; 41]).
Соуправление братьев гораздо более распространено в героическом эпосе. Если бы не многочисленные исторические аналогии, можно было бы видеть в этом сюжетном каноне отголосок близнечного мифа, столь популярного у первобытных народов [13; 16]. Действительно, в некоторых архаичных текстах братья неотличимы друг от друга, действуют синхронно, даже иногда говорят хором. Но ко времени письменной фиксации эпическая первооснова претерпела столь значительные изменения, что этих персонажей уже весьма трудно уподобить мифическим близнецам. У братьев появляются четкие возрастные и функциональные различия. К тому же обычная дуальная космогония предполагает наличие двух персонажей, в то время как в эпосах встречается и трое, и семеро, и девять братьев.
Очевидно, в памятниках фольклора отразились черты социальной организации эпохи возникновения фабул героического эпоса. Как для выделения отцом удела для сына, так и для соуправления братьев возможно найти реалистическое объяснение. Если в семье не один сын, а больше (а так оно чаще всего и бывало в многодетных кочевых семьях), то после кончины хана-отца старший или другой заранее избранный отцом сын заступал на место верховного правителя. Еще будучи наследником, этот новый сюзерен в прошлом, при жизни отца, правил «младшей» удельной половиной.
Эпические братья в южносибирских сказаниях, выделенные отцом или унаследовавшие его владения, могут управлять сообща. При этом отношения в подобной паре выстраиваются следующим образом: 1) проживание их в одном «белом дворце» или в стоящих рядом, одна подле другой, юртах-резиденциях [1, с. 159; 6, с. 213, 216; 9, с. 16; 30, с. 416, 557; 31, с. 232; 34, с. 92; 39, с. 189–191, 211, 219; 43, с. 106; 44, с. 198; 45, с. 49; 47, с. 179, 181]; 2) территория принадлежит обоим братьям [3, с. 200–284; 6, с. 149–211; 8, с. 142–145; 11, с. 205 и сл.; 28, с. 13, 14; 39, с. 87; 37, с. 89; 46, с. 226, 227, 231]; 3) общее подданство народа обоим братьям [44, с. 198; 47, с. 157]. Сюзеренитет их проявлялся во взимании податей или же в совместном выступлении для наказания неплательщика [1, с. 48; 2, с. 11–18]. В зависимости от отношения сказителя к персонажам это выглядело как справедливое правление или как «сосание народной крови» [38, с. 84; 47, с. 48]; 4) часто (но не всегда) они уезжают воевать с соседями вдвоем, действуя в сражениях на равных [2, с. 28; 28, с. 61; 29, с. 159; 44, с. 56, 58]. Иногда создается впечатление, будто они близнецы, но не всегда являются таковыми на самом деле. Обычно это старший и младший братья, хотя различия между ними чисто декоративные: один мудрее другого, с одним герой сражается дольше, чем с другим и т.п.4
Приблизительное такое же сосуществование Джучи и Чагатая предполагалось в западной половине империи. Как известно, жизненные обстоятельства не позволили им исполнить отцовский завет, а впоследствии между их потомками началась вражда. Покорение многомиллионного Китая и утверждение власти завоевателей в густонаселенном Мавераннахре и других странах поставило монгольские власти перед необходимостью усложнить и модернизировать систему управления – в том числе удельно-улусную структуру империи. В Дешт-и Кыпчаке в 1220-х гг. был образован новый Улус Джучи (будущая Золотая Орда), территория которого со временем распространилась на часть Восточной Европы. Таким образом, первоначальное наделение старшего Чингизида владениями в Южной Сибири в 1207 г. не может расцениваться как начало золотоордынской истории.
1 В эпоху династии Мин ли составляла расстояние немногим более 450 м.
2 О том же посольстве говорится в «Юань ши» [14, с. 147].
3 Подобной рационализацией контроля над обширными территориями и чрезмерно многочисленным контингентом подданных П. Голден объясняет генезис разделения кочевых империй на половины-«крылья» с особым правителем в каждой из них [52, с. 100–101].
4 Тандем равноправных братьев не имеет аналогов в политической истории кочевников, а если и был когда-то приемлем на первобытнообщинном уровне, то в улусах – реальных, а не эпических – не практиковался. Возможно, это чисто фольклорное «изобретение», отражающее изначальный эпический дуализм [49, с. 15]. Другое дело – если братья находятся в едином улусе, но наделены различными полномочиями. Самое общее выражение их отношений: один брат доводится помощником другому. Подробнее см. [41, с. 338–340].
Об авторах
Вадим Винцерович Трепавлов
Институт российской истории РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: trepavlov@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-1783-8670
доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник, руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений
Россия, 117292, ул. Дмитрия Ульянова, 19, МоскваСписок литературы
- Ай-Толай. Народные героические поэмы и сказки Горной Шории. Пер. с шор., вступ. статья и примеч. А. Смердова. Новосибирск: Новосибгиз, 1948. 224 с.
- Алтай баатырлар. Т. VIII. Сост. С.С. Суразаков. Горно-Алтайск: Горно-Алтайское отд. Алт. кн. изд-ва, 1974. 231 с.
- Алтайские героические сказания. Пер. с алт. А. Плитченко. М.: Современник, 1983. 288 с.
- Бартольд В.В. Сочинения. Т. I. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. М.: Изд-во вост. лит-ры, 1963. 760 с.
- Бартольд В.В. Сочинения. Т. V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М.: Наука, 1968. 758 с.
- Баскаков Н.А. Северные диалекты алтайского (ойротского) языка. Диалект черневых татар (туба-кижи). Тексты и переводы. М.: Наука, 1965. 340 с.
- Верхоянский сборник. Якутские сказки, песни, загадки и пословицы, а также русские сказки и песни, записанные в Верхоянском округе И.А. Худяковым. Иркутск: Изд. на средства И.М. Сибирякова, 1890. 216 с. (Записки Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества по этнографии. Т. 1. Вып. 3)
- Гесериада. Сказание о милостивом Гесер Мерген-хане, искоренителе десяти зол в десяти странах света. Пер., вступ. ст. и коммент. С.А. Козина. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1935. 248 с.
- Гребнев Л.В. Тувинский героический эпос (опыт историко-этнографического анализа). М.: Изд-во вост. лит-ры, 1960. 148 с.
- Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее падение. М.: Богородский печатник, 1998. 368 с.
- Емельянов Н.В. Сюжеты якутских олонхо. М.: Наука, 1980. 375 с.
- Емельянов Н.В. Сюжеты олонхо о родоначальниках племени. М.: Наука, 1990. 207 с.
- Золотарев А.М. Родовой строй и первобытная мифология. М.: Наука, 1964. 328 с.
- Золотая Орда в источниках. Т. III. Китайские и монгольские источники. Пер. с кит., сост., ввод. ст., коммент. Р.П. Храпачевского. М.: Б. изд., 2009. 336 с.
- Зыков Ф.М. Материальная среда в олонхо // Эпическое творчество народов Сибири и Дальнего Востока. Ред. Н.В. Емельянов, В.Т. Петров. Якутск: Якут. филиал СО АН СССР, 1978. С. 224–227.
- Иванов В.В. Близнечные мифы // Мифы народов мира. Энциклопедия. Гл. ред. С.А. Токарев. Т. I. М.: Советская энциклопедия, 1987. С. 174–176.
- История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. Отв. ред. Л.Р. Кызласов. М.: Восточная литература, 1993. 525 с.
- Козин С.А. Сокровенное сказание монголов. Монгольская хроника 1240 г. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1941. 619 с.
- Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. Империя Чингис-хана. М.: Восточная литература, 2006. 557 с.
- Кычанов Е.И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М.: Восточная литература, 1997. 319 с.
- Кычанов Е.И. Сведения из «Истории династии Юань» о Золотой Орде // Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани. 1223–1556. Отв. ред. М.А.Усманов. Казань: Мастер-Лайн, 2002. С. 30–42.
- Лубсан Данзан. Алтан тобчи («Золотое сказание»). Пер. с монг., введ., коммент. и прил. Н.П. Шастиной. М.: Наука, 1973. 440 с.
- Маак Р. Вилюйский округ Якутской области. Ч. 3. СПб.: Тип. А. Траншеля, 1887. 213 с.
- Масанов Н.Э. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятельности номадного общества. Алматы; М.: Социнвест, Горизонт, 1995. 320 с.
- Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. М.: Изд-во вост. лит-ры, 1958. 264 с.
- Могучий Дьагарыма. Якутский героический эпос олонхо. Пер. А. Романова. Новосибирск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1984. 415 с.
- Нюргун Боотур Стремительный. Якутский героический эпос олонхо. Пер. В. Державина. Якутск: Якутское кн. изд-во, 1975. 432 с.
- Ойротские народные сказки: Темир-Санаа; Келер-Куш; Кулакчин; Кара-Маас. Записаны П. Кучияком. Лит. обработка Е. Березницкого, И. Мухачева, А. Смердова. Новосибирск: Новосибгиз, 1940. 288 с.
- Оленгир. Вступ. статья, лит. ред. и пересказ на рус. яз. С.С. Суразакова. Горно-Алтайск: Алтайское кн. изд-во, Горно-Алтайское отд-ние, 1970. 175 с.
- Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Вып. IV. Материалы этнографические. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1883. 1026 с.
- Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. М.: Наука, 1989. 749 с.
- Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. I. Кн. 2. Пер. с перс. О.И. Смирновой. Под ред. А.А. Семенова. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. 316 с.
- Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. II. Пер. с перс. Ю.П. Верховского. Под ред. И.П. Петрушевского. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 248 с.
- Сказания о богатырях. Тувинский героический эпос. Предисл., пер. и коммент. Л.В. Гребнева. Кызыл: Тувкнигоиздат, 1960. 185. с.
- Скрынникова Т.Д. Богол в социальной стратификации монгольского общества периода империи // Монгольская империя и кочевой мир. Редкол. Б.В.Базаров и др. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004. С. 287–334.
- Степной закон. Обычное право казахов, киргизов и туркмен. Сост., вступ. ст., коммент. А.А. Никишенко. М.: Старый сад, 2000. 289 с.
- Суразаков С.С. Алтайский героический эпос. М.: Наука, 1985. 256 с.
- Суразаков С.С. Героическое сказание о богатыре Алтай-Бучае. Горно-Алтайск: Кн. изд-во, 1961. 179 с.
- Титов В. Богатырские поэмы минусинских татар // Этнографический сборник, издаваемый императорским Русским географическим обществом. Вып. 4. СПб.: Тип. Э. Праца, 1858. С. 83–154.
- Трепавлов В.В. Алтайский героический эпос как источник по истории ранней государственности // Фольклорное наследие Горного Алтая. Отв. ред. Ф.А. Сатлаев. Горно-Алтайск: Горно-Алт. НИИ ист., яз. и лит., 1989. С. 125–171.
- Трепавлов В.В. Власть и управление в тюркском кочевом обществе (по эпическим сказаниям народов Южной Сибири) // Тюркологический сборник. 2005. Тюркские народы России и Великой Степи. Редкол.: С.Г. Кляшторный и др. М.: Восточная литература, 2006. С. 323–354.
- Трепавлов В.В. Государственный строй Монгольской империи XIII в. (проблема исторической преемственности). М.: Восточная литература, 1993. 168 с.
- Тувинские народные сказки. Пер., сост. и примеч. М. Ватагина. М.: Наука, 1971. 208 с.
- Улагашев Н.А. Алтай-Бучай. Ойротский народный эпос. Новосибирск: Обл. гос. изд-во, 1941. 404с.
- Улагашев Н.У. Малчи-Мерген. Алтайский героический эпос. Ойрот-Тура: Ойротиздат, 1947. 231 с.
- Улигеры ононских хамниган. Записал Ц.Ж. Жамцарано; подгот. текста, пер., вступит. статья, примеч. Д.Г. Дамдинова. Новосибирск: Наука, 1982. 274 с.
- Шорский фольклор. Записи пер., вступит. статья и прим. Н.П. Дыренковой. Новосибирск: ОГИЗ, 1948. 487 с.
- Якутский фольклор. Тексты и переводы А.А. Попова. Общ. ред. М.А. Сергеева. Л.: Советский писатель, 1936. 326 с.
- Ямаева Е.Е. Алтайский героический эпос (связи с мифологией, представлениями, социально-бытовыми институтами). Автореф. канд. дисс. Л., 1986. 20 с.
- Ястремский С.В. Образцы народной литературы якутов. Л.: Изд-во АН СССР, 1929. 226 с.
- Agatay O. An analysis of Joči’s debated paternity and his role in Altan Uruġ royal lineage of Činggis Khan // Золотоордынское обозрение. 2021. Т. 9. № 4. P. 684–714.
- Golden P.B. Khazar studies. An historico-philological inquiry into the origin of the Khazars. Vol. 1. Budapest: Akademiai Kiado, 1980. 291 p.
- Rachewiltz I. The Secret History of the Mongols. A Mongolian epic chronicle of the thirteenth century. URL: https://cedar.wwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=cedarbooks (дата обращения 17.01.2022).
Дополнительные файлы