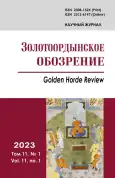Вклад Наки Исанбета в изучение Золотой Орды
- Авторы: Хабутдинова М.М.1
-
Учреждения:
- Казанский федеральный университет
- Выпуск: Том 11, № 1 (2023)
- Страницы: 181-201
- Раздел: Оригинальные статьи
- Статья опубликована: 29.03.2023
- URL: https://bakhtiniada.ru/2308-152X/article/view/349886
- DOI: https://doi.org/10.22378/2313-6197.2023-11-1.181-201
- EDN: https://elibrary.ru/NZKGGK
- ID: 349886
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цель исследования: систематизировать сведения о вкладе татарского ученого-энциклопедиста Наки Исанбета (1899–1992) в изучение истории и культуры Золотой Орды и популяризацию знаний о ней в среде татар.
Материалы и методы исследования: материалом для изучения послужили фольклорные материалы, научные труды и литературные произведения Наки Исанбета. Мы использовали возможности культурно-исторического, семиотико-культурологического, сравнительно-сопоставительного и др. методов исследования, выбор которых определен характером анализируемого текста.
Новизна исследования состоит в комплексном изучении вклада Наки Исанбета в изучение Золотой Орды и популяризацию сведений об этом государстве в среде татар.
Результаты исследования: в работе доказано, что ученый-энциклопедист начал серьезно разрабатывать тему Золотой Орды в конце 1920-х гг. На основе анализа архивных материалов реконструирована хроника работы Наки Исанбета над созданием сводных текстов дастанов «Идукай и Мурадым» и «Идегей». Выявлена научная ценность вводных научных статей к этим текстологическим трудам и комментариев ученого-энциклопедиста. Систематизированы сведения по истории создания Н. Исанбетом трагедии «Идегей» и истории ее бытования на татарской сцене. Определен вклад фольклориста в изучение творчества чичянов Золотой Орды и популяризацию сведений об их деятельности в комедии «Җирән чичән белән Карачәч сылу» («Рыжий насмешник и его черноволосая красавица»). Выявлена доля народных пословиц, загадок, фразеологизмов в фольклорных сборниках Н. Исанбета, нацеленных на популяризацию сведений о Золотой Орде в широкой читательской среде.
Полный текст
Введение
В автобиографической повести «Бәби чак» татарский ученый-энциклопедист Наки Исанбет признается, что историей татар он начал интересоваться с юности, еще в период обучения в медресе «Хасания» (Уфа), где изучал тюркскую историю по учебнику Хасана-Гата Габяши [27, c. 71]. Источники, хранящиеся в личном архиве татарского ученого, свидетельствуют о том, что вопросами истории Золотой Орды он начал заниматься профессионально в 1920–1930 гг., в годы сотрудничества с Академцентром Башнаркомпроса. В 1930–1940 гг. советская историческая наука обогатилась рядом исторических трудов, посвященных Золотой Орде и вызвавших резонанс в обществе: «Общественный строй монголов: монгольский кочевой феодализм» Б.Я. Владимирцова (1934) [4], «Золотая Орда: Очерк истории Улуса Джучи в период сложения и расцвета в XIII – XIV вв.)» Б.Д. Грекова, А.Ю. Якубовского (1937) [5], «Монголы и Русь (история татарской политики на Руси)» А.Н. Насонова (1940) [26]. В архиве Н. Исанбета мы обнаружили конспекты этих книг. Нас заинтересовали комментарии татарского ученого-энциклопедиста, свидетельствующие о его вдумчивом прочтении этих трудов. Так, читая монографию Б.Д. Грекова, А.Ю. Якубовского, ученый, перефразировав авторов, с горечью пишет: «Безгә: ягъни Болгар, Кыпчакларга һәм Казанга карата Россия үзе дә Европа буларак, гел генә рәхмәт укымаучы булган кебек, шул дәрәҗәдә ук надан да булды». – «В отношении нас: то есть Булгар, Кыпчаков и Казани – Россия сама, как в ее отношении в свое время Европа, была столь же невежественна, сколь и неблагодарна» (подстр. пер. здесь и далее наш – М.Х.). Прочитав предисловие книги Б.Д. Грекова, А.Ю. Якубовского, Н. Исанбет замечает: «Татарлар рус шәһәрләрен, чиркәү монастырьларын яндырып юк итеп бетермәгәннәр. Безгә һәм үзләренә багланышлы әсәрләре, язмалары исән калган. Безнең дә Россиядәге бер рус каласы Касыймда җирләшкән бер сателлит Ханкирмәндә татар язмалары исән калган. Әмма Болгар, Казан, Сарай шәһәрләрен нигезендә яндырып, таш өстендә дә калдырмыйча, кешеләрен һәм әсәрләрен барын да үтереп, кырып бетергәннән соң, анда архитектура, язма китаплар гына түгел, ташка язылган сүзләр дә калдырылмый ваттырылган»1 – «Татары не жгли русские города до тла, не уничтожали до основания русские церкви, монастыри. Вот почему сохранились произведения, источники той поры, в которых говорится о них и о нас. У сателлита России, в Ханкермане, в русском городе Касимове, сохранились и наши источники. А вот в Булгаре, Казани, Сарае, разрушенных огнем войны до основания, не оставляя камня на камне, вместе с населением были уничтожены литературные произведения, не сохранились ни архитектурные памятники, ни письменные источники, исчезли даже письмена, начертанные на камне» (подстр. пер.). Н. Исанбет с удовлетворением замечает, что Хорезм, Золотая Орда, Булгар являются очагами единой тюркской культуры2.
Н. Исанбет принимал активное участие в обсуждении учебников по татарской истории и литературе. Его научная позиция оставалась неизменной и после принятия ряда постановлений на высоком уровне: Постановление ЦК ВКП (б) от 9 августа 1944 г. «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной организации»; Постановление Татарского обкома КПСС «Об учебнике татарской литературы для 8 класса средней школы» (от 2 сентября 1948 г.), «Об ошибках в учебнике литературы для 8 класса татарских средних школ» (от 18 января 1952 г.). Ученый всегда резко выступал против партийных установок формирования татарской идентичности, за что его не раз награждали клеймом националиста и панисламиста. Против Н. Исанбета организовывалась травля. Ученый-просветитель отстаивал концепцию о самобытном развитии национальной истории и культуры: «Минемчә, безнең Болгар, Сарай заманнарыннан, Казан ханлыгы һәм аннан соң да ХIХ гасыр урталарынача дәвам иткән әдәбиятыбызның рус һәм европа әдәбиятына бер нинди дә диярлек катнашы юк, булмады, берсе икенчесен тудырмады, телләре чыгышлары һәм юллар ук башка булган кебек, тарихлары да мөстәкыйль булды. Бу аермалары бүгенге тәэсир һәм йогынтылар белән һәм догмалар белән буташтырырга кирәкми һәм ярамый. Идел буе Болгар-Сарайда һәм Казанда X гасырларда ук үз җирле тамга хәреф язмасы булып, зур әдәбият булуы, аның Шәрек Ренессансы һәм әдәбияты белән мөнәсәбәттә туган булуы, шул ук вакытта бишенче гасырлардан калма ук төрки-хун-төрки теле белән багланышта җирле болгар, казан төркесе булып үскән булуы бәхәссез, шәһәрлек!»3. – «Я считаю, что наша литература со времен Булгара, Золотой Орды, Казанского ханства и вплоть до середины ХIХ в. развивалась поступательно вперед самобытно, не испытывая на себя никакого влияния русской и европейской литератур, естественно, никто не повлиял на рождение другого и пути их развития были отличны друг от друга, их история была столь же независимой, как и их языки. Сегодня нельзя вносить путаницу в трактовку этих различий, взяв на вооружение теорию взаимовлияний и другие догмы. Вне сомнения, что в городах Булгар, Золотой Орды и в Казани, начиная с Х в., имелась своя самобытная художественная литература на основе оригинальной письменности, развивавшаяся под влиянием идей Восточного Ренессанса и литературы этого периода, язык волжских булгар, казанских татар сформировался на основе языка древних тюрков орхоно-хунского периода (V век)» (подстр. пер.). Наки Исанбет на протяжении всей своей жизни вел решительную борьбу с фальсификаторами истории татарской культуры.
Обсуждение
Наки Исанбет и башкирский эпос «Идукай и Мурадым»
В 1928 г. Н. Исанбет стал членом Башкирской комплексной экспедиции АН СССР. Среди личных документов мы обнаружили Удостоверение №225, действительное на период с 16 июля по 1 сентября 1928 г. [27]. Фольклорист работал в составе фольклорно-лингвистического подотряда под руководством известного тюрколога Н.К. Дмитриева на территории Тамьян-Катайского, Аргаяшского и Месягутовского кантонов. Свою научную работу ученый вел в тесном сотрудничестве с видным педагогом и лингвистом З.Ш. Шакировым, с которым он сблизился еще в годы учебы в медресе «Мухаммадия» (Казань) [27, с. 107–108].
Во время экспедиции Н. Исанбет записал три варианта башкирского эпоса «Идукай и Мурадым» («Идүкәй менән Морадым») [2, с. 135]. Информанты – Салим хальфа, проживающий д. Кусимово (Күсем авылы) Тамьян-Катайского кантона (Абзелиловский р-н), Бикбулатов из деревни Туркменево Зилаировского района. Третий вариант был записан в д. Нугаево (Нугай авылы – Яикбаево, Баймакский район), возможно, из уст Гали Магадиева (имя в рукописи зачеркнуто). Татарский ученый-фольклорист собранный материал классифицировал как легенды. В своих комментариях Наки Исанбет указывает, что проделал сравнительную работу с вариантами, записанными его коллегами Сагитом Мирасовым (информант – Кадиргул карт из деревни Гадильша) и Даутом Юлтыевым (информант – Батырхан карт из Туксурана). В результате ученый-текстолог пришел к выводу, что варианты коллег мало чем отличаются друг от друга: «Алар минем кулымдагы вариантларга каршылык итмиләр, киресенчә, бик аз үзгәрешләр белән бер бөтендәш өлешләре булуын күрсәтәләр»4. – «Они не противоречат вариантам, которые оказались в моих руках, наоборот, указывают на наличие неизменного костяка, отличаются друг от друга лишь незначительными деталями» (подстр. пер.). Фольклорист сдал рукопись с текстом эпоса и вступительной научной статьей на арабской графике в Академцентр [27, с. 443]. В личном архиве ученого сохранились рукописи этой работы.
Текстологические комментарии ученого свидетельствуют о том, что Н. Исанбет уже в конце 1920-х гг. стремился расширить представление cвоих читателей о Золотой Орде. Так, в одной из ссылок фольклорист констатирует, что в башкирской версии все батыры из окружения Токтамыша, кроме Янбая, представлены как башкиры. Н. Исанбет утверждает, что в бытующих в среде башкир легендах Муйтен би (Мөйтән би) – это би, сосланный Чингиз-ханом на башкирские земли, основавший родовой союз из 12 родов. Н. Исанбет отмечает, что следы этих легенд можно обнаружить в башкирской топонимике – названиях кантонов БАССР5. Фольклорист в одном из комментариев дает сведения о родословной Идукая, идущей от Баба Тукласа. Формируя представление о дочери Токтамыш-хана, ученый пересказывает крымскую легенду «Хәникә кыз». В ней ханская дочь фигурирует под именем Әнкәҗан. В легенде рассказывается о трагической истории любви предводителя войска Саляхетдина к ханской дочери. Попутно Н. Исанбет подробно разбирает топонимические легенды Крыма, связанные с эпохой Золотой Орды. Ученый знакомит читателей с кругом книг, в которых нашел преломление сюжета о несчастной любви Нәнкәҗан и Саляхетдина: легенды и рассказы, опубликованные Гусманом Нури Акчокраклы, поэма Г. Шарафи «Нәнкәҗан» (Аң, 1917, №1), пьеса «Нәнкәҗан». На основе анализа старинной эпитафии ученый приходит к выводу, что материал легенды вступает в противоречие с историческими фактами. Н. Исанбет указывает, что имя Ханике встречается в труде Х. Атласи «Себер тарихы», а также в башкирском источнике «Кырык егет»6. Текстологические комментарии Н. Исанбета к рукописи «Идукай менән Морадым» красноречиво свидетельствуют о том, что ученый рассматривал башкирские варианты эпоса, привлекая широкий круг источников по Золотой Орде.
В 1930 г. Н. Исанбет на основе записанных вариантов подготовил сводный текст с научными ссылками. Его машинопись на латинице хранится в УФИЦ РАН7. В личном архиве Н. Исанбета нам удалось пока обнаружить лишь фрагменты этой рукописи. Во вступительном слове ученый сообщает, что материалом для его научного труда послужили не только записанные им в экспедиции варианты, но и отрывки из вариантов, записанных С. Мирасовым, Даутом Юлтыевым а также пословицы тюркских народов8. В одном из примечаний Н. Исанбет выражает благодарность коллегам за предоставленную ему возможность поработать с этими источниками9. Заслуживает внимание комментарий ученого о происхождении выражения «Төкләҫ йорто»: «Хәҙерге Өфө тауҙары һәм Дим буйҙарында Нугай хандарынан Төкләҫ һәм уның балалары йәшәгән. Бында «баба Төкләҫ йорто» тип аталыуы шунан булa кәрәк». – «На территории современной Уфы и окрестностях реки Дема из ногайских ханов жил с детьми хан Туклес. Видимо, отсюда и пошло выражение юрт Баба Туклеса» (подстр. пер.)10.
В сентябре 1929 г. в работе комплексной научной экспедиции наступает переломный момент. Государство стало «избавляться» от «старых специалистов». В 1929–1930 гг. «чистка» вылилась в громкие аресты по «Академическому делу». В 1929 г. было арестовано руководство, а затем рядовые сотрудники АН СССР. 12 января 1930 г. в газете «Красная Башкирия» была опубликована статья И. Шныра, анонсирующая репрессии в адрес членов Башкирской комплексной экспедиции. Автор статьи – секретарь Уфимского горрайкома ВЛКСМ, зав. орготделом Башкирского обкома ВЛКСМ, Белорецкого канткома ВКП(б) [40]. И.И. Шныра в своей публикации выразил озабоченность по поводу социального состава общества по изучению Башкирии: служащих – 56, крестьян – 75, рабочих – 4, с высшим образованием – 61, членов ВКП(б) – 34. Автор статьи был обеспокоен тем, что к Обществу примкнули антисоветские элементы в лице бывших членов валидовского правительства – 4, султангалиевцев – 3, бывшего муфтия, сына ишана, сына муфтия, бывшего члена Государственный Думы и прочие. Секретарь горрайкома призвал выметать таких людей «железной метлой», а также предупредил о грядущей «чистке» со стороны компетентных органов. Прогноз автора статьи сбылся – под арест попало 1500 человек [1].
Отец Н. Исанбета был мюридом шейха Зайнуллы Расули (Троицк). Получив иджазу, Сиразетдин мулла предпочел жить за счет мелкой торговли и хлебопашества, отказавшись от ишанства [27, с. 61–62]. 30 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». В результате Сиразетдин мулла был раскулачен и вместе с супругой Таиба абыстай выслан в Черемхово (Иркутская обл.), где вскоре скончался. От Н. Исанбета потребовали публично отречься от отца. Ученый предпочел ограничить контакты со своими родственниками, но отрекаться от них не стал. Н. Исанбету пришлось отбиваться от доносов, нацеленных на разоблачение муллы из д. Малояз и его родственников. Кроме того, разгорелся скандал вокруг его пьесы «Портфель», параллельно стал набирать силу конфликт с Г. Ибрагимовым. По иронии судьбы от ареста в рамках «Академического дела» ученого спас отъезд из Уфы в Казань в декабре 1929 г. и арест по делу «Джидегян» (7.02. 1931 – 15.04. 1931).
Н. Исанбет сдал рукопись сводного текста «Идүкәй менән Морадым» («Идукай и Мурадым») в Научное общество в начале 1930 г.. Судя по пометке секретаря Даута Юлтыева на титульном листе рукописи, научный труд Н. Исанбета прошел обсуждение на заседании секции языка и литературы 17 января 1930 г. По итогам заседания книгу было рекомендовано издать в Башкирском книжном издательстве, согласно Научного плана. Научный труд Н. Исанбета был передан главному редактору Г.К. Давлетшину. На протяжении десятилетия с этой рукописью работали деятели различных уровней. Так, судя по пометке зав. отдела печати Башкирского обкома ВЛКСМ Г. Амантаева от 29.12.1934, тов. Амиров к 5 января 1935 г. должен был написать вступительное слово к книге. На полях рукописи имеются пометки и замечания А. Тагирова, Г. Амантая и др.11
Наряду со сводным текстом «Идукай менән Морадым» Н. Исанбет передал в Башкирское книжное издательство рукопись своей книги «Башкорт халык әдәбияты теориясе һәм хрестоматиясе» («Теория башкирского фольклора и хрестоматия»). Однако в связи с делом «Джидегян» и репрессиями в адрес членов Башкирской комплексной экспедиции все издательские договора с Н. Исанбетом были анулированы. Супруга писателя была вынуждена передать в собственность БАШГИЗа пианино, чтобы компенсировать предоплату гонорара, выплаченного ученому накануне его отъезда в Казань [27, с. 415]. Постановлением коллегии Башнаркомпроса во исполнение распоряжений областного комитета ВКП(б) в январе 1932 г. общество по изучению Башкирии было упразднено12.
Сводный текст Н. Исанбета пролежал без движения в издательстве 10 лет. Ученый систематически поднимал вопрос о судьбе своего научного труда. Так, в личном архиве ученого сохранилось его «Открытое письмо» в адрес Союза писателей БАССР, где он протестует против игнорирования своего вклада в изучение творчества чичяна Фарраха Давлетшина (Сукыр Фәррах) и интересуется судьбой своего сводного текста и научной статьи13. Сводный текст «Idukәj һәм Моradum» увидел свет лишь в апреле 1940 г. [43]. Текст сводного текста перевел на татарский язык переводчик Максуд Сюндюкле. Машинопись на латинице объемом в 32 с. хранится в УФИЦ РАН14.
Параллельно Н. Исанбет занимался продвижением своей текстологической работы в центральные издательства. Так, в архиве писателя мы обнаружили почтовую карточку, присланную из Москвы Ахмедом Ерикеевым от 27 апреля 1933 г., где говорится, что народный эпос включен в план «Academia» – книжного издательства, выпускавшего серии «Сокровища мировой литературы», «Памятники литературного, общественного, художественного быта и искусства» [27, с. 652–653]. Поэт-переводчик был земляком Н. Исанбета, уроженцем деревни Улькунды Златоустовского уезда Уфимской губернии (ныне Дуванский район Башкортостана). Сводный текст был переведен на русский язык А. Ерикеем, А. Минихом, но не увидел свет.
Наки Исанбет – составитель сводного текста татарского народного дастана «Идегей».
С 1936 г. в Москве стали проводиться Декады национального искусства. В связи с этим в СССР стал расти интерес к эпическому наследию народов. В Союзе писателей СССР были сформированы специальные комиссии по подготовке юбилейных мероприятий в честь народных эпосов. Так, в 1937 г. весь Советский Союз отмечал 750-летие поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре», а в 1939 г. – 1000-летие средневекового армянского эпоса «Давид Сасунский». Соответствующая комиссия была сформирована и по подготовке сводного текста дастана «Идегей». В Казани при Наркомпросе была создана правительственная комиссия по проведению 500-летия эпоса «Идеге». Председателем комиссии был назначен нарком У.Т. Контюков, секретарем – Я. Агишев, а членами стали С. Баттал, Н. Исанбет, Ш. Маннур. С весны 1940 года вопросы, связанные с эпосом, стало курировать Управление по делам искусства, а затем – комиссия по подготовке Декады татарского искусства в Москве, которая по решению ЦК ВКП (б) и СНК СССР должна была проводиться в конце 1941 г.
С. Баттал в своем письме к Н. Исанбету, отправленном из Москвы 7 мая 1940 г., сообщает о результатах первого заседания комиссии при Союзе писателей СССР по «Идеге» в Москве. Поэт-представитель ТАССР познакомил присутствующих с вариантом эпоса, записанном в Сибири от информанта Ситдыйк бабая. В 1919 г. с ним встречался фольклорист Н. Хакимов, а в 1924 г. – Х. Рахматуллин. В работе комиссии принимали участие также представители Башкирии (историк А. Усманов), Каракалпакии и Казахстана. На заседании было принято решение – начать в регионах текстологическую работу по созданию сводного текста. В письме С. Баттал с удовлетворением пишет о том, что татарский вариант выгодно отличается от вариантов других народов, у которых эпос сохранился только в виде легенд и сказок. В связи с этим автор письма просит Н. Исанбета, систематизировав все имеющиеся варианты, оттолкнувшись от варианта Ситдыйка бабая, создать в оптимальные сроки сводную версию татарского дастана. С. Баттал рекомендует ученому, не теряя времени, выехать в Сибирь для сбора дополнительных материалов15.
Отлученный в годы репрессий от литературы писатель в этот период был вынужден искать работу в Заказанье, сконцентрировавшись на педагогической и научной деятельности. В 1938–1939 гг. Н. Исанбет заведовал педагогическим кабинетом в Атне. Обходя подведомственные школы, ученый встречался с населением, чтобы пополнить свою коллекцию фольклорных и этнографических материалов, что вызывало неудовольствие и опасения у местной администрации. Руководство деревень всячески препятствовало деятельности фольклориста [27, с. 471–476]. Помятуя об этом, перед поездкой в Сибирь Н. Исанбет озаботился оформлением удостоверения корреспондента по собиранию народного творчества. Документ был оформлен 3 мая 1940 года от имени Татарского научно-исследовательского института языка и литературы16. По возвращению фольклорист предпринял попытку сдать собранные материалы в институт, однако их не приняли, так как Н. Исанбет не был сотрудником этого научного учреждения.
В БАССР велась активная работа по составлению сводного текста «Идүкәй менән Морадым». М. Бурангулов, Р. Нигмати, Б. Бикбай трудились над решением этой текстологической задачи под руководством историка А. Усманова. Они завершили свою работу к октябрю 1940 г. Башкирские фольклористы признают, что Н. Исанбет оказался «порасторопнее» своих коллег и успел издать два сводных текста [18, с. 9]. Сводный текст дастана «Идегей» был опубликован в журнале «Совет әдәбияты» в №11–12 за 1940 год (№11 подписан к печати 8 января 1941 г.) [15]. Ф. Урманчеев в своей монографии, посвященной дастану «Идегей», отмечает, что С. Баттал высоко оценил как опубликованный Н. Исанбетом сводный вариант дастана, так и его вводную теоретическую статью. Однако Татарский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории в своем официальном отзыве раскритиковал материалы текстолога за то, что «они не принадлежат народному варианту» [36, с. 9].
Н. Исанбет в научной статье «500 лет татарского народному дастану «Идегей»» указывает на то, что ему известно 34 тюркских варианта этого эпоса: татарских – 17, башкирских – 3, казахских – 2, ногайский – 1, каракалпакский – 1, узбекский – 1, ойратский – 1, туркменский – 1. Текстолог счел нужным заметить, что вариантов, бытующих в среде народа, намного больше. На основе сравнительно-сопоставительного анализа различных вариантов (содержание, структура, стиль) Н. Исанбет приходит к выводу о том, что все варианты есть вариации одного дастана, бытовавшего среди народов Золотой Орды 500 лет. Ученый знакомит читателей с принципами своей текстологической работы при составлении сводного текста, а также перечисляет 17 источников, послуживших его основой. Фольклорист знакомит читателей с историей происхождения этого эпоса, а также дает краткую характеристику всем имеющимся в его распоряжении татарским вариантам дастана. Н. Исанбет систематизировал в своей статье исторические сведения о Золотой Орде. Ученый дал краткие сведения об экономике, социальном устройстве этого государства. Н. Исанбет кратко охарактеризовал семантический потенциал ключевых этнонимов, топонимов. В статье содержатся краткие сведения об эпохе правления хана Токтамыша и «восстании Идегея». Сводный текст был снабжен обширными научными комментариями, позволяющими читателям сформировать представление не только о семантическом потенциале неизвестных слов и выражений, но и о круге источников, проливающих свет на происхождение ключевых персонажей, ключевые события сюжетных линий эпоса [15; 27, с. 489–561].
Хронику работы Н. Исанбета над сводным текстом «Идегей» позволяют отследить газетные публикации 1940-х гг. Бросается в глаза, что, чем ближе Декада, тем шире становится круг лиц, претендующих на вклад в создание сводного текста дастана «Идегей», а после принятия знаменитого Постановления ЦК ВКП(б) от 9 августа 1944 г. составитель Н. Исанбет вновь остается в гордом одиночестве (см. подр. [7; 10; 13; 28; 34]).
Вслед за Н. Исанбетом в Сибирь была снаряжена экспедиция Татарского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, однако собранных его участниками материалов оказалось недостаточно для создания самостоятельных публикаций. По возвращению они подали жалобу в Татарский обком ВКП (б), обвинив в своих неудачах на ниве поисковой работы Н. Исанбета. Из рукописных материалов, имеющихся в Фондах института, был опубликован лишь вариант старика Гафура (1915) [8]. В связи с этим Н. Исанбета вызвали в Обком партии, чтобы поручить ему подготовку нового варианта сводного текста с включением материалов, хранящихся в фондах института. Руководство республики было заинтересовано, чтобы книжный вариант сводного текста увидел свет под грифом научного института. Когда Н. Исанбет отказался взяться за эту работу, обком воспользовался «методом кнута и пряника». Писателю пообещали, что на грядущей декаде он не будет обделен: в Москве будут показаны спектакли по его пьесам «Хужа Насретдин» и «Идегей». Столкнувшись с сопротивлением Н. Исанбета, руководство обкома стало шантажировать ученого незакрытым делом «Джидегян». Мало кому известно, что во время ареста по этому громкому делу, семья Н. Исанбета оказалась в бедственном положении, без средств к существованию. Семья потеряла новорожденного сына Узбека. Дело «Джидегян» было закрыто только в период «оттепели». Под давлением сложившихся обстоятельств ученый вынужден был приступить к подготовке второй редакции сводного текста. Дочь писателя – музыковед Юлдуз Исанбет в своих выступлениях на судебных заседаниях о нарушении авторских прав Н.Исанбета в 1990-х гг. приводит перечень источников из фондов института, которые использовал в своей работе ученый-текстолог в 1941 г.: три записи Х. Рахматуллина (1915–1924), вариант Х. Канзуфарова – работника районной газеты из Башкирии, переданный в институт в 1940 году, список Хангильдина, «Из тетради Максудовой» и три записи Х. Ярми из сибирской экспедиции 1940 года. [27, с. 693–710].
Очевидно, что Н. Исанбету не удалось уложиться в утвержденные руководством республики сроки, так как параллельно шла работа над доработкой трагедии «Идегей». В личном архиве писателя сохранилась служебная записка Председателя правительственной комиссии по «Идеге» У.Т. Контюкова от 10 апреля 1941 г, в которой сообщается, что Н. Исанбет не выполнил в срок поручение, данное ему на заседании от 9.01.1941: представить сводный текст к 9.02.1941. В служебной записке утверждается, что Н. Исанбету была предоставлена отсрочка до 3.04.1941. Н. Исанбет вновь не уложился в график работы, т.к. до марта 1941 г. плотно работал над доработкой трагедии «Идегей». Завершив работу с театром, ученый представил новый вариант сводного текста для проверки в фольклорный сектор института.
Работа над созданием и редактированием нового варианта сводного текста велась с 06.05.1941 по 14.09.1941. Была сформирована текстологическая комиссия из Н. Исанбета, Х. Ярми и Ш. Маннура. С результатом их работы познакомился секретарь Татарского обкома партии С.А. Мухаметов. 05.09.1941 состоялось обсуждение нового варианта сводного текста на заседании Ученого совета института. Н. Исанбет предложил ввести в состав редколлегии Х. Ярми и Ш. Маннура, т.к. их работа была трудоемкой и потребовала специальных знаний эпоса. Кроме того, по мнению Юлдуз Исанбет, ученый-энциклопедист не хотел нести единоличную ответственность за результат коллективного редактирования своей работы, т.к был недоволен его результатом. Н. Исанбет отредактировал свои научные комментарии, которые отрецензировал историк Хайри Гимади (Гимадутдинов Хайрутдин Гимадеевич) [27, с. 693–798]. Работа полностью была завершена к 19 сентября. Текст был заново перепечатан17. На титульном листе этого варианта кем-то зачеркнут машинописный заголовок «Татар халык дастаны. Идегәй. Н. Исәнбәт җыйнамасы» («Татарский народный эпос. Идегей. Собрание Н. Исанбета»). Внизу листа рукой Х. Ярми написано: «Производствога бирергә мөмкин. Төзәтүләрне шушы экземпляр буенча ясарга. Редакторлар Х. Ярми. Төзүчесе: Н. Исәнбәт» («Можно сдать в производство. Вносить изменения в этот экземпляр». Редактор Х. Ярми. Составитель: Н. Исанбет»). Имя редактора Х. Ярми поставлено до имени составителя. Затем другими чернилами неизвестным лицом была приписана фамилия Ш. Маннура. [27, с. 698]. В протоколе заседания Ученого совета института от 5 сентября 1941 года говорится о том, что редакторы Н. Исанбет, Х. Ярми, Ш. Маннур, сократив механически 800 строк, добавили 88 строк и в 132 строки внесли текстовые коррективы. [27, с. 698]. Об этом же пишет и Ф. Урманчеев в своей книге «Народный эпос «Идегей»» [36, с. 9–11]. Очень жаль, что ученый предпочел не знакомить общественность с результатами своей текстологической экспертизы, которая ему была заказана в рамках судебного разбирательства о нарушении авторских прав в 1990 гг. Возможно, причина кроется в том, что Н. Исанбет оформил отвод этого эксперта из Елабужского педагогического института, т.к. узнал, что Ф. Урманче получил приглашение устроиться на работу в ИЯЛИ.
Новая редакция сводного текста не была опубликована в 1941 г., т.к. началась Великая Отечественная война. В 1944 г. было принято знаменитое Постановление ЦК ВКП(б) от 9 августа 1944 г. Лед тронулся только весной 1988 г., когда состоялось совещание Республиканского координационного совета по филологическим вопросам при ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова и было принято решение издать сводный текст дастана. Н. Исанбет был против издания варианта сводного текста, искореженного под давлением партийной цензуры. Однако его требование было проигнорировано. В «Казан утлары» был опубликован сокращенный журнальный вариант (в редакции и с комментариями Ф.В. Ахметовой) [17], в Татарском книжной издательстве – книжный вариант эпоса (в редакции и с комментариями И.Н. Надирова) [14]. Н. Исанбет отстоял свое авторское право на целостность составленного им сводного текста в судебном порядке в Москве [27, с. 691–798]. Дело было передано в Куйбышевский суд, где располагалось региональное отделение ВАПП (см. письмо А.С. Умнова О.В. Морозову [27, с. 676–679]).
Интересно сложилась судьба перевода «Идегея», выполненного С. Липкиным. Поэт завершил работу над переводом в 1942 г. и передал его в ЦК ВКП (б). В 1989 г. переводчик подготовил новую редакцию перевода, за которую в 1992 г. получил Государственную премию РТ им. Г. Тукая. В личном архиве Н. Исанбета сохранилась переписка с переводчиком [27, с. 653] и несколько глав пробного перевода, выполненного в 1941 г.
На рубеже ХХ–ХХI вв. был защищен целый ряд диссертаций целый ряд диссертаций и написаны научные труды, посвященные изучению «Идегея». Однако исследователи дистанцируются от текстологического изучения вариантов, легших в основу сводного текста татарского народного дастана [3; 6; 23; 24; 35; 37; 38; 41; 25]. Татарское книжное издательство неоднократно издавало «Идегей», нарушая целостность сводного текста, составленного Н. Исанбетом [9; 11; 12, 14, 16], хотя с ученым 27 октября 1941 г. был заключен издательский договор №51918. Авторские права Н. Исанбета были неукоснительно соблюдены лишь при издании «Идегея» в Турции на турецком языке Международной организацией ТЮРКСОЙ [42].
Литературная и сценическая судьба трагедии Н. Исанбета «Идегей»
Н. Исанбету было поручено к декаде 1941 г. создать трагедию «Идегей». Из Москвы в декабре 1940 г. прибыла комиссия во главе с писателем А. Фадеевым. Рецензентом трагедии выступил Г. Баширов [23, с. 439]. В личном архиве Н. Исанбета хранится стенограмма второго обсуждения трагедии 14 января 1941 г. в Москве19. В ходе доработки драматург сократил первоначальный объем трагедии на 35 с. В обсуждении принимали участие театроведы В.Ф. Залесский, Б.В. Амперс, П.И. Новицкий, режиссеры Е.Г. Амантов, О.И. Пыжова, К.З. Тумашева, театральные деятели Весеньев, Ральф. Поблагодарив автора за создание столь талантливой пьесы, участники обсуждения порекомендовали ему внимательно пересмотреть все сюжетные линии. Предметом особого восхищения у Б.В. Асперса стал образ Субры. В.Ф. Залесский, Б.В. Асперс порекомендовали Н. Исанбету избавить образ Токтамыша от карикатурных черт, найти драматические узлы в линии отца (Идегей) и сына (Нурадын). Между критиками разгорелся спор вокруг образа коварного Джамбая. Критик П.И. Новицкий, разбирая систему персонажей трагедии, указал на то, что они по своему решению тяготеют скорее не к драматическому, а к полюсу оперных персонажей. С этим отчасти согласилась и режиссер О.И. Пыжова: «Если в оперу эпос очень укладывается хорошо и огромный, богатый материал можно спеть, здесь автору надо передумать творчески принципиальные позиции, как эпос укладывается в драматическую вещь». Режиссер порекомендовала Н. Исанбету отсечь все то, что не движет действие вперед, что не захватывает зрителя и слушателя»20. О.И. Пыжова обратила внимание присутствующих на то, что автор написал трагедию на основе национального эпического материала. Режиссер похвалила Н. Исанбета за его стремление сохранить национальное своеобразие образов, однако порекомендовала озаботиться созданием органичной драматической формы. Автор завершил доработку трагедии в марте, а в апреле начались репетиции в театре [30]. Пьеса была подписана в печать 23 августа 1941 года [19].
Е.Г. Амантов в своей режиссерской экспликации так определяет основу конфликта в трагедии «Идегей»: «борьба двух классов золотоордынского ханства. Противоборствующие силы – верхушка феодальной знати, отстаивающая изживающий себя государственный строй, старые консервативные устои, и народ, выдвинувший из своей среды героя-вождя, способного объединить силы для освобождения от многовекового рабства. Протест народа против поработителей (внутренних или внешних – все равно) стал лейтмотивом народного эпоса, а личность героя – тем знаменем, которое способно объединить протестующий народ». Постановщик был уверен, что спектакль «должен быть заряжен большим оптимизмом, огромной волей к победе, должен мобилизовать мысль смотрящего»21. Очевидно, что в ходе доработки Н. Исанбета вынудили подогнать систему персонажей и сюжетные линии под четко выраженную идеологическую основу.
В краткой докладной записке Управления по делам искусств при СНК ТАССР, адресованной секретарю Татарского обкома ВКП (б) т. Колыбанову, утверждается, что подготовительная работа к декаде к концу июня 1941 г. в основном была завершена. Кроме того, в этом документе содержатся сведения о готовности спектаклей по пьесам Н. Исанбета «Идегей» и «Хужа Насретдин»22. Премьера «Идегея» состоялась 30 октября 1941 г. Как отмечает театровед А. Габяши, «спектакль был наполнен горячими страстями, масштабными батальными сценами, яркими колоритными образами. Нервный, мелочный и порочный Токтамыш противопоставлялся величественному, мужественному, уверенному в себе Идегею, а лживый, корыстный и двуличный мир дворцовых интриг – искренним, неподдельным страданиям простых людей и праведному народному гневу. С большой отдачей и воодушевлением играли в спектакле лучшие татарские актеры: Х. Абжалилов, Г. Болгарская, Н. Арапова, З. Султанов, Н. Гайнуллин, Г. Зиатдинов, Ш. Шамильский, Х. Салимжанов, Ф. Халитов и другие» [33, с. 247]. Искусствовед Р.Р. Султанова оценивает эскизы к спектаклю как «принципиально новаторские в области татарского декорационного искусства». Если в устройстве интерьера у художника П.Т. Сперанского преобладал «укрупненный цветочно-растительный орнамент восточных тканей татарской вышивки, то в костюмах активную роль» играл декор, «основанный на виртуозном варьировании одних и тех же мотивов золотоордынской керамики и зеркал ХIII–XIV вв.» [29, с. 206]. В 1941 г. спектакль был показан 6 раз. Спектакль вскоре исчез из афиши, т.к. в годы войны в здании татарского театра разместили эвакопункт, а сценическая площадка Большого драматического театра была мало приспособлена к масштабным декорациям «Идегея» [33, с. 247].
Тема Золотой Орды в сборниках татарских народных загадок (сост. Н. Исанбет)
Наки Исанбет пользовался любой возможностью для популяризации сведений об истории и культуры Золотой Орды. Его фольклорные сборники получили высокую оценку не только у отечественных, но и у зарубежных ученых (Николай Поппе, Иштван Мандоки (Ласло Мандоки)) [27, с. 5–6]. В 1941, 1970 гг. фольклорист выпустил сборники татарских народных загодок [30; 32], разработал теорию анализа загадок. В разделе «Древние загадки» мы обнаружили образцы загадок, своими корнями уходящими в эпоху Золотой Орды. Научная статья ученого о загадках свидетельствует о том, что Н. Исанбет интересовался доисламскими верованиями в Золотой Орде, в частности – тюркско-монгольским шаманизмом, а также изучал элементы шаманского культа, сохранившегося в тюркской среде после принятия Ислама [32, 16–22, 71–78 б.]. Фольклорист проделал кропотливую сравнительно-сопоставительную работу бытующих в среде татарского народа загадок с 47 загадками, собранными католическими миссионерами в 1303 г. (Кодекс Куманикус). Н. Исанбет включил в свой сборник загадки, обнаруженные на полях старинных рукописей, в частности «Нәһҗел-Фарадис», относящейся к золотоордынскому периоду. Татарский ученый акцентирует внимание на том, что это произведение было написано выходцем из Булгара, жившем в золотордынском Сарае. Н. Исанбет положительно отзывается о деятельности К. Насыри, Х. Бадыги и др., занимавшихся систематизацией древних загадок тюркского средневековья [32, 74–75 б.].
Так, например, фольклорист считает, что древняя загадка о надвигающейся грозе, бытующая в разных вариантах в среде татар, каракалпаков и ногайцев, родилась на территории Золотой Орды еще в ХIII в.. В ней речь идет о 5 сакмарских ожеребившихся кобылах, чьи жеребята разбежались по сторонам:
Вариант загадки эпохи Золотой Орды о грозе | Татарская народная загадка о грозе |
Сарайдагы сары айгыр Салаулатып кешнәмеш, Белтирдәге беш күлүк Беши билә кукунламыш.
Күлек – йөк хайваны (Примечание Н. Исанбета). Подстр. пер.: домашнее животное.
Во дворце семь жеребцов каурой масти, Приветствуют ржанием, В загоне вьючные животные Ожеребились все пятеро. Подстр. пер.
| Сакмардагы сара айгыр Сагынып торып кешнидер, Билтәрдәге биш биям Бишесе дә колынлый, Колыннары сорала, Ян-ягына тарала, Аны күргән кешенең Зиһеннәре тарала. [32, 472–473 б.].
В Сакмаре жеребцы каурые В тоске оглашают окрестности своим ржанием, В загоне 5 кобыл, Ожеребившиеся по жеребенку, Они разбежались по сторонам, У увидевших эту картину Разум приходит в смятение. Подстр. пер. |
Ценными на наш взгляд являются наблюдения Н. Исанбета над ассоциативными трасформациями слова белтир на протяжении ХIII–XVIII вв. [32, 472–473 б.].
Ученый обращает внимание читателей на то, что загадка о радуге, записанная им в Бигашевской школе Альметьевского района РТ в 1950 г. созвучна загадке, записанной католическими миссионерами.
Вариант загадки эпохи Золотой Орды | Татарская народная загадка |
Бити-бити бетедем Биш агачка битедем, Кенә-суы йөгерттем, Күк йебеккә чырмадым.
Пишу, пишу свое письмо На пяти дощечках, Разгоняя ртуть, Завернув в голубой шелк небеса. Подстр. пер.
| Бөтә-бөтә бөтәгән Бөте өстендә көтегән, Кенә суы йөгерткән, Күк җеп белән каеган [32, 472–473 б.].
«Бөти», «бөтү» сүзләре язма тылсымлы догалык мәгънәсендә хәзер дә бар. (Примечание Н. Исанбета). – Слова «бөти», «бөтү» до сих бытуют в нашем языке в молитвенном значении (Подстр. пер.).
Пишу, пишу свое письмо По письменам Гоню ртуть вверх, Заворачиваю в голубой шелк небеса. Подстр. пер. |
Н. Исанбет считает, что в современном чтении эта древняя загадка на татарском языке должна звучать следующим образом: «Яза-яза яздым, биш агачка яздым, терекөмеш йөгерттем, күк ефәккә чорнадым». – «Мяла-мяла-разминала, протянула по 5 деревьям, пропустила ртуть, небо обернула голубым отрезом шелка» (подстр. пер.).
Н. Исанбет в своем сборнике приводит убедительные доказательства родства целого десятка древних татарских загадок с загадками, бытовавшими еще во времена Золотой Орды. Ученый их обнаружил либо в сборниках фольклористов-предшественников (Бадигый Х. Халык әдәбияты, II кисәк, 1912; Иванов М. Татарская хрестоматия, 1838; Салихов М. Мәкальләр һәм табышмаклар, Казан, 1880; Насыйри К. «Фәвакиһел җөләсе» (1884)
Татарские Юнки (Пенза, ныне Республика Мордовия), Арсланов Г. «Бик кызык табышмаклар», 1910–1913), либо записал в среде татарского народа (Бавлы, Тетюши, Бигашево, Байряка (Татарстан), Юнэ (Пенза)) [32]. Интересен тематический диапазон этих загадок: природные стихии, земледелие, предметы быта, человек.
Тема Золотой Орды в сборнике «Татарские народные пословицы» Н. Исанбета
В cборнике «Татарские народные пословицы» Н. Исанбета мы обнаружили целый ряд пословиц, отсылающих нас к ханам Золотой Орды. Так, в одной из них упоминается Мухамед Бердибек-хан (ок. 1310 – 1359), правивший Золотой Ордой в 1357–1359 гг.: «Үгез муены өзелде, Бирдебәк тә киселде» («Оборвалась шея быка, прекратилось на Бирдебеке»). Н. Исанбет рассматривает эту полную народной иронии пословицу как отголосок трагической истории ликвидации ханом Бирдебеком своих родственников, что обернулось уничтожением правящего рода Батуидов [22, с.759]. В двух пословицах встречается имя Чингиз-хана (ок. 1155 или 1162–1227), основателя и Великого хана Монгольской империи (1206–1227). В одной увековечено полученное Чингиз-ханом донесение о гибели старшего сына Джучи хана, облеченное в метафорическую форму. Ученый приводит два вариант бытования этой пословицы в среде татарского народа:
Вариант эпохи Золотой Орды | Татарская народная пословица |
Диңгез баштан болганды, кем тондырыр, и ханым? Тирәк төптән егылды, кем торгызыр, и ханым? (В.Бартольд. «Туркестан во время монголов») [21, 328 б.]
Море взбаламутилось с истока, кто его успокоит, мой хан? Тополь упал, надломившись у корневища, кто поднимет его, мой хан? (Подстр. пер.) | Диңгез баштан болганыр. (К. Насыйри) Диңгез башыннан болгана. (Исмагил Мусин, Казан)
Море взбаламутилось с истока. (К. Насыри) Море взбаламутилось с истока (Исмагил Мусин, Казань). (Подстр. пер.) |
В другой пословице увековечен статус правителя Чингиз-хана: «Дәүләте диңгез булган, үзе Чыңгыз булган». – «Государство его было морем, а сам он был Чингиз-ханом». (подстр. пер.) [22, 452–453 б.].
Н. Исанбет включил татарскую пословицу о Тамерлане (1370–1405), эмире железном и хромом, своими корнями уходящую в притчу «Падение муравья»: «Аксак кырмысканың агачка менүен күреп, / Аксак Тимер тәхеткә менгән, имеш, ди». – «Говорят, Аксак Тимер решил сесть на престол, т.к. увидел, как хромой муравей поднялся на дерево» (подстр. пер.). В версии Н. Исанбета, не принадлежавший к роду Чингиз-хана Тамерлан принял решение занять ханский престол после длительных наблюдений за хромым муравьем, поднимающимся на дерево [21, 367 б.].
О древности пословицы сибирских татар ученый судит по встречающемуся здесь слову байса/байза: «Эт муенына алтын байча такса да, тизәк җиюын куймас» [22, 452–453 б.]. Дело в том, что оно в Золотой Орде использовалось для верительной бирки по наделению особыми полномочиями представителя власти.
В свой сборник Н. Исанбет включает пословицу из татарской летописи ХVII в. «Дәфтәре Чыңгызнамә», созданной на основе фольклорных источников Золотой Орды и Казанского ханства: например, «Көчле белән көрәшеп булмас, бикләр белән алышып булмас» – «Не стоит биться с сильными, не стоит сражаться с беками» [22, 758 б.].
Тема Золотой Орды в татарских фразеологизмах, собранных Н. Исанбетом
Интересный материал мы обнаружили и в статье Н. Исанбета, посвященной проблеме историзма татарских фразеологизмов. Ученый приводит 8 фразеологизмов, чье происхождение связано с Золотой Ордой. Так, Н. Исанбет считает, что фразеологизм «Авызын ачса үпкәсе күренә» – «Коли откроешь рот, увидишь легкое» (подстр. пер.) родился на основе старинной загадки «дверь – огонь». Оказывается, наблюдая за бликами пламени очага через вход в юрту, монголы разглядели в нем образ розового легкого.
Аналоги татарских фразеологизмов ученый-энциклопедист обнаружил и в сочинениях Рабгузи:
Фразеологизм эпохи Золотой Орды | Татарский фразеологизм |
Аз азыклыг, күп языклыг (ХIV йөз башы Рәбгузи әсәреннән)
Меньше пищи, много грехов. Подстр. пер.
| Аз азыклы, күп языклы Аз азыклы, күп языклы күдәй галиме» («Сөбател-гаҗизин» китабыннан)
Меньше пищи, много грехов. Богослов, питающийся скудно, имеющий много грехов. (из книги писателя ХIX в. Тазетдина Ялчыгула) Подстр. пер. |
Гуҗ Гоныкның угылы ирде, озын буйлыг ирде. Туфан суы енчекендин (тез төбеннән) юкары чыкмады. Тиңизгә илкин сукып, нәһәкләрне тотып, афтапка пешереп ейер ирде (ХIV йөз башы Рәбгузи әсәреннән)
Сын обжоры Гуны был ростом высок, вода в половодье была ему по колено, глуша ударами ладоней по водной глади, он ловил рыбу, жарил и складывал горкой. (ХIV век, из произведения Рабгузи) Подстр. пер. |
|
Н. Исанбет считает, что в фразеологизме «Амайдагы-мамайдагы», бытовавшем в Касимове, увековечен знаменитый беклярбек и темник Золотой Орды Мамай.
Ученый обращает внимание на то, что в ряде фразеологизмов сохранились следы нравов-обычаев, царящих в Золотой Орде:
- скрепление соглашений клятвами и тамгами («Ант-шарт итеп»)
- обычая подданного, получая приказ от хана, вставать на колени и класть текст приказа себе на голову, демонстрируя таким образом свою исполнительность («Баш өсте»)
- обычай торговать на сторону рабами («Киткән баш – киткән»; «Кыр галәмәт килү») [20, с. 128–129].
Вклад Н. Исанбета в изучение и пропаганду искусства чичянов Золотой Орды
Н. Исанбета внес солидный вклад в изучение феномена народных исполнителей (чичяны). В научной статье к сводному тексту дастана «Идегей», размышляя над образом Субра-җырау, фольклорист сообщает о том, что имеются старинные источники, где политического лидера монголов Джамуху (1162–1205) называют чичяном. Он прославился тем, что вступил в открытую ссору с самим Чингиз-ханом, хотя некогда считался его другом-побратимом. Н. Исанбет называет в своем научном труде имя еще одного народного исполнителя-чичяна: в период правления Жанибек-хана (1474–1480) широкую известность получил поэт-имповизатор Джиренче чичян [15, с. 61]. Его образ Н. Исанбет увековечил в своей комедии «Җирән чичән белән Карачәч сылу» («Рыжий насмешник и его черноволосая красавица») [32, 255–260 б.]. (см. подр. об этом в другой нашей работе [39, с. 134–138]).
Выводы
Научное и литературное наследие Наки Исанбета красноречиво свидетельствует о том, что ученый-энциклопедист последовательно занимался разработкой научных проблем, связанных с Золотой Ордой, и популяризировал сведения о ней среди широкого круга читателей. Наработки ученого в сфере истории, текстологии, языкознания, фольклористики, литературоведения до сих пор не утратили своей актуальности. Мы надеемся, что, работая в личном архиве просветителя, в дальнейшем обнаружим содержащиеся в специальной папке «Литература и культура Золотой Орды» материалы и введем их в научный оборот.
1 Иcәнбәт Н., Б.Д. Греков, А.Ю. Якубовский «Алтын Урда» китабының конспекты // Личный архив Наки Исанбета. Рукопись. С. 1, 6.
2 Иcәнбәт Н., Б.Д. Греков, А.Ю. Якубовский «Алтын Урда» китабының конспекты // Личный архив Наки Исанбета. Рукопись. С. 14.
3 Иcәнбәт Н. Фикерләр // Личный архив Наки Исанбета. Рукопись. Без даты. 3 с.
4 Исәнбәт Н. Идүкәй менән Морадым. Текст. 36 б. Фәнни мәкалә «Идүкәй менән Морадым күсереге турысында». 24 б. // НА УНЦ РАН: Ф.3, Оп.12. Д. 232.
5 Исәнбәт Н. Идүкәй менән Морадым. Текст. 36 б. Фәнни мәкалә «Идүкәй менән Морадым күсереге турысында». 24 б. // УФИЦ РАН: Ф.3, Оп.12. Д. 232. С. 44–46.
6 Исәнбәт Н. Идүкәй менән Морадым. Текст. 36 б. Фәнни мәкалә «Идүкәй менән Морадым күсереге турысында». 24 б. // УФИЦ РАН: Ф.3, Оп.12. Д. 232. С. 53–55 б.
7 Idykэj һэm Moradym / Nәgi Isәnbәt варинты. Текст. 42 b. Кеrеs sүzе. 34 b. // УФИЦ РАН: Ф.3, Оп.12, Д 223; Ф.3, Оп.12, Д.225; Ф.3, Оп.12, Д.231.
8 Idykэj һэm Moradym / Nәgi Isәnbәt варинты. Текст. 42 b. Кеrеs sүzе. 34 b. // УФИЦ РАН. Ф. 3, Оп. 12, Д. 223. 33–34 б.
9 Idykэj һэm Moradym / Nәgi Isәnbәt варинты. Текст. 42 b. Кеrеs sүzе. 34 b. // УФИЦ РАН. Ф. 3, Оп. 12, Д. 223. 40 б.
10 Idykэj һэm Moradym / Nәgi Isәnbәt варинты. Текст. 42 b. Кеrеs sүzе. 34 b. // УФИЦ РАН. Ф. 3, Оп. 12, Д. 223.
11 Исәнбәт Н. Идүкәй менән Морадым. Текст. 36 б. Фәнни мәкалә «Идүкәй менән Морадым күсереге турысында». 24 б. // НА УНЦ РАН: Ф.3, Оп.12. Д. 232.
12 НА РБ. Ф.798. Оп. 1. Д. 2604. Л. 30.
13 Н. Исәнбәтнең Башкорт Яучылар Союзына язган Ачык хаты // Н. Исәнбәтнең шәхси архивы. Кулъязма. Латин хәрефендә. 4 б.
14 Idykэj һэm Moradym / Nәgi Isәnbәt варианты. Текст. 42 b. Кеrеş sүz. 34 b. // УФИЦ РАН. Ф. 3, Оп. 12, Д. 232.
15 С. Батталның Н. Исәнбәткә язган хаты // Н. Исәнбәтнең шәхси архивы. 07.05.1940. Латин хәрефендә. 2 б.
16 Удостоверение Татарского научно-исследовательского института языка и литературы от 3 мая 1940 года // Личный архив Н. Исанбета.
17 Центр письменного и музыкального наследия (ЦПМН) ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ. Ф.52, оп.Х., ед. хр. 202а.
18 Издательский договор №519 Татарского Государственного Издательства при СНК Тат. АССР на готовое произведение от 27 октября 1941 г. 1 л. // Личный архив Н. Исанбета.
19 Стенограмма обсуждения пьесы Н.Исанбета «Идегей» // Личный архив Н. Исанбета. Машинопись. Москва. 14.01.1941. 22 л.
20 Стенограмма обсуждения пьесы Н.Исанбета «Идегей» // Личный архив Н. Исанбета. Машинопись. Москва. 14.01.1941. С. 14–15.
21 Режиссерская экспликация Г.Амантова // Архив СТД. Ф.8. П.3.Л.2.
22 ЦГА ИПД РТ, ф. 15, оп. 5, д. 547, л. 60.
Об авторах
Милеуша Мухаметзяновна Хабутдинова
Казанский федеральный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: mileuscha@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8110-4001
SPIN-код: 3507-2631
Scopus Author ID: 55929972700
ResearcherId: M-4418-2013
кандидат филологических наук, доцент кафедры татарской литературы Института филологии и межкультурной коммуникации
Россия, 420056, ул. Татарстан, 2, КазаньСписок литературы
- Алдашова Е.Н. Роль Башкирской комплексной экспедиции АН СССР (1928–1932) в организации первых научно-исследовательских учреждений в Башкирской АССР // Вестник Самарского государственного университета. 2011. №85. С. 92–96. [электронный ресурс] Режим доступа: https://journals.ssau.ru/hpp/article/view/3638/3540
- Башкирская энциклопедия. В 7 т. Т. 3. Уфа : Башк. энцикл., 2007. 672 с.
- Валиуллина Ф.М. Национально-мифологические и религиозные мотивы в дастане «Идегей»: автореферат дис. ... кандидата филологических наук : 10.01.09 / Ин-т яз., лит. и искусства им. Г. Ибрагимова АН Респ. Татарстан. Казань, 2005. 24 с.
- Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов: монгольский кочевой феодализм. М.: АН СССР, 1934. 244 с.
- Греков Б., Якубовский А. Золотая Орда (Очерк истории Улуса Джучи в период сложения и расцвета в XIII–XIV вв.). Л., ОГИЗ. 1937 г. 216 с.
- Закирова И.Г. Народное творчество периода Золотой Орды: мифологические и исторические основы: диссертация ... доктора филологических наук: 10.01.09. Казань, 2011. 356 с.
- Закончен сводный текст эпоса «Идегей» // Красная Татария. 1941. 28 сентября. №229 (7106).
- Идеге (Итук батыр) // Кызыл Татарстан. 1940. 1 ноябрь.
- Идегей: Татарский народный эпос. Перевод С. Липкина. Казань: Татар. книж. изд., 1990. 256 с.
- «Идегей» на русском языке // Красная Татария. 1942. №78. 2 апреля.
- Идегей. Татарский народный эпос. Казань: Татар. кн. изд-во, 2019. 270 с.
- Идегей: Татар. нар. эпос / [Ред.-сост. Г. Гильманов; худож. Р. Шамсутдинов]. Казань: Татар. кн. изд-во, 1994. 253 с.
- «Идеге»нең тулы тексты // Кызыл Татарстан. 1941. 4 апрель.
- Идегәй: татар халык дастаны / кереш сүз язучы И. Надиров. Казан: Татар. кит. нәшр., 1988. 253 б.
- Идегәй: татар халык дастаны / Н. Исәнбәт җыйнамасы // Совет әдәбияты. 1940. № 11. 39–76 б.; № 12. 34–82 б.
- Идегәй: Татар халык дастаны. Казан: Татар. кит. нәшр.. 2019. 270 б.
- Идегәй. Татар халык дастаны // Казан утлары. 1989. №1–2.
- Иҙеүкәй менән Мораҙым. Тарихи ҡобайыр. Өфө: Башҡортостан «Китап» нәшриәте, 1994. 352 б.
- Исәнбәт Н. Идегәй: 5 пәрдәлек трагедия: («Идегәй» дастаны буенча язылды). Казан: Татгосиздат, 1941. 143 б.
- Исәнбәт Н. Татар теленең фразеологик әйтемнәрендә тарихилык һәм үткән белән хәзергенең чагылышы // Казан утлары. 1979. № 12. 124–141 б.
- Исәнбәт Н. Татар халык мәкальләре [Текст]: Т. 1 / җыечу һәм төзүче Н. Исәнбәт. Казан: Тат. китап. нәшр., 2010. 622 б.
- Исәнбәт Н. Татар халык мәкальләре [Текст]: Т. 3 / җыючы һәм төзүче Н. Исәнбәт. Казан: Тат. китап. нәшр., 2010. 799 б.
- Мухаметзянова Л.Х. Дастан «Идегей: книжная версия татар Поволжья // Вестник Челябинского государственного университета. Филология и искусствоведение. 2014. Вып. 91. № 16 (345). С. 94–98.
- Мухаметзянова Л.Х. Татарские книжные дастаны: история становления жанра и поэтика: диссертация ... доктора филологических наук: 10.01.02; 10.01.09. Казань, 2015. 377 с.
- Мухаметзянова Л.Х. Татарский эпос «Идегей»: эхо сквозь столетия // Золотоордынское обозрение. 2018. Т. 6, № 3. С. 537–550. doi: 10.22378/2313-6197.2018-6-3.537-550
- Насонов А.Н. Монголы и Русь (история татарской политики на Руси). М., Л.: Издательство Академии наук СССР, 1940. 180 с.
- Нәкый Исәнбәт. Казан: «Җыен» нәшр., 2021. 736 с.
- Полный текст «Идеге» // Красная Татария. 1941. №87. 13 апреля.
- Султанова Р. Сценография татарского театра (ХХ – нач. ХХI в.). Казань: «ИД «Казанская недвижимость»», 2019. 592 с.
- Табышмаклар / җыючысы һәм төзүчесе Н. Исәнбәт. Казан: Татгосиздат, 1941. 196 б.
- Татар академиясе театрында // Кызыл Татарстан. 1941. 5 апрель.
- Татар халык табышмаклары. Казан: Татар. кит. нәшр, 1970. 568 б.
- Татарский театр. В 2 т. Т. 1. Спектакли. Казань: Изд-во «Заман», 2009. 658 с.
- Татарский эпос «Идеге» // Правда. 1941. 3 октября. №234 (7610).
- Уразова Н.М. Х. Ярми о влиянии фольклора на формирование татарской литературы : автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 10.01.02. Тобольск, 2008. 24 с.
- Урманче Ф. Народный эпос «Идегей». Казань: Фэн, 1999. 200 с.
- Усманов М. О трагедиях эпоса и трагедиях людских // Идегей: татарский народный эпос. Казань: Татар. кн. изд-во, 1990. С. 247–254.
- Хайруллина В.И. Народный эпос «Идегей» и его исторические основы: диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.09. Казань, 1999. 151 с.
- Хәбетдинова М., Хәбибуллин Ф. Нәкый Исәнбәт чичәнлек сәнгате турында // Tatarica. 2021. №17 (2). 119–140 б.
- Шныра И. «Чудеса» Научного общества. Провалы в Башкирской экспедиции. Об узких местах башкирской культуры и кулацком заговоре // Красная Башкирия. 1930, 12 января. 3–4 с.
- Ямалтдинов И.И. Татарская фольклористика 20–60-х гг. XX века: собирание, публикация и научное изучение фольклора: диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.09]. Казань, 2012. 191 с.
- Edigeү Идегәй / Hazirlayan Rustem Sulti // Türksoy Yayınları. №10. 190 s.
- Idukәj һәм Моradum // Коммуна. 1940. №7 8 (1477). 28 апреля; № 79 (1478). 29 апреля.
Дополнительные файлы

Примечание
Благодарность: Работа выполнена в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства Казанского (Приволжского) федерального университета.