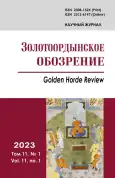Sufi Symbolic Forms in the Poem from the age of the Golden Horde “Qalandar-name”
- Autores: Borodovskaya L.Z.1
-
Afiliações:
- Kazan State Institute of Culture
- Edição: Volume 11, Nº 1 (2023)
- Páginas: 62-78
- Seção: Original papers
- ##submission.datePublished##: 29.03.2023
- URL: https://bakhtiniada.ru/2308-152X/article/view/349581
- DOI: https://doi.org/10.22378/2313-6197.2023-11-1.62-78
- EDN: https://elibrary.ru/IPBRBU
- ID: 349581
Citar
Texto integral
Resumo
Research objectives: This article analyzes Sufi symbols in “Qalandar-name” by Abu Bakr Qalandar Rumi. The research is focused on the historical era of its creation. This era coincided with the heyday of global Sufism, when the largest tariqats were already formed and classical treatises by al-Ghazali, Ibn-'Arabi, Suhravardi, and others were written.
Research materials: The study is based on the composition “Qalandar-name” and works by various authors dedicated to the personality of Abu Bakr Qalandar Rumi and his work.
Results and novelty of the research: The article presents a hermeneutical analysis of the symbolic forms of the Sufi tradition in “Qalandar-name”. Based on a comparison with other medieval writings of Sufi authors, three groups of the most important symbols for Islamic esotericism are identified: general Islamic Qur'anic images, Sufi ritual, and Sufi mystical ones. The analysis of the text reveals a large number of the most important symbolic forms of Islamic mysticism, known from other Sufi works. The images are compared with similar ones in well-known Sufi works, and their meaning is described according to the traditions of Sufism. The poem “Qalandar-name” by Abu Bakr Qalandar Rumi expands the source base for research on the culture of the Golden Horde, and future works can continue the analysis of the most important Sufi symbols of the poem in the context of the interconnections of Islamic culture in different countries in the Middle Ages.
Palavras-chave
Texto integral
Введение
Введение в современный научный оборот текста суфийской поэмы «Каландар-наме» Абу Бакра Каландара Руми (сочинение периода 1320–1340 гг.) является важным событием, расширяющим источниковую базу исследований исламской культуры периода Золотой Орды [1]. По предыдущим источникам мы уже знаем о большой роли суфийских шейхов в процессе принятия ислама ханами Золотой Орды [8], а затем их влиянии на управление государством, на народное образование и многие другие стороны общественной жизни [8; 21]. Глубокий анализ поэмы, который предстоит в ближайшие годы ученым, расширит понимание исторического места суфийской традиции в становлении татарской исламской культуры этого периода. Эта поэма дает богатый материал для исследований не только литературоведам, но и музыковедам, этнографам, религиоведам, историкам.
Основной задачей нашего исследования является поиск и анализ традиционных суфийских символических образов в тексте поэмы. Краткое первое знакомство с текстом позволяет увидеть большое количество общеисламских (коранических), а также эзотерических суфийских символов (известных еще задолго до Абу Бакр Каландара Руми). Мы согласимся с М.Р. Шамсимухаметовой, что эту поэму можно назвать «энциклопедией суфизма» эпохи Золотой Орды [27, с. 47]. В ходе исследования будет предпринята попытка увидеть эту поэму как часть мировой суфийской литературы, наполненной теми же сакрально-эзотерическими символами, что и сочинения других авторов.
Степень изученности поэмы на современном этапе ограничена несколькими статьями и первым официальным выпуском комментариев. Активация исследовательских работ усилится с выпуском академического издания полного текста поэмы, заявленного руководителем проекта [1, с. 41]. От полного издания мы ждем возможности сделать более глубокий анализ арабоязычных формул зикра, так как они применялись в ритуальной практике многих тарикатов (тахлил, такбир, тахмид, тасбих), являясь определителями уникальности ритуала (количество прочтений, последовательность).
Методы и материалы
Методика изучения творчества суфийских поэтов традиционно основывается на историческом обзоре эпохи, биографических сведениях, на фактах суфийской принадлежности к определенному тарикату. Эти вопросы были подняты в нескольких работах о поэме «Каландар-наме» и ее авторе Абу Бакр Каландаре Руми. Одна из самых трудных и неоднозначных проблем связана с нисбой «каландар» в имени поэта. Мы рассмотрели несколько источников на тему работы [1; 3; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 22; 23; 28; 31; 34], и приходим к выводу, что скорее всего надо рассматривать обе нисбы как единое целое – «Каландар Руми» в значении принадлежности к каландарам эпохи Сельджуского Рума. В пользу подобного толкования нисбы Абу Бакра свидетельствуют исторические факты, описанные в работе турецкого историка Мустафы Аккуш (Mustafa Akkuş) [31]. В поэме «Каландар-наме» упоминаются представители разных суфийских направлений и тарикатов того времени – каландары, муваллахи, абдалы, хайдари, Рифа‘иййа, «которых он не отделял друг от друга» [1, с.39]. Мустафа Аккуш пишет о «каландаровых группах» времени незадолго до Абу Бакра в Турции, включая в них суфиев «Кавлаки, Хайдари и Рифа‘иййа» [31, с. 117]. Таким образом несколько суфийских групп того периода объединены общим термином – «каландари».
Для более полного понимания особого положения суфийских групп каландаров приведем еще несколько предлагаемых М. Аккуш исторических фактов. Когда монголы вторглись в Анатолию и держали ее под своим влиянием (с 1241 по 1335 гг.), это был регион со множеством суфийских групп – Ахи, Каландари (Кавлаки), Хайдари, Мевлеви, Бабаи, Бекташи, Шемсилер, Евхади, Рифа‘иййа, Экбери, Кубрави [31, с. 118]. Особую поддержку монгольских ханов получили группы каландаров и Мевлеви (тарикат турецкого поэта Дж.Руми, которого так почитал Абу Бакр Каландар Руми) [31, с. 119]. М. Аккуш подробно анализирует влияние каландаров на укрепление влияния монгольских ханов в регионе, и объясняет это тем, что суфийские группы имели много преимуществ для этих целей: мобильность, особое влияние на широкие слои населения, уважение среди монгольской знати.
Каландары быстро завоевали внимание монголов тем, что также как монгольские шаманы они имели влияние на простой народ, тоже «творили чудеса», были мистичны. «Когда монголы приехали в исламские страны, они увидели дервишей Каландари как бахши и шаманов» [31, с. 122–123]. Дервиши Кавлаки также приняли участие в походах монгольской армии [31, с. 123]. Исходя из этих исторических сведений, мы видим, что еще до Абу Бакра Каландара Руми на его родине сформировалась сильная религиозно-политическая группа каландаров, имевшая высокое положение и доверие среди монгольской знати. «Каландариды играли важную роль в религиозной политике Ильханидов в Анатолии почти во все периоды. Они также выполняли важные обязанности по установлению монгольского господства в Анатолии» [31, с. 125].
«Монголы возложили многие важные стратегические задачи в Анатолии на каландарских шейхов и дервишей, использовали этих дервишей в своих армиях и в качестве государственных служащих, которые распространяли официальную идеологию государства» [31, c. 131]. Шейхи каландаров были щедро поддержаны фондами, строительством медресе и завия в Анатолийском регионе. Историки видят в этом сотрудничестве причины быстрого падения анатолийского государства сельджуков [31, c. 131].
Эмиграцию большой группы анатолийских каландаров на территорию Крыма в тот период можно объяснить необходимостью продвижения религиозной политики на новых землях, и в этой работе суфийские группы уже зарекомендовали себя перед монгольскими ханами. Принадлежность Абу Бакра к подобной группе влиятельных каландаров, поддержанных монгольскими властями, призванных служить на благо распространения ислама в Крымских землях – вот эта миссия поэта становится более очевидна: «Каландар прибыл в Крым сделать иршад», призывать к исламу по приглашению золотоордынского хана Узбека [19, с. 77]. Таким образом, можно предположить, что Абу Бакр Каландар Руми принадлежал к «провластной» группе каландаров Рума, имея на тот период уже достаточный авторитет.
Под описания обычных дервишей этого направления он никак не подходит: «Сторонник Каландарийа исполнял только обязательные предписания веры (фара'ид), безразлично относился к ритуалу и посту» [3, с. 130]. Ибн-Баттута называет его «шафиитским хатибом» [32, с. 464], официальным служителем мечети: «Когда мы отправились в путь, с нами были Тулек-Тимур бей, его брат Иса, его дети Кутлуг-Тимур и Сару Бек. Кроме того, в нашей группе были учитель Тулека-Тимура Са‘д ад-дин, хатиб Абу Бакр, кади Шамс ад-дин, факих Шараф ад-дин Муса и му‘арриф ‘Ала’ ад-дин [32, с. 466].
Мысль о том, что поэт не принадлежал официально к какому-либо тарикату, косвенно подтверждается и тем, что он сам в поэме называет себя последователем суфийских поэтов Ф. Аттара (жил в XII веке, примерно 1145–1221) и почитателем Дж.Руми (1207–1273гг.) [19, с. 76]. И это могло означать духовное наследование традициям этих суфиев, а не буквальное обучение у них (хронологически также вряд ли возможно). В этот период развития суфизма еще не был широко развит институт следования шейху-наставнику, как это явление позднее прослеживается в тарикате Накшбандийа. Многие суфии этого периода могли развиваться самостоятельно, организуя собственные небольшие группы.
Это время расцвета мирового суфизма, такие крупные тарикаты, как Ясавийа, Кубравийа, Сухравардийа, продолжают развиваться по всей территории Золотой Орды. Такие крупные мыслители и суфийские шейхи, как ал-Газали (XI–XII в.), Ибн-‘Араби (XII–XIII в.), повлиявшие на становление духовной культуры татар, уже написали свои труды до рождения Абу Бакра Каландара Руми (есть упоминание Ибн-‘Араби в 124 главе поэмы). Многие суфийские мыслители того периода уважительно относились к письменному наследию шейхов из разных тарикатов, читали их трактаты, цитировали или писали «ответные» полемические труды. Г.Галиахметова в исследовании по суфизму в Золотой Орде приходит к выводу, что «начиная с X века, во всем мусульманском мире наблюдается переход от официального ислама факихов и мутакаллимов к суфийскому исламу. […] проявление этой тенденции было актуальным в Золотой Орде, по крайней мере, в эпоху правления Берке хана и хана Узбека» [10, с. 295].
Результаты
Переходя непосредственно к задаче исследования, следует отметить, что подобный анализ символических форм суфизма уже проводился нами на примере «Хикметов» А.Ясави, татарских мунаджатов и поэмы Кул Гали «Кыйсса-и Йусуф». Научная методология герменевтического анализа суфийской символики применима не только к поэзии, но и для всей исламской народной художественной культуры. Согласно апробированной методике исследования символики в суфийских текстах, мы можем предложить следующую классификацию:
первая группа – общемусульманские образы и символы, понятные каждому верующему (Коран, Пророк, «судный день», «рай», «ад», «мост», Трон/ ал-‘арш ал-мухит, «Божественное перо»/ ал-калам ал-илахи (Калам), «Хранимая скрижаль»/ ал-лаух ал-махфуз и др.);
вторая группа – это суфийские ритуальные символы (духовный путь / тарика, образ «сердца», молитвенные формулы зикра, 99 Прекрасных имен Аллаха/ ал-асма’ ал-хусна, макамы/ступени духовного восхождения и др.);
третья группа – сакрально-эзотерические символы «скрытых наук»/ «ал-‘ильм ал-батин» (буквенно-числовая, графическая, цветовая, звуковая и др.). Известно, что поначалу в основном шииты были приверженцами «скрытых» наук, но позднее элементы эзотерических толкований проникли и в суннитские суфийские тарикаты.
Д.А. Шагавиев исследовал источники богословских глав в поэме «Каландар-наме» на примере анализа и сравнения с текстом Корана, Сунны Пророка Мухаммада, хадисами и суфийскими сочинениями. Он находит некоторые символы из первой и второй групп – это 99 Прекрасных имен Аллаха, ‘Арш и Курсий, Лаух и Калам, Симург, Рай [26]. Мы расширим интерпретацию этих и других исламско-суфийских символов на основе других средневековых трактатов. Комментаторы русского перевода также подчеркивают наличие в тексте большого количества специфических исламских выражений и формулировок, нуждающихся в научном анализе [12, с. 6]. Э.Г. Сайфетдинова пишет: «Текст «Каландар-наме» полон суфийских смыслов, что еще раз доказывает постулат о том, что проникновение суфийской традиции в духовную культуру Золотой Орды было намного глубже» [12, с. 7].
Следует отметить, что общеизвестные, общемусульманские образы из первой группы имеют и «явное» и «скрытое толкование» (традиционная оппозиция захир/батин), поэтому в сочетании с числовой и геометрической символикой могут быть представлены в третьей группе. Некоторые образы представлены в поэме «Каландар-наме» целыми группами, как напоминания мусульманам, и раскрывают суть их «сакрального взаимодействия»:
«Если обойдешь все семь небес
И увидишь рай с гуриями,
Если оставишь ты ад, то будешь ты в безопасности,
А если освободишься от барзаха, станешь верующим (му`мин),
Если в один присест обежишь ты вокруг Трона (‘арш),
И если отправишься к [миру] без пространства,
Если пройдешь Престол (курси), подобно молнии,
И если лучезарнее ты луны и солнца [1, с. 115]».
В Коране несколько раз упоминается образ «семь небес», и каждый аят раскрывает разные стороны символического образа. Вторая глава, 27 аят: «Он сотворил для вас все, что есть на земле; потом Он взошел к небу и устроил там семь небес. Он всеведущ [14, с. 7]. Двадцать третья глава, 88 аят: «Скажи: кто Господь семи небес и Господь великого престола» [14, с. 195]. Среди эзотерических ассоциаций с цифрой «7» в исламской литературе встречаются следующие образы – символическая круглая лестница (Семь ступеней восхождения и нисхождения) [7, c. 252], семь ступеней духовного становления суфия на пути совершенствования.
Образ «Божественного трона» (ал-‘арш ал-мухит) в Коране также занимает почетное место и часто сочетается с символом «Божественного престола» (ал-Курси), это два разных коранических символа. Вторая глава, 256 аят: «Престол Его обширнее небес и земли, и хранение обоих их не есть для Него бремя, потому что Он высок, могуществен» [14, с. 26]. Десятая глава, 3 аят: «Действительно, Господь ваш есть Бог, который сотворил землю в шесть дней, потом воссел на престол, чтобы управлять своим созданием» [14, с. 113].
В хикмете №69 А.Ясави описывает состояние духовного опьянения суфия в момент приближения к Истине с перечислением божественных Трона, Престола, Хранимой скрижали и Пера:
«Влюбленный, постигший этот макам-напев, выпьет вина.
Испив вина, искренне простится со своей душой.
Крепко ухватившись за крылья страсти, дальше полетит.
С интересом увидит Гарыш, Курси, Лаух, Калам» [30, с. 83].
Здесь мы видим, что образы Трона и Престола перечисляются в качестве отдельных категорий устройства божественного мироздания.
Суфийские авторы средневековья отражают в своем творчестве и подчеркивают идею высшего символизма «по образу и подобию», описанную в трактате ал-Газали «Эликсир счастья»: «Он создал из сердца твой престол. А из животного духа, подчиненного тому сердцу, создал для тебя Исрафила. Из мозга сотворил для тебя трон. Из кладовой представлений изготовил твою Хранимую Скрижаль. А из глаз, ушей и всех чувств создал тебе ангелов» [2, с. 43–44].
Основоположник тариката Кубравийа писал в своих трактатах: «Сходным образом, Небо, Землю и Престол тоже нельзя считать вещами внешними, это же касается Рая и Ада, смерти и жизни. Все они существуют в тебе; свершив своё мистическое странствие и очистившись, ты убедишься в этом» [13, с. 44].
На протяжении всего периода татарской исламской культуры мы встречаем эти образы в поэзии татарских поэтов и в суфийских мунаджатах, например, следующий образец XIX века, записанный Н.Ф. Катановым: «La ilaha illa' лла» ул гарше көрсөй баскычы» [20, c. 27]. Перевод его же: «(Слова) «Нѣтъ Бога, кромѣ Единаго!» – лестница къ престолу Божію на небѣ» [20, c. 28]. В этом примере мы видим сочетание сразу нескольких символов, описанных выше – лестница, ведущая к Престолу и Трону.
Очень важный коранический символ Мирового Древа часто встречается в поэме как группа образов с символикой «1», «9», аль-Лаух аль-махфуз и Перо/калам:
«Все Ты создал из небытия,
Луну, солнце, звезды, [Хранимую] Скрижаль и Перо.
Девять небесных сфер по Твоему велению возникли,
Рай и [древо] Туба – целиком от Твоей милости.
Под этой аркой и навесом голубым,
Создал Ты великий указатель пути» [1, с. 89].
Осевой символ Божественного Древа (Туба) упоминается в Коране в Двадцатой главе, в 118 аяте: «Адам! Не показать ли тебе древо вечности и владычества, которое не прекратится?» [14, с. 179]. Описание этого райского дерева дает Хусаин Амирханов в своем историческом трактате «Таварих-е Булгарийа» (Булгарские хроники): «По преданиям, его величина составит расстояние земли, что обойдет всадник за 100 лет. Дерево Туба обладает уникальными особенностями и невиданными объемами. Кроме этого, как передано в хадисах, в раю из него изготавливают райские одежды» [5, с. 63]. Это один из самых распространенных символов во всех традиционных культурах – древо мироздания. Встречается в следующих словосочетаниях – «Срединное Дерево», «Древо мира», которое в трудах исламского эзотерика Ибн-‘Араби названо «шаджарат ал-каун (ал-кавн)» (Древо вселенной) [33]. «Временами он понимает космический порядок как древо, ветви которого символизируют различные уровни космического существования, а иногда он рассматривает мир в коранических терминах Пера и Скрижали» [24, c. 124]. Поэтическая картина мира, нарисованная поэтом Ф. Аттаром в поэме о соловье «Булбулнаме»:
«Дерево, у которого садовник – бог,
тайна плодов его всегда – душа и разум.
Знай, что весь мир – древо, полное плодов,
так как ты видишь, ты не можешь отрицать» [9, с. 364].
Задолго до Ибн-‘Араби Ахмад Ясави пишет в «Хикмете» №73 о «волшебном дереве Тубби», как о символе Божественного Центра, к которому можно только приблизиться:
«Вольно плавая по морю любви,
Желаю взять алмаз блаженства.
Летая в пространстве отшельничества,
Мечтаю сесть на ветку волшебного дерева Тубби.
Дерево Тубби невозможно посадить и вырастить» [30, c. 86].
Следующие связанные образы аль-Лаух аль-махфуз и Калам многочисленно встречаются не только в Коране, но и в средневековых суфийских трактатах и поэмах. Седьмая глава Корана, 142 аят дает четкое понимание о Скрижали, как о Книге мироздания: «Мы написали ему на скрижалях о всех вещах, в назидание, в изъяснение всех вещей» [14, с. 92]. Сам Коран является ниспосланной «арабоязычной копией» божественной небесной Хранимой скрижали, источающий свет изначального Слова. Все сакральные божественные знания записаны на священной небесной книге, о чем пишет А. Ясави в хикмете №9:
«Доску “Лаух ул-махфуз” увидел я.
Триста мулл собрались завершить ривайат,
Согласно Шариату я тоже завершу один ривайат,
И на пути к цели Аллах укажет суть.
Только потеряв голову, понял Божью Истину я» [30, с. 21].
Вторая группа суфийских образов в поэме «Каландар-наме» богато представлена самыми основными и важными символами. О самих суфиях поэт часто высказывается в разных главах в таких эпитетах, как традиционно для правоверных мульсуман:
«Обладатели знания и учености они, непременно,
Подлинно знающие и действующие [они].
Некоторые из них – суфии чистые сердцем» [1, с. 88].
Абу Бакр Каландар пишет о Шейхе Баха` ад-Дин ‘Умар аз-Зилави – анатолийском шейхе, которого почитал как учителя и наставника. Говоря о нем, он упоминает основные стоянки/макамы суфийского пути, характерные также для тариката Ясавийа: «шариат-тарикат-хакикат-магрифат»:
«В морях знания, кротости и [духовного] знания (ма’рифат)
Проявлялся всякий раз в одном цвете и качестве.
В шариате [был] ученым, сведущим о нем,
В тарикате [был] мастером этот обладатель [духовного] взора.
Ведает истину (хакикат) та чистая душа,
Из [всех] друзей [Аллаха] этот является внушительным» [1, с. 61].
Учитывая большое влияние шейхов тариката Ясавийа в эпоху Золотой Орды, мы видим преемственность и общность основных идей суфийского пути в разных группах и направлениях суфизма.
В поэме встречаются эзотерические «полярные» символы – кутб/полюс [1, с. 198] и гора Каф [1, с. 270]. В суфийской иерархии только самые духовно возвышенные шейхи получали звание «кутб», которое символизирует достижение наивысших ступеней духовного совершенствования в лестнице восхождения к полюсу (часто символ вершины горы). Для суфиев символом центра является шейх тариката, которого символически называют «кутб» (полюс), и, несомненно, реальным центром – Аллах. 148 глава в поэме посвящена известному во всем мире суфийскому шейху IX века Абу Йазиду Бистами:
«[был] он дервишем почтенным и полюсом [своего] времени (кутб-и заман),
Что произошли от него эти познавшие (‘арифан)» [1, с. 265–266].
Абу Бакр называет его «полюсом времени», что является наивысшей ступенью в иерархии авлийа [1, c. 198]. Согласно «цепи преемственности» («силсила») многих тарикатов, Бистами находится в самом начале цепочки в числе почетных последователей Пророка. Приводим наиболее популярный вариант «Золотой силсилы» тариката Накшбандийа (XIV в.):
1) Пророк Мухаммед
2) Халиф Абу Бакр ас-Сиддик
3) Салман аль-Фариси бин Муса
4) Касим ибн Мухаммад ибн Абу Бакр
5) Джа‘фар ас-Садик
6) Абу Йазид ал-Бистами и т.д. [4, с. 338–339].
Многие тарикаты свои ритуалы зикра проводили сидя или двигаясь в круге/по кругу, в центре которого находился шейх, что также символически отражало движение вокруг «Божественного центра». Духовным посредником был для начинающих мюридов именно шейх или «кутб» тариката. Вот описание ритмично ускоряющего вращения зикра у А. Шиммель: «Часто суфии образовывали халка «круг», вокруг кутба, «столпа»; каждый возлагал правую руку на левую руку своего соседа и, закрыв глаза, повторял шахаду, пока в ней не оставался только последний звук «х» [29, с. 142].
Важная часть суфийских радений – речитация 99-ти Прекрасных имен Аллаха, часто это обязательная часть ритуала многих тарикатов. «ал-асма’ ал-хусна» рассыпаны по всей поэме Абу Бакра:
«Аллах! Аллах! О Великодушный! О Милосердный!
Аллах! Аллах! О Знающий! О Мудрый!
Ты Творец, Дающий пропитание живым существам.
Ты Хранитель обоих миров и Помогающий [им]» [1, с. 377].
Самые популярные списки «ал-асма’ ал-хусна» даны в трудах ат-Тирмизи (IX в.), ал-Газали (XI–XII вв.), ал-Иджи (XIII–XIV вв.) и ал-Джурджани (XIV–XV вв.). Традиция перечисления «Прекрасных имен» присутствует во многих суфийских поэмах задолго до Абу Бакра. Во вступлении к «Мунаджату» А. Ансари (1006–1089) традиционно перечислены некоторые из 99-ти прекрасных имен Аллаха:
«Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного.
О Щедрый дарователь даров,
О Мудрый, прикрывающий наши проступки,
О Вечный, недоступный нашему познанию,
О Единый, бесподобный в сущности и свойствах,
О Могучий, достойный только Бога, и Знающий о всех вещах,
О Сущий, лишенный всякого изъяна…» [6, с. 26].
Пожалуй, центральной символической формой многих суфийских трактатов и поэм является образ «сердца», ему посвящены многие строки у самых знаменитых шейхов-мыслителей средневековья. В суфизме образ сердца имеет центральное значение во многих смыслах. Суфийский контроль за сердцем, по мнению исламских эзотериков, не что иное, как контроль за божественной силой внутри себя.
Среди наиболее ярких и популярных символических сравнений сердца – это образ источника – целебного ключа, с кристально чистой водой [25, с. 108]. Абу Хамид ал-Газали в трактате «Эликсир счастья» пишет, что в этом источнике «помещаются все науки», и «внутри сердца существует одно окошко, открытое в Царствие небесное (малакут-и асман), подобно тому как снаружи сердца есть пять дверей, открытых в мир чувственного (‘алам-и махсусат), называемый телесным миром (‘алам-и джисмани), тогда как мир царствия (‘алам-и малакут) именуют миром духовным (‘алам-и рухани)» [2, с. 19]. Так, Абу Хамид ал-Газали подчеркивает мистическое происхождение сердца, которое является «ключом» к познанию Бога [2, с. 9]. Сердце для суфиев является важным связующим местом с божественным центром, поэтому часто употребляется в символических аналогиях с осью, полюсом и центральной точкой мира.
В поэме Абу Бакра очень поэтично образ сердца связан с «Божественным светом», внимание на сердце во время молитвы, в каждом вздохе – все подчинено цели достижения Божественного присутствия:
«Душу и сердце надели светом и убежденностью,
Дабы познали они подлинную основу дела.
Пока душа и сердце о Тебе ведают,
Вместе они идут по одному пути.
Путь они держат к молитвенной беседе,
Оба друг друга услаждают.
Оба говорят они: «О Аллах! Покажи!
Замок на сокровище тайном отопри,
Дабы достичь нам с его помощью цели,
Дабы душа и сердце достигли присутствия Твоего» [1, с. 583].
Сердце дервиша «вмещает Аллаха», ему доступны «тайные знаки и смыслы», для этого он «очищает» и «полирует» его до зеркального блеска многочисленными зикрами:
«У кого есть сердце, тот мой возлюбленный,
Ведает он, как толкование, так и тайны.
Таким образом, у дервишей сердце бывает таким,
Что не вмещают его в себя земля и небо.
Кто увидел море в кувшине?
От кого услышало сердце это разъяснение?» [1, с. 75].
Третья группа – сакрально-эзотерические символы «скрытых наук» («ал-‘ильм ал-батин») также широко представлены в поэме Абу Бакра и нуждаются в отдельном исследовании. Мы лишь обобщенно назовем некоторые из них. Так, в 64 главе Абу Бакр пишет о специальном таинственном языке суфиев, о котором достаточно хорошо описано в книге А.Шиммель [29, с. 131]. В поэме Абу Бакра в нескольких местах находим этот «секретный язык суфиев»:
«Речи их всецело тайнами являются,
У суфиев есть много деяний такого рода.
Суфии сердцем чисты в [этом] мире,
На пути духовного совершенствования (сулук ва сайр) они, несомненно» [1, с.181].
Глава 14 раскрывает место, в котором скрыто тайное знание – это сердце суфия:
«Кому открылось сокровенное знание (‘ильм-и ладуни),
Тот проявил эти скрытые тайны.
…
Сокровенное [знание] – в сердце, в душе и в возлюбленном,
А то второе знание подобно ноше на теле.
Сбрось ношу и стань свободным,
Как будто бы ты откупорил [бутыль] сокровенного [знания]» [1, с. 63].
И в другой главе:
«Сказал я: «О Истинный (Хак)! Я прошу у Тебя слов,
Чтобы рассказать о знании сокровенном (‘ильм мин ладун)» [1, c. 379].
И, наконец, самый таинственный символ божественного Слова в поэме «Каландар-наме» звучит в главе 120:
«С неба пришло слово, а потому не ничтожно оно,
Подобно Сулейману оно, а не муравью.
Благодаря слову устроились дела мира,
Не смотри на него с презрением, не считай его незначительным» [1, с. 235].
Гора Каф, как эзотерический символ центра мира, вокруг которого все вращается, также есть в поэме Абу Бакра:
«После этого ступай к [горе] Каф близости [к Аллаху] (курбат),
Вращайся (в танце – прим. ред.) непрерывно, будучи влюбленным.
Язык не смог передать толкование любви,
Превыше любовь чего бы то ни было.
О качествах своих поет она избранным и простому люду,
[О том], кто я такой, также расскажет она – на этом все!» [1, с. 270].
И сам текст 201 главы поэмы в подражание вращению божественного мироздания написан в рондообразной спиральной форме. Начальный редиф в каждой строчке повторяется в 27 бейтах (54 раза), чередуясь с другими:
«О Тот, благодаря кому» [1, с. 1041–1043].
Вокруг этой фразы, как бы символически вращается каждая последующая строчка этой главы:
«О Тот, благодаря кому вместе с радостью есть и горе!
О Тот, благодаря кому во всяком горе есть радость и ликование!
О Тот, благодаря кому каждому рабу [дано] величие!
О Тот, благодаря кому всем подряд [дано] счастье!» [1, с. 1042].
Таким символическим вращением 54 раза (само число 9 является бесконечно круглым) вокруг центральной точки Абу Бакр завершает поэму.
«Точка в центре круга» как символ божественного творения также воспевается в стихах Абу Бакра Каландара Руми:
«Такого рода круг благодаря ему появился.
Точка человека благодаря ему возникла» [1, с. 915].
Традиционный символ «сферы» (в поэме – мяч), как основы строения вселенной также входит в науку священной геометрии, известной суфийским ученым. Еще до Джордано Бруно мусульманские ученые знали, что земля висит в пространстве, а не лежит на черепахе:
«Знаток сферической геометрии (‘ильм аль-хай`ат) говорит, что девять небес
Соединились и собрались [воедино], словно большой мяч.
У каждого из них вращение своего рода,
И оно [устроено] со знанием и мудростью – посмотри!
Луна и солнце вместе со всеми звездами
Украшением являются семи небес.
Посему земля с морями и горами,
Словно светильник, подвешена в воздухе.
Стоит она во чреве небесном
С [самого] сотворения, несомненно» [1, с. 240].
В 10 главе первого дафтара «Мунаджат» Абу Бакр Каландар Руми молит Всевышнего даровать ему «тайное» знание, осветить сердце божественным светом, и обращается к нему эпитетами 99-ти Прекрасных имен:
«О Великодушный Господь и Милосердный Друг,
[Ты] Единственный и Пречистый, Величайший, Великолепный, о Всезнающий!
Мы погрузились в сон, пробуди же нас,
О том смысле тайн просвети же нас.
Дабы сердце мое осветилось от озарений Твоих,
Дабы язык мой читал тайны Твои» [1, с. 57].
«Душу и сердце надели светом и убежденностью,
Дабы познали они подлинную основу дела.
Пока душа и сердце о Тебе ведают,
Вместе они идут по одному пути.
Путь они держат к молитвенной беседе,
Оба друг друга услаждают.
Оба говорят они: «О Аллах! Покажи!
Замок на сокровище тайном отопри,
Дабы достичь нам с его помощью цели,
Дабы душа и сердце достигли присутствия Твоего» [1, с. 583].
Среди других традиционных эзотерических образов суфизма, которые есть в поэме Абу Бакра, можно перечислить такие – «язык птиц» [1, с. 188]; «божественный свет» (соединенный с символом «мирового древа» и девятью его основными ветвями) [1, с. 65–66 и с. 89]; птица Симург [1, с. 188]; зеркало [1, с. 595–596], тайны ал-батин [1, с.57]; наука букв в традициях «хуруфизма» [1, с. 171] и другие.
Обсуждение
Предварительный обзорный анализ поэмы «Каландар-наме» Абу Бакра Каландара Руми показывает, что, действительно, это сочинение изобилует как общеисламскими, так и суфийскими (эзотерическими) символами. Методология герменевтического анализа и опора на суфийские поэмы и трактаты исторического периода «до» и «во время жизни» поэта, показывает глубокую осведомленность Абу Бакра Каландара Руми в традиционных символических формах своего времени. Традиционные коранические и «скрытые» образы, числовая и буквенная символика, известные тарикаты и персоны ислама – все это присутствует в тексте и делает поэму очень ценным источником, которые на многие годы вперед должен стать объектом пристального изучения.
Основные выводы исследования
На основе проведенного анализа мы пришли к выводу, что исламская суфийская культура на территории Золотой Орды была развита достаточно хорошо, что подтверждается многими исследованиями и новыми источниками – например, поэмой Абу Бакра Каландара Руми. Традиционные символические формы суфизма пронизывают весь текст поэмы «Каландар-наме», и свидетельствует о том, что суфийская культура развивалась не узко только в рамках тарикатов, а опиралась на труды представителей самых разных мировых суфийских направлений. Анализ показал, что поэма Абу Бакра также, как мунаджаты, хикметы и трактаты суфийских авторов из разных стран содержат практически одинаковые символические образы: рай, ад, семь небес, Трон, Калам, Хранимая скрижаль, «божественный свет», тарика, Древо мира, гора Каф, небесная сфера, полюс/ кутб, образ «сердца», 99 прекрасных имен Аллаха, птица Симург, скрытое знание, «язык птиц», буквенно-числовая, геометрическая (круг, сфера, спираль) и др. Надеемся, что в будущем нас ожидает целый ряд научных открытий по культуре эпохи Золотой Орды на основе междисциплинарных исследований текста данной поэмы.
Sobre autores
Liliya Borodovskaya
Kazan State Institute of Culture
Autor responsável pela correspondência
Email: lilianotka@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-5680-1187
Scopus Author ID: 57577590100
Researcher ID: AFA-8129-2022
Cand. Sci. (Art History), Associate Professor
Rússia, 3, Orenburgsky tract, Kazan 420059Bibliografia
- Abu Bakr Kalandar Rumi. Qalandar-name. Kazan: Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences, 2017. 1044 p. (In Russian)
- Abu Hamid Muhammad al-Ghazali at-Tusi. “Kimiya-yi sa'dat” (Elixir of happiness). St. Petersburg: Peterburgskoe Vostokovedenie, 2002. 324 p. (In Russian)
- Akimushkin O.F. Qalandaria. Islam. Encyclopedic Dictionary. Moscow: Nauka. GRVL, 1991, pp. 130. (In Russian)
- Akunov V.V. Military spiritual orders of the East. History of orders and secret societies. Moscow, 2012, 352 p. (In Russian)
- Amirkhanov Kh. Bulgar Chronicles. Moscow: Izdatelskiy dom Mardzhani, 2010. 232 p. (In Russian)
- Ansari Khvadzha Abd Allakh. Munajat. Secret prayers. Moscow: Nomos, 2004. 112 p. (In Russian)
- Arberri A. Dzh. Sufism. Mystics of Islam. Moscow: Sfera, 2002. 272 p. (In Russian)
- Borodovskaya L.Z. The growth of Sufi influence in the period of the Golden Horde. Islamovedenie. 2017. Vol. 8, no. 3. P. 82–94. doi: 10.21779/2077-8155-2017-8-3-71-81. (In Russian)
- Bertel's E.E. Selected works. Sufism and Sufi literature. Moscow, 1965, 531 p. (In Russian)
- Galiakhmetova G.G. Sufism in the golden horde. Sufism in Iran and Central Asia. Materials of the international conference. Almaty, 2006, pp. 293–295. (In Russian)
- Gibadullin I.R., Mirgaleev I.M. “Qalandar-name” – a previously unknown monument of Sufi literature of the Golden Horde. Islamic factor in the integration processes of the Great Silk Road. Bolgar-Kazan: Izdatel'skiy dom «Islamskaya kniga», 2018, pp. 31–35. (In Russian)
- Comments on “Qalandar-name” by Abu Bakr Qalandar Rumi. Issue 1. Kazan: Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences, 2017, 96 p. (In Russian)
- Korben Anri. Light Man in Iranian Sufism. Moscow: «Fond issledovaniy islamskoy kul'tury», 2009, 240 p. (In Russian)
- Koran. Moscow: Belyy gorod, 2015, 378 p. (In Russian)
- Kramarovskiy M.G. The Crimea and Rum in the 13th–14th centuries: the Anatolian diaspora and urban culture of Solkhat. Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2016, vol. 4, no 1, pp. 55–88. (In Russian)
- Mirgaleev I.M. Golden Horde theologian Abu Bakr Qalandar. Tyurko-musul'manskiy mir: identichnost', nasledie i perspektivy izucheniya [Turkic-Muslim World: Identity, Heritage and Perspectives of Study]. Kazan: Kazanskiy (Privolzhskiy) federal'nyy universitet, 2015, pp. 241–243. (In Russian)
- Mirgaleev I.M. Abu Bakr Qalandar Rumi. Who is he? Krymskoe istoricheskoe obozrenie=Crimean Historical Review. 2014, no. 1, pp. 41–45. (In Russian)
- Mirgaleev I.M. The composition “Qalandar-name” by Abu Bakr Qalandar Rumi Aksarayi as a source on the history of the Golden Horde. Zolotoordynskaya tsivilizatsiya =Golden Horde civilization. 2016, no. 9, pp. 63–68. (In Russian)
- Mirgaleev I.M., Abyzova R.R. Shihabutdin Marjani on the Golden Horde. Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2018, vol. 6, no. 1, pp. 181–198. doi: 10.22378/2313-6197.2018-6-1.181-198 (In Russian)
- Report on a trip made from June 1, 1897, to August 20 of the same year to Belebeevsky and Menzelinsky districts of the Ufa province by N.F. Katanov. Kazan: Tipo-litografiya Imperatorskogo universiteta, 1898. 39 p. (In Russian)
- Sayfetdinova E.G. The development of Islam and its traditions in the territory of the Golden Horde, according to medieval Arabic sources of the 13th–15th centuries. Islamovedenie [Islamic studies]. 2022. Vol. 13, no. 1(51), pp. 25–32. doi: 10.21779/2077-8155-2022-13-1-25-32. (In Russian)
- Sayfetdinova E.G. Religious Traditions of Ulus Jochi (based on the works of the Golden Horde era “Qalandar-name” by Abu Bakr Qalandar and “Nakhj al-faradis” by Mahmud al-Bulgari). Islamskiy faktor v integratsionnykh protsessakh Velikogo Shelkovogo puti [Islamic factor in the integration processes of the Great Silk Road]. Moscow, 2018, pp. 51–57. (In Russian)
- Tuychieva N.M. Calandaria. Collections of conferences SIC Sociosphere. 2013, no. 49, pp. 19–23. (In Russian)
- Philosophers of Islam: Avicenna (Ibn Sina), al-Suhrawardi, Ibn Arabi. Moscow: OOO «Sadra», 2014, 152 p. (In Russian)
- Khismatulin A.A. Sufism. St. Petersburg.: Izdatel'skiy Dom «Azbuka- klassika»; «Peterburgskoe Vostokovedenie», 2008. 192 p. (In Russian)
- Shagaviev D.A. Sources of the theological chapters of the composition “Qalandar-name” by Abu Bakr Qalandar. Zolotoordynskaya tsivilizatsiya =Golden Horde civilization. 2016, no 9, pp. 69–74. (In Russian)
- Shamsimukhametova M.R. Ahi religious brotherhoods in the Golden Horde. Islamovedenie=Islamic studies. 2018. Vol. 9, no. 3, pp. 40–52. (In Russian)
- Shamsimukhametova M.R. The composition “Qalandar-name” by Abu Bakr Qalandar Rumi: source analysis. Zolotoordynskaya tsivilizatsiya=Golden Horde civilization. 2016, no. 9, pp. 75–78. (In Russian)
- Shimmel' Annemari. World of Islamic mysticism. Moscow: Aleteya, Enigma, 2000, 414 p. (In Russian)
- Yassavi Khodzha Akhmed. Hikmety. Almaty: Dayk-Press, 2004, 208 p. (In Russian)
- Akkuş, Mustafa. The role of kalenderi groups in the collapse of the Anatolian Seljuk state. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 2014. Vol. 9/7, pp. 117–134. (In Turkish)
- Abu Abdullah Muhammad ibn Battuta The travel book of Tanji Ibn Battuta. Ceviri, inceleme ve Notlar: A.Sait Aykut. Istanbul, Yapi Kredi Yayinlari, 2000. Cilt 1–2, 1104 p. (In Turkish)
- Jeffery A. “Ibn al-Arabī’s Shajarat al-Kawn”. Studia Islamica, (Leiden), 1959, no. 11, pp. 113–160.
- Schamiloglu U. Reflections on the Islamic Literature of the Golden Horde: On the Occasion of the Publication of the Qalandar-nāme. Zolotoordynskoe obozrenie=Golden Horde Review. 2021, vol. 9, no. 2, pp. 264–271. doi: 10.22378/2313-6197.2021-9-2.264-271
Arquivos suplementares