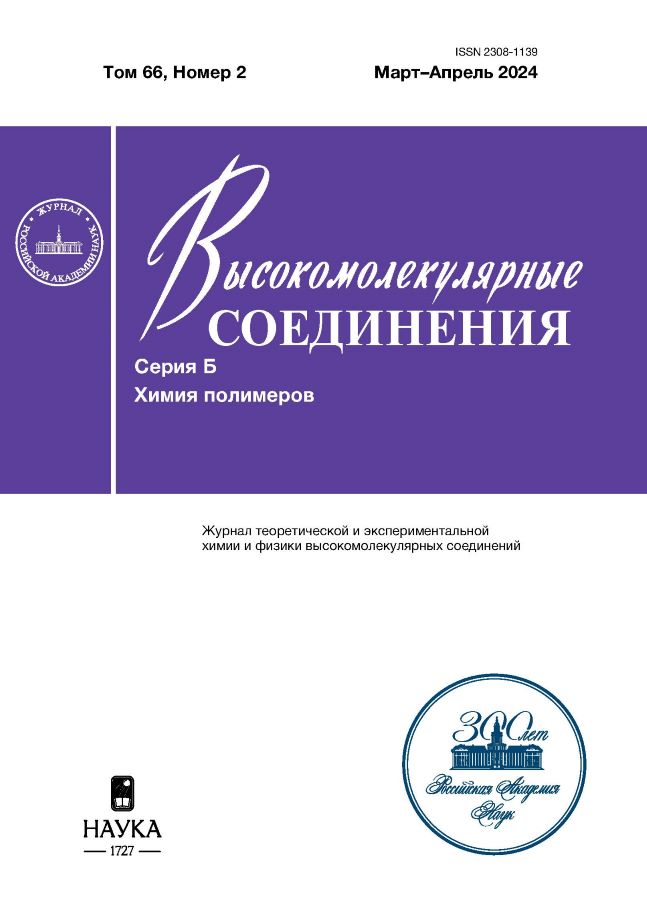Особенности модификации полимеров в среде сверхкритического диоксида углерода
- 作者: Соловьева А.Б.1, Тимашев П.С.1,2,3
-
隶属关系:
- Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н.Семенова Российской академии наук
- Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
- Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
- 期: 卷 66, 编号 2 (2024)
- 页面: 69-100
- 栏目: МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ
- URL: https://bakhtiniada.ru/2308-1139/article/view/266166
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2308113924020014
- EDN: https://elibrary.ru/NALKAR
- ID: 266166
如何引用文章
全文:
详细
Проанализированы процессы модификации полимеров в среде сверхкритического диоксида углерода, приводящие к получению новых материалов, предназначенных прежде всего для медицины, фармакологии и проводящих полимерных систем. Рассмотрены процессы импрегнации полимеров в среде сверхкритического диоксида углерода углеродными нанотрубками с получением тепло- и электропроводящих полимерных материалов, процессы микронизации полимеров, использующиеся при разработке композиционных материалов типа полимер–полимер. Описаны процессы получения аэрогельных материалов на основе полисахаридов (альгинат натрия) для использования в качестве матриц для биосовместимых гетерогенных каталитических систем, процессы импрегнации термопластов фотохромными и люминесцентными соединениями, приводящие к соответствующим фотоактивным полимерным материалам, процессы иммобилизации в природных полисахаридных матрицах биологически активных соединений, позволяющие получать пролонгированные лекарственные препараты. Особое внимание уделено особенностям графт-сополимеризации, позволяющей получать биосовместимые продукты для аддитивных технологий и полностью нетоксичные материалы с высокой адгезией к клеткам.
全文:
ВВЕДЕНИЕ
Формирование функциональных свойств высокомолекулярных систем возможно за счет введения функционально-активного наполнителя в полимерную матрицу или при химическом модифицировании макромолекул. Методы введения наполнителя в полимерную матрицу более вариабельны: твердофазное модифицирование (экструдирование), введение наполнителя в расплав полимера (смешение в Брабендере, экструдирование), введение из раствора. В последнем случае введение наполнителя предусматривает предварительное растворение вводимого вещества в инертном растворителе, который, как правило, имеет высокую полярность (например, хлорбензол), поскольку ароматические или жирно-ароматические наполнители плохо растворяются в обычных низкокипящих растворителях. Раствор, содержащий наполнитель, используется либо для пропитки набухающей полимерной матрицы, либо для растворения полимера и отливки пленки. Наиболее часто “растворные” методы применяют для получения фоточувствительных оптически прозрачных композиций, используемых при создании сред оптической памяти и голографических материалов, устройств для обработки и передачи информации; трехмерных записывающих сред, изделий для защиты глаз человека от нежелательного воздействия яркого света, и т.д. Однако, как правило, указанные способы не позволяет достичь достаточно равномерного распределения частиц наполнителя, имеющих разный размер, в объеме матрицы.
Для создания полимерных материалов, содержащих равномерно распределенный в объеме матрицы функционально-активный наполнитель, используется обработка поверхности частиц наполнителя (в частности фотохромных и люминофорных соединений, наночастиц) ex situ или in situ дифильными растворителями [1], совмещающимися с вводимыми соединениями и полимером (мономером). К таким растворителям относятся прежде всего пиридин и его алкильные производные, которые являются одновременно растворителем и диспергирующей средой, а также хорошо адсорбируются на поверхности гидрофильных наночастиц наполнителя, способствуя их совмещению с используемым мономером, в частности с метилметакрилатом [2]. Однако, как показано в работе [3], даже в таком случае не достигается достаточно равномерное распределения микро- и наночастиц наполнителя в матрице. В связи с этим для предотвращения агрегации наночастиц необходима, как правило, дополнительная обработка наполнителя поверхностно-активными веществами [3].
Одной из составляющих общей проблемы модификации полимеров является разработка оптических полимеров с разными свойствами, в том числе обладающих фотоактивностью. Создание полимерных композиций на основе фотоактивных соединений с люминесцентными, фотохромными и фотосенсибилизирующими свойствами позволяет решать ряд задач, стоящих перед технологиями оптических и медицинских материалов, в частности разрабатывать оптоэлектронные системы для преобразования света в различных участках спектрального диапазона, среды оптической памяти, устройства для обработки и передачи информации [4–6].
Методы введения фотоактивных соединений в полимерную матрицу практически не зависят от типа фотоактивных соединений за исключением тех случаев, когда иммобилизация приводит к разрушению фотоактивных соединений (например, в случае напыления смешанных β-дикетонатов европия) [7].
Для получения систем фотоактивное соединение–полимерный носитель, в которых нет химического связывания между компонентами, обычно используют либо сорастворение полимера и фотоактивного соединения с последующим отливанием пленки на подходящей поверхности и упариванием растворителя, либо пропитку готовой полимерной пленки раствором фотоактивного соединения. В подобных системах реализуется адсорбционный тип связывания фотоактивного соединения и полимера. При таких способах иммобилизации фотоактивного соединения часто наблюдается неравномерное распределение и агрегация фотоактивных соединений в матрице, что приводит к ухудшению функциональных свойств формируемого композита [7, 8]. Кроме того, при физическом связывании возможна диффузия фотоактивного соединения внутри полимера, что приводит к нестабильности функциональных свойств фотоактивных материалов во времени [9].
Следует отметить, что модификация ряда высокомолекулярных соединений, в том числе сверхвысокомолекулярного ПЭ, конструкционного полимера, применяемого при создании узлов и деталей машин, высокопрочных волокон и т.д., традиционными методами (модификация в расплаве, экструзия) практически невозможна, поскольку высокая вязкость пластифицированного полимера не позволяет получать однородный по структуре материал [10]. Кроме того, модификация в расплаве в случае создания материалов биомедицинского направления также практически неприменима, поскольку использование высоких температур может дезактивировать биологически активные соединения, применяемые в таких материалах [11]. В силу всех перечисленных обстоятельств постоянно ведется поиск новых подходов к модифицированию твердофазных систем различного функционального назначения. Одним из современных способов “безрастворной” химической модификации макромолекул и модификации полимеров, в частности путем пропитки фотоактивным соединением [12], является обработка в среде сверхкритических флюидов.
СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ФЛЮИДЫ
Сверхкритические флюиды – четвертая форма агрегатного состояния вещества, реализуемая при превышении определенной температуры Ткр и давления Ркр, называемых критическими. Впервые сверхкритическое состояние вещества обнаружил Каньяр де ла Тур в 1822 г., нагревая различные жидкости в наглухо закрытом металлическом шаре. В современной англоязычной литературе принято сокращенное обозначение – SCF (Supercritical Fluids), а в русскоязычной – СКФ (сверхкритические флюиды) или СКС (сверхкритические среды).
При изменении температуры или давления практически во всех средах происходят взаимные переходы: твердое тело–жидкость–газ. Так, при нагревании твердое тело переходит в жидкое, при повышении температуры или при понижении давления жидкость превращается в газ. Все эти переходы, как правило, обратимы. В общем виде они представлены на рис. 1.
Рис. 1. Термодинамическая диаграмма состояния СО2. Цветные рисунки можно посмотреть в электронной версии.
Расположение линий, разграничивающих области газообразного, жидкого и твердого состояния, а также положение тройной точки, где сходятся эти три области, для каждого вещества свои. Сверхкритическая область начинается в критической точке, которая характеризуется двумя параметрами – температурой и давлением (так же, как точка кипения). Понижение либо температуры, либо давления ниже критического значения выводит вещество из сверхкритического состояния.
На рис. 1 видно, что область существования жидкой фазы расположена слева от линии критической температуры. Таким образом, для сжижения какого-либо газа необходимо его вначале охладить до температуры ниже критической. У таких газов как СО2 или Cl2 критическая температура выше комнатной (31.2 и 144 °С соответственно), поэтому их можно сжижать при комнатной температуре, только давление [13]. У азота критическая температура много ниже комнатной – 239.9 °С [13]. Следовательно, если сжимать азот, находящийся при нормальных условиях, то можно достичь в конечном итоге сверхкритической области, но жидкий азот при этом образоваться не может. Сначала необходимо охладить азот до температуры ниже критической и затем, повышая давление, достичь области, где возможно существование жидкости.
Как и газы, СКФ характеризуются низкой вязкостью по сравнению с жидкостями и высокой диффузионной подвижностью в полимерных материалах, что инициирует набухание и пластификацию полимеров. Эти свойства СКФ облегчают процессы переноса в полимерах примесных молекул, в частности экстракцию или импрегнацию. СКФ – плотная, но легко сжимаемая субстанция. Любые изменения давления приводят к изменению плотности СКФ и, следовательно, к изменению его характеристик как растворителя. В непосредственной близости от критической точки сжимаемость очень высока, и даже небольшое изменение давления может приводить к значительным изменениям функциональной активности содержащихся в СКФ соединений. На микроскопическом уровне опалесценция, наблюдаемая в критической точке, является результатом того, что флуктуации плотности имеют размеры, сравнимые с длиной волны видимого излучения. Неоднородность – фундаментальное понятие, характеризующее СКФ, и флуктуации плотности являются свидетельством неоднородного распределения молекул в пространстве, занимаемом флюидом. Такая структурная организация очень динамична, и именно флуктуации плотности позволяют объяснить увеличение сжимаемости флюида.
Сверхкритическое состояние диоксида углерода, воды и других соединений широко используется при решении технических задач, прежде всего при экстракции целевых компонентов из органического сырья [14, 15] вследствие набухания разнообразных материалов в сверхкритических средах и повышенных коэффициентов переноса низкомолекулярных компонентов в таких условиях. Несомненный интерес представляет проведение химических процессов в сверхкритических средах, а также импрегнирование полимерных матриц функционально-активными соединениями.
Сверхкритические состояния существуют для большинства жидких и газообразных веществ, нужно лишь, чтобы вещество не разлагалось при критической температуре. Для некоторых веществ, используемых в качестве растворителей, критические параметры приведены в табл. 1.
Таблица 1. Критические параметры некоторых соединений
Вещество | Температура критической точки, °С | Давление критической точки, МПа | Критическая плотность, г/см3 |
Этен | 9.9 | 5.05 | 0.20 |
Трифторметан | 25.9 | 4.69 | 0.52 |
Диоксид углерода | 31.2 | 7.29 | 0.47 |
Этан | 32.2 | 4.82 | 0.20 |
Окись азота | 36.5 | 7.17 | 0.46 |
Гексафторид серы | 45.6 | 3.77 | 0.73 |
Пропилен | 91.9 | 4.54 | 0.22 |
Пропан | 96.8 | 4.24 | 0.22 |
Вода | 374.2 | 22.0 | 0.33 |
Именно уникальное сочетание в сверхкритических флюидах свойств жидкости и газа – способности сжиматься как газы (обычные жидкости практически несжимаемы) и способности растворять твердые вещества [13] как жидкости (табл.2) – определило востребованность СКФ-технологий при решении многих практических задач.
Таблица 2. Некоторые физические параметры, газов, СКФ и жидкостей
Система | Плотность, кг/м3 | Вязкость, мПа с | Коэффициент диффузии, мм2/с |
Газ | 1 | 0.01 | 1–10 |
Сверхкритический флюид | 100–800 | 0.05–0.10 | 0.01–0.10 |
Жидкость | 1000 | 0.5–5.0 | 0.001 |
Диоксид углерода, закись азота, этилен и некоторые другие газы в сверхкритическом состоянии приобретают способность растворять многие органические вещества [14]. Свойства сверхкритического СО2 как растворителя можно регулировать: при повышении давления и/или температуры его растворяющая способность значительно увеличивается [15].
Сейчас приблизительно 90% всех СКФ-технологий ориентировано на сверхкритический СО2 [16]. Помимо диоксида углерода начинают постепенно входить в практику СКФ и другие вещества. Сверхкритический ксенон (Ткр = 16.6 °С; Pкр = 5.8 МПа) представляет собой абсолютно инертный растворитель, поэтому химики используют его как реакционную среду для получения нестабильных соединений (чаще всего металлоорганических), для которых СО2 является потенциальным реагентом [17]. Широкого применения данного флюида не ожидается, поскольку ксенон – дорогой газ. Для извлечения животных жиров и растительных масел из природного сырья более подходит сверхкритический пропан (Tкр = 96.8 °С; Pкр = 4.2 МПа), поскольку он лучше, чем СО2, растворяет указанные соединения.
Одно из самых распространенных и экологически безвредных веществ – вода, но перевести ее в сверхкритическое состояние достаточно трудно из-за высоких значений параметров критической точки (табл. 1). Современные технологии позволяют создавать установки, отвечающие таким требованиям, но работать в требуемом диапазоне температур и давлений технически сложно. Сверхкритическая вода растворяет практически все органические соединения, которые не разлагаются при высоких температурах [18].
Таким образом, ряд свойств сверхкритических флюидов – высокие коэффициенты диффузии целевых компонентов и низкая вязкость в сочетании с высокой растворяющей способностью, малым поверхностным натяжением и легкостью полного удаления из полученных материалов отводят среде сверхкритического СО2 особое место среди всех известных растворителей, в частности в процессах модификации и функционализации полимеров разных классов.
ПРОЦЕССЫ МИКРОНИЗАЦИИ И ВСПЕНИВАНИЯ В СРЕДЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО СО2
Микронизация материалов как процесс формирования мелкодисперсной фракции материала микронных и субмикронных размеров является одним из быстро развивающихся направлений науки и техники, прежде всего в технологиях производства полимерных, пищевых, фармацевтических, косметических, взрывчатых веществ. Классические методы измельчения частиц (помол, распыление, осаждение из раствора) имеют ряд существенных недостатков и не позволяют получать однородные по размерам микрочастицы и наночастицы. При этом методом измельчения невозможно получать частицы с размерами менее 1 мкм, а при осаждении из растворов микрочастицы обычно требуют дополнительной очистки от остаточных количеств растворителя, что не всегда достижимо.
На сегодняшний день разработан и внедрен в промышленность ряд технологий модификации полимеров с применением среды сверхкритического СО2. Наибольшее внимание при их разработке уделялось подходам к производству порошков и порошковых композиционных материалов для фармацевтической промышленности. Один из примеров – процесс RESS (Rapid Expansion of Supercritical Solutions), заключающейся в насыщении среды сверхкритического СО2 растворяемым веществом после быстрого сброса давления в автоклаве [19]. Быстрый и равномерный сброс давления, происходящий при переходе из сверхкритического состояния к давлению окружающей среды, приводит к резкому и мгновенному снижению растворимости вещества (пересыщению раствора) и, как следствие, к быстрому зарождению новой фазы с очень малыми частицами, имеющими достаточно равномерное распределение по размеру [20]. Полученные таким способом частицы не содержат растворителя и не требуют дальнейшей очистки. Преимуществами этого метода помимо отсутствия примеси органических растворителей являются удобство технологического контроля процесса, относительная легкость воспроизведения процесса в лабораторных масштабах, когда реактор имеет только один выход для сброса газа. С другой стороны, ряд важных недостатков ограничивает применение данного метода: трудность увеличения объемов получения частиц, их возможная агрегация, засорение каналов подачи и сброса газа [21], значительный расход диоксида углерода и, кроме того, низкая растворимость большинства функционально значимых соединений в сверхкритическом СО2. В некоторых случаях растворяющую способность сверхкритического СО2 можно увеличить путем добавления компонентов, меняющих полярность среды.
Другой тип процесса создания порошков предполагает применение среды сверхкритического СО2 в качестве антирастворителя (метод PGSS [22]). Такие процессы используются для модификации веществ с низкой растворимостью в среде сверхкритического СО2, играющей роль антирастворителя, необходимого для осаждения веществ из растворов в органических растворителях. Метод PGSS (Particles from Gas Saturated Solutions) является наиболее распространенным примером использования СКФ-технологий в промышленности. Суть метода заключается в растворении фазы, находящейся под давлением (в суб- или сверхкритическом состоянии) в реакторе, содержащем насыщенный газом раствор/расплав, с последующим быстрым сбросом давления, приводящим к образованию наночастиц [23]. Взаимодействие СО2 и полимера способствует увеличению сегментальной подвижности полимерных цепей, что в свою очередь уменьшает температуру стеклования и плавления полимера, которые оказываются зависящими от количества углекислого газа, растворенного в полимере [24–26]. Находясь в вязкотекучем или жидком состоянии, полимер может быть использован как покрытие, для производства пены или для инкапсулирования лекарств при условии получения молекулярной дисперсии препарата в матрице, которую можно подвергнуть экструзии или распылить при низком давлении для получения микрочастиц, содержащих лекарства.
Лекарственные порошки, содержащие лекарственные частицы микронного размера, используются в нескольких фармацевтических лекарственных формах. Многие лекарственные средства, особенно недавно разработанные субстанции, плохо растворимы в воде, что ограничивает их биодоступность при приеме внутрь. Использование микронизированных лекарственных средств [27], чей размер соответствует геометрическим особенностям органа, на который нацелен препарат (например, препараты для легочного применения), позволяет необходимым образом увеличить скорость их растворения в желудочно-кишечном тракте. Исследования, проводимые в направлениях такого поиска, дают ожидаемые результаты.
Так, основываясь на принципах процесса PGSS, было разработано несколько новых процессов, в частности процесс CAN-BD распыления с помощью пузырьковой сушилки (CO2-Аssisted Nebulization with a Bubble Dryer). Этот запатентованный Сиеверсом процесс [28–34] продемонстрировал свою широкую применимость как к низкомолекулярным, так и к макромолекулярным веществам (включая терапевтические белки). Данное изобретение охватывает два варианта процесса, статический и динамический. Статический вариант предполагает предварительное смешивание сверхкритического CO2 и раствора, содержащего интересующее растворенное вещество, при давлении, превышающем критическое давление CO2. После установления равновесия или приближения к нему смеси в камере высокого давления дают возможность расшириться до атмосферного давления через ограничитель потока (или капиллярную трубку) путем расширения в сушильной камере. Динамическая версия предполагает непрерывное тщательное перемешивание раствора, содержащего интересующее растворенное вещество и сверхкритический или близкий к критическому CO2. В одном из вариантов данного процесса два потока жидкости тщательно перемешиваются в тройнике с низким рабочим объемом, а затем расширяются через ограничитель потока до атмосферного давления, где шлейф из микропузырьков и микрокапель быстро высушивается. В такой динамической версии CAN-BD успешно получали белковые частицы, которые обычно стабильны, активны и имеют размер, подходящий для доставки в легкие. Этот успех был достигнут благодаря тому, что водный раствор или суспензия, содержащие белок или вакцинный вирус, могут быть приготовлены таким образом, чтобы содержать соответствующие стабилизаторы. В частности, процесс CAN-BD был использован для получения сухих порошков живого аттенуированного вируса коревой вакцины с хорошим механическим выходом и сохранением вирусной активности, измеряемой методом образования бляшек, что сопоставимо с коммерческой лиофилизацией [28]. Процесс CAN-BD также использовался для сушки нуклеотидов siRNA [33]. В зависимости от рецептуры и условий лабораторной обработки типичный выход накипи в лаборатории составляет от 50 до 90%. При традиционной распылительной сушке выход обычно возрастает с увеличением накипи, и то же самое может быть реализовано для CAN-BD, в котором сушка капель и сбор частиц аналогичны традиционной распылительной сушке.
В качестве альтернативного метода изготовления порошковых покрытий на основе процесса PGSS был предложен процесс непрерывного напыления порошковых покрытий (CPCSP) [34]. Этот процесс применим к материалам для покрытий, которые являются легкоплавкими и быстро реагирующими компонентами. В процессе CPCSP основные компоненты (связующее и отвердитель) расплавляются в отдельных емкостях, чтобы избежать преждевременной реакции полимеров. Расплавы полимеров подаются в статический смеситель. В статическом смесителе расплавы гомогенизируются сжатым CO2 под давлением до 220 бар. Время выдержки в статическом смесителе очень короткое, и из-за растворенного диоксида углерода температура плавления смеси снижается. Таким образом, температура в статическом смесителе устанавливается очень низкой, и реакции можно избежать. Раствор, образующийся в смесителе, затем расширяется через сопло в распылительную колонну. Из-за значительного увеличения объема расширяющегося CO2 расплав распыляется на мелкие капли. При этом капли замерзают и образуется мелкодисперсное порошковое покрытие вследствие снижения температуры в распылительной колонне, вызванного расширяющимся газом. С помощью воздуходувки газ удаляется из распылительной колонны, а с помощью циклона и фильтра мелкие частицы отделяются от газа. Было показано, что таким образом можно получать порошковые покрытия со средним размером частиц менее 40 мкм, в то время как изготовление порошковых покрытий обычным способом приводит к получению частиц с размером более 40 мкм. Была реализована также возможность использования процесса CPCSP для получения частиц порошкового покрытия путем применения данного процесса к микронизации легкоплавкого полиэфира (диапазон температур плавления 80–90 °С). При этом было исследовано влияние температуры в статическом смесителе на морфологию и распределение частиц по размерам, установлено влияние давления в статическом смесителе на распределение частиц по размерам.
Альтернативным путем получения наночастиц в СКФ является использование микроэмульсий. Микроэмульсии воды в масле – термодинамически стабильные агрегаты, образованные водным ядром нанометрового размера и неполярной фазой. Они генерируются амфифильными поверхностно-активными веществами, структура которых представлена гидрофильной концевой группой и гидрофобным углеводородным радикалом [35]. Взаимодействие между водой и ПАВ приводит к формированию большого разнообразия структур, препятствующих прямому контакту вода–масло. Так, используя определенные ПАВ, стабилизирующие капли воды в сверхкритическом СО2, можно реализовать процесс, в котором формируются обратные мицеллы типа “микроэмульсии воды в масле”. В этом случае не нужен органический растворитель, а получение наночастиц может осуществляться простой декомпрессией. В работе [36] наночастицы Ag синтезировали в непрерывной фазе вода–изооктан, используя обратные водные мицеллы и натрий бис-(2-этилгексил) сукцинат в качестве ПАВ. Реагенты (AgNO3 и KBH4) помещали в реактор независимо в двух мицелярных растворах, а затем перемешивали. Среда сверхкритического CO2 использовалась для удаления органической фазы и основной части ПАВ путем солюбилизации непрерывной фазы. По данным электронной микроскопии размер полученных наночастиц Ag составлял 2–20 нм (максимальный размер) в зависимости от параметров процесса. Та же группа исследователей синтезировала наночастицы ZnS с размером 1–100 нм и наночастицы TiO2 с размером от 10 до 20 нм. В работе [37] синтез медных наночастиц с помощью обратных мицелл, содержащих натрий бис-(2-этилгексил) сукцинат, проводили в сверхкритических алканах как растворителях микроэмульсий. Средний размер частиц можно изменять путем варьирования параметров процесса, в частности давления растворителя в сверхкритическом состоянии (рис. 2).
Рис. 2. Электронная микрофотография медных наночастиц при синтезе методом СКФ/обратные мицеллы (а) и распределение по размерам частиц меди при давлении пропана 345 (1), 317 (2) и 241 бар (3) [37] (б).
Два типа обратных мицелл использовали и для получения в среде сверхкритического СО2 наночастиц бромида и иодида серебра [38]. В этом случае обратные мицеллы содержали ионы Ag+ и X−, а поверхностно-активным веществом служил натрий бис-(2-этилгексил) сукцинат. Для проведения реакции осуществлялся контакт двух типов мицелл и синтезировались наночастицы AgI или AgBr. Аналогично методом двойной эмульсии был получен ряд других наночастиц.
В обзоре [39] отмечается, что важнейшими достоинствами процесса СКФ-мицеллы, в котором непрерывная фаза удаляется с помощью СКФ, является значительное уменьшение или даже полное устранение коалесценции синтезируемых наночастиц, а также удаление ПАВ в одностадийном процессе. Кроме того, в процессе отсутствуют органические растворители, а СКФ используется как среда для реакции и сепарации. В то же время этот многообещающий метод требует дальнейшего развития (с тем, чтобы увеличить его производительность), в частности перехода от периодического к непрерывному процессу.
Другим подходом, широко применяемым для модификации полимеров, является сверхкритическое вспенивание (SCF или supercritical foaming). Если в случае процессов RESS и PGSS образование микрочастиц происходит при выбрасывании через сопло пластифицированного в среде сверхкритического СО2 полимера в приемную камеру, то в случае SCF создание вспененного материала происходит в автоклаве благодаря быстрой декомпрессии. При этом количество СО2 в полимере мгновенно падает, а при испарении СО2 из пластифицированной матрицы происходит рост объема полимера за счет образования внутренних пор. Таким методом получаются вспененные полимерные материалы с большим свободным объемом. Подобные материалы (на основе биосовместимых и биоразлагаемых полимеров) находят применения в медицине. Известно, что в тканевой инженерии пористые матрицы (скаффолды) требуются для заместительной терапии в качестве структур, поддерживающих клетки, их пролиферацию, дифференцирование и рост ткани. При включении в скаффолды факторов роста или других биологически активных соединений можно добиться ускоренного роста ткани или определенного дифференцирования стволовых клеток [40]. В работе [41] методом SCF были получены пористые структуры на основе полилактида и полигликолида и проведен анализ морфологии их поверхности и распределения пор. На рис. 3 представлены срезы структур, полученных с использованием чистого полилактида и смеси полилактид–полигликолид в соотношении 50 : 50. Видно, что процент свободного объема в первом случае на порядок выше.
Рис. 3. Срезы структур, полученных с использованием чистого полилактида (а) и смеси полилактид–полигликолид (50 : 50) [41] (б).
Вспененные структуры в среде сверхкритического СО2 были получены на основе поликапролактона. Было показано, что при повышении времени сброса давления средний размер пор увеличивался более чем в 2 раза. Конечная же структура фиксируется процессом кристаллизации поликапролактона, а не стеклованием, как в случае полилактида, что сопровождается повышением степени кристалличности, измеренной методом ДСК.
Таким образом, использование среды сверхкритического СО2 позволяет получать твердофазные каталитические системы на основе мезопористых неорганических и полимерных матриц, в частности аэрогелей. В качестве примера на рис. 4 показана схема микронизации полимеров методом RESS в среде сверхкритического СО2 [42].
Рис. 4. Схема микронизации полимеров методом RESS в среде сверхкритического СО2 [42].
ПРОЦЕССЫ ИМПРЕГНАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ В СРЕДЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО СО2
СКФ-модификация твердофазных систем
Импрегнацию в сверхкритических средах, в частности в сверхкритическом СО2, используют для получения твердофазных каталитических систем на основе мезопористых материалов из неорганических [43] и полимерных матриц [43, 44]. За последние несколько лет был проведен ряд исследований, посвященных данной проблеме.
Большинство работ по созданию катализаторов на основе мезопористых матриц в среде сверхкритического СО2 ориентированы на использование неорганических материалов в качестве носителей, причем выбор металлов был относительно невелик. При этом практически не анализировались зависимости между каталитическими свойствами полученных систем и их структурой, так что вопросы оптимизации структурной организации таких систем практически оставались открытыми. Очевидным преимуществом процессов внедрения наночастиц благородных металлов в пористые матрицы в среде сверхкритического СО2 является прежде всего возможность формирования однородной структуры по объему матрицы и создание высокой концентрации наночастиц, что достигается путем варьирования режимов проведения процесса. Известно, что размеры и структура активных центров в объеме и на поверхности катализатора играют определяющую роль в эффективности каталитических свойств таких систем.
Помимо мезопористых кремниевых матриц для создания катализаторов в среде сверхкритического СО2 в ряде работ использовали и другие силикатные носители, в частности аэрогели [46]. Вообще говоря, аэрогели представляют собой трехмерно-организованный наноструктурированный высокопористый материал, характеризующейся низкой плотностью (0.003–0.35 г/см3), большой площадью внутренней поверхности (до 1000 м2/г), размерами пор порядка нескольких нанометров [47]. Некоторые авторы считают аэрогели новым состоянием вещества, промежуточным между конденсированным и газообразным, вследствие указанных объемных свойств аэрогелей, а также переходных (между двумя указанными состояниями) величин плотности и энтальпии [48].
Для конкретизации дальнейшего анализа процессов импрегнации пористых твердофазных и полимерных матриц в среде сверхкритического СО2 рассмотрим некоторые из проблем иммобилизации тетрафенилпорфирина и фторированного тетрафенилпорфирина в качестве фотосенсибилизирующих соединений в альгинат-кальциевых аэрогелях с целью получения фотокаталитических систем для процессов окисления субстратов в водной фазе [49–51]. Структура указанных аэрогелей зависела от условий их формирования. Было показано, что при использовании в качестве носителей ксеро- и криогелей формирующиеся фотокаталитические системы были более чем на порядок менее активными в окислении модельной системы – триптофана в водной среде, чем системы тетрафенилпорфирины – аэрогель. Можно полагать, что такая разница в фотокаталитической активности связана с разной пространственной и поверхностной структурой твердых гелей, получаемых с помощью разных методов сушки водных или спиртовых гелей. Очевидно, сверхкритическая сушка, используемая при образовании аэрогелей, в наименьшей степени нарушает пространственную структуру гидро- или алко-гелей (получаемых в воде, затем в изопропаноле на начальных стадиях формирования аэро-, крио- и ксерогелей,) по сравнению с крио- и ксерогелями, формируемыми из алкогелей в условиях тепловой сушки на воздухе и лиофильной сушки в вакууме [50, 51]. Высокопористая структура аэрогелей с большой площадью поверхности обеспечивает, очевидно, отсутствие агрегации молекул порфиринов при их иммобилизации в аэрогеле, что и приводит к большой каталитической активности, фотостабильности и возможности многократного использования этого катализатора в процессах окисления. Обычно растворенные в органической или водной среде порфирины достаточно быстро теряют активность [52]. Установлен принципиально разный механизм термоокислительной деструкции у аэрогелей и исходного альгината натрия, ксеро- и криогелей, а также аналога альгината натрия – гиалуроновой кислоты. Для указанных полисахаридов и твердых гелей на основе альгината натрия, за исключением аэрогелей, характерен пик тепловыделения при 500–600 °С. В то же время аэрогели в интервале 400–600 °С, очевидно, подвергались карбонизации. Это позволило предположить, что в процессе сверхкритической сушки происходит образование дополнительных межмолекулярных связей, стабилизирующих гликозидные связи в макромолекуле полисахаридов, возможно, с участием катионов кальция.
В среде сверхкритического СО2 помимо обработки носителей для катализаторов проводилась модификация пористых структур на основе кремнезема SiO2, в том числе аэрогелей, опаловых матриц и стекла Vycor с размерами пор от единиц до сотен нанометров [53–55]. Одним из важнейших достоинств таких материалов является возможность направленной модификации их физико-химических свойств (функционализации) путем введения в поры материала определенных молекулярных соединений (например, прекурсоров металлов). Это позволяет создавать оптические нанокомпозиты, особенностью которых является существенное увеличение оптических откликов (как линейных, так и нелинейных) на инициирующее излучение. Последнее происходит благодаря многообразию внутренней структуры таких систем и влиянию на нее введенных соединений. СКФ-импрегнация подобных матриц на основе диоксида кремния прекурсорами металлов позволяет вводить металлосодержащие молекулы в нанопоры материала за счет отсутствия у среды сверхкритического СО2 поверхностного натяжения и обеспечивает полный выход растворителя после завершения процесса модификации, что практически недостижимо при использовании традиционных растворителей [24, 56]. Так, в работах [57, 58], была продемонстрирована возможность эффективного изменения оптических свойств образцов стекла Vycor с помощью его пропитки растворами прекурсоров металлов Er3+, Eu3+ и Cu2+ в сверхкритическом диоксиде углерода. Импрегнация в среде сверхкритического СО2 стекла Vycor прекурсорами серебра и меди позволила получить в нанопорах стекла наночастицы меди [59], отчетливо фиксируемые по плазмонным резонансам, формируемым в композитах, а также наблюдаемые с помощью просвечивающей электронной микроскопии. Такой подход позволяет локально изменять оптические свойства материала, что может найти применение при изготовлении ряда оптических элементов. Нанопористые стекла Vycor имеют поры со средним размером 4 нм (и практически монодисперсным распределением по размеру), которые соединены между собой узкими каналами по всему объему [60]. В опаловых матрицах близкие по диаметру (несколько сотен нанометров) сферы SiO2 имеют плотную упаковку. Упорядоченная структура из наносфер, размеры которых сопоставимы с длиной волны видимого света, придает таким матрицам свойства фотонных кристаллов [54]. Подобные упаковки содержат систему взаимосвязанных пор (зазоров между сферами), размер которых в десятки раз превышает размер пор в стекле Vycor. Для восстановления металлорганических прекурсоров можно использовать также СКФ для формирования наночастиц в твердофазной матрице. Так, в работе [61] в среде сверхкритического изопропанола были получены наночаcтицы висмута при восстановлении оксида висмута.
Таким образом, использование сверхкритического СО2 позволяет получать твердофазные каталитические системы на основе мезопористых неорганических и полимерных матриц, в частности аэрогелей.
СКФ-импрегнация полимеров не растворимыми в среде сверхкритического СО2 соединениями
В настоящее время существуют три типа процессов СКФ-модификации полимеров не растворимыми в среде сверхкритического СО2 соединениями, различающиеся по механизму внедрения нерастворимых объектов. Это может быть введение в полимеры соединений с низкой растворимостью (10–4 М) в среде сверхкритического СО2, введение в полимеры наноразмерных объектов, не растворимых в сверхкритическом СО2, а также комбинирование СКФ-подходов с традиционными методами модификации полимеров.
Для импрегнирования полимерных матриц разной природы функционально значимыми низкомолекулярными и олигомерными соединениями с помощью сверхкритического СО2 оказывается достаточной даже небольшая равновесная растворимость целевых компонентов в сверхкритическом СО2 и отсутствие их агрегирования в среде, поскольку конвективные потоки флюида, особенно при условии их стороннего инициирования (использование магнитных мешалок, повышение температуры среды), могут обеспечивать эффективный перенос целевых компонентов к твердофазной матрице. Слабая сольватирующая способность среды сверхкритического СО2 по отношению к вводимым в матрицы соединениям, определяющая их растворимость, оказывается важным позитивным фактором в кинетике импрегнирования вследствие практически полного подавления обратного выхода сорбируемых соединений в среду. Последующие стадии внедрения целевых компонентов в матрицу обусловлены их диффузионным переносом в объем матрицы. Ясно, что эффективность импрегнирования полимеров целевыми компонентами различной природы определяется прежде всего набуханием органических полимерных матриц (их аморфных фрагментов) в среде сверхкритического СО2. Относительно высокому набуханию (до 10 мас. %) полимерных матриц способствуют как высокая активность молекул СО2, так и связывающие взаимодействия квадрупольных моментов молекул СО2 с дипольными фрагментами полимерных цепей (в случае полярных полимеров) или наведенными диполями фрагментов полимерных цепей (в случае неполярных полимеров). Принципиально новым аспектом процессов импрегнации в среде сверхкритического СО2 является практически полное отсутствие сольватации молекулами растворителя (сверхкритического СО2) реагирующих соединений, что обусловливает возможность непосредственного взаимодействия полимерной матрицы и вводимого лекарственного вещества, облегчает диффузию активного вещества и способствует его равномерному распределению в полимере [14].
Первые работы по изучению возможностей СКФ-технологий для создания разнообразных композиций с малорастворимыми соединениями были обусловлены поиском новых методов равномерного окрашивания тканей азокрасителями. Известно, что в традиционных методиках окрашивания растворителем служит вода. При этом очистка отработанной воды является дорогостоящим и энергозатратным процессом [62]. СКФ-технологии упрощают процесс введения красителя в матрицу, снижая энергетические затраты, позволяя использовать заново не введенный в матрицу краситель. Кроме того, низкие температуры проведения процесса окраски дают возможность использовать более дешевые, менее термостойкие красители. В ряде работ [63–65] была показана низкая растворимость красителей в сверхкритическом СО2. В первых работах по получению окрашенных матриц в среде сверхкритического СО2 [66] исследовали полиметилметакрилат и азотсодержащие красители, традиционно применяемые для окраски тканей (такие как 4-(диэтиламино)-4’нитроазо бензол (DENAB) или 4-[N-(2-гидроксиэтил-N-этил]амино-4-нитроазобензол (Disperse Red 1 или DR 1)). Известно, что ПММА ограниченно набухает в среде сверхкритического СО2. В работе [66] использовали автоклав, оснащенный двумя окошками из BaF2, позволяющими снимать ИК-спектры во время проведения процесса. Спектральные данные, полученные для определения растворимости красителей в среде сверхкритического СО2, показали, что при варьировании давления от 7 до 25 МПа растворимость повышалась от 10–8 до 10–5 М для DENAB и от 10–8 до 10–6 М для DR 1 при постоянной температуре 40 °С. Увеличение растворимости на два порядка наблюдалось в пределах давлений 7–10 МПа, а максимум растворимости достигался при 15 МПа, после чего растворимость практически не изменялась. При этом концентрации красителя, введенные в матрицу полимера, достигали 3%, т.е. были в среднем выше растворимости в среде сверхкритического СО2 на два порядка. Авторы [66] связывали данный эффект прежде всего с высоким коэффициентом распределения красителя в ПММА, определяемым как отношение концентрации красителя в полимере к концентрации красителя в среде сверхкритического СО2. Они полагали, что после начала проникновения растворенного в сверхкритическом СО2 красителя в набухший образец ПММА вне полимерной матрицы создавалась фаза, насыщенная красителем, так что концентрация красителя снаружи всегда оставалась постоянной за счет избытка красителя в среде. Таким образом, в полимере достигалась равновесная концентрация красителя. Важным результатом указанной работы стала полученная зависимость коэффициента распределения красителя от давления. Было показано, что при увеличении давления с 8.6 до 9.2 МПа, этот коэффициент снижается на два порядка, что позволяет кардинально повысить концентрацию красителя в полимере при малом изменении давления. Аналогичные исследования проводились в работе [67], причем процесс введения DR 1 в матрицу ПММА проходил в электрическом поле. Такой подход позволял ориентировать молекулы красителя в матрице полимера в соответствии с их дипольным моментом. При сбросе давления молекулы красителя фиксировались в матрице полимера, и полученный композиционный материал обладал нелинейными оптическими свойствами. Следует отметить, что данный способ позволяет снизить броуновскую подвижность молекул красителя в процессе стеклования полимера и получать образцы с более упорядоченной структурой. В работе [68] представлены результаты, свидетельствующие о возможности окраски волокон полипропилена в среде сверхкритического СО2 красителями разной химической природы, в частности DR 1 и DY 7 (4-[4-(фенилазо)фенилазо]-о-крезол). Авторы работы [69] использовали для окрашивания пленки ПЭТФ красители DB 1 и DY 7. Процесс импрегнации полимера проводили при постоянном вращении образца в течение 4 ч, моделируя промышленный процесс окраски ткани. Было показано, что при повышении температуры с 90 до 110 °С глубина проникновения красителя увеличивается более, чем в два раза для обоих красителей (и достигает 150 и 170 мкм для DB и DY соответственно), а изменение давления с 22 до 25 МПа не увеличивает глубину проникновения.
В представленных выше работах для создания композиционных полимерных материалов использовали соединения, обладающие растворимостью в сверхкритическом СО2, хотя и достаточно низкой. Однако реализующиеся в среде сверхкритического СО2 конвективные потоки формируют уникальные транспортные свойства этой среды, что позволяет вводить в полимеры наноразмерные объекты, полностью не растворимые в среде сверхкритического СО2. В частности, одним из возможных подходов к синтезу высокостабильных полимерных нанокомпозитов с определенными оптическими свойствами может являться сополимеризация мономеров с одновременным синтезом квантовых точек в среде сверхкритического СО2. Метод основан на одностадийном процессе, что определяет его простоту и эффективность. Он применялся, например, для получения наночастиц меди и серебра в среде сверхкритического СО2 из соответствующих металлорганических соединений, предварительно растворенных в исходном мономере и введенных в среду. Процессы полимеризации и восстановления металла протекали при повышенных температурах, в результате чего формировались материалы, обладающие поверхностным плазмонным резонансом [70]. Аналогично могут быть сформированы структуры, содержащие квантовые точки. Эти объекты, являющиеся нанокристаллами полупроводниковых элементов с характерными линейными размерами от нескольких единиц до нескольких десятков нанометров, имеют высокий квантовый выход фотолюминесценции в видимой и ближней УФ-областях спектра. Оптические свойства флуоресцирующих квантовых точек (высокая интегральная яркость в узком спектральном диапазоне, зависящем как от размеров самих квантовых точек, так и от их окружения) позволяют разрабатывать и создавать на их основе новые типы фотогальванических приборов, а также элементы для перспективных сенсорных и телекоммуникационных систем [71]. Введение квантовых точек в полимеры дает возможность не только стабилизировать флуоресцентные характеристики квантовых точек, но и применять модифицированные полимеры для создания оптических систем. В работе [71] разработан метод получения порошковых флуоресцентных полимерных нанокомпозитов, основанный на проведении дисперсионной сополимеризации метилметакрилата и стирола в присутствии квантовых точек CdSe/CdS в среде сверхкритического СО2. Показано, что в полученном композите квантовые точки распределяются однородно по всему объему полимера, причем процессы агломерации квантовых точек практически отсутствуют, и полимер обладает стабильной флуоресценцией, в том числе после экспонирования его на воздухе. Аналогичные результаты получены в работе [72], где представлены композиционные материалы на основе квантовых точек CdS/CdS-ZnS и сополимера этилена с винилацетатом, обладающие значительным поглощением в УФ- и видимой области и высвечивающие в красной области спектра. В работе [73] стабильные нанокомпозиты, содержащие квантовые точки CdS/CdSe, были получены с помощью метода SAS (метод сверхкритического флюидного антирастворителя). Показано, что варьирование параметров процесса позволяет получать полимерные частицы с размерами от 40 до 500 нм, обладающие стабильными фотолюминесцентными характеристиками.
Среду сверхкритического СО2 используют при традиционных методах модификации высокомолекулярных соединений, таких как плавление, экструзия и т.д. Интерес к таким комбинированным методам определили два типа наноразмерных объектов, широко исследуемых в настоящее время: углеродные нанотрубки (УНТ) и так называемые нанодисперсные глины (НДГ). УНТ представляют собой объекты цилиндрической формы, состоящие из одного или нескольких концентрических графитовых слоев [74]. Теплопроводность углеродных нанотрубок очень высока и сравнима с теплопроводностью проводящих материалов. Сформированные из слоев графита углеродные нанотрубки в зависимости от структуры могут обладать как полупроводниковыми, так и металлическими свойствами. Углеродным нанотрубкам свойственен капиллярный эффект, что позволяет заполнять их проводящими каталитически активными материалами [75]. Введение УНТ в высокомолекулярные соединения позволяет повышать механическую прочность композита и термическую стабильность [76], формировать необходимые электропроводящие свойства [77]. Основным требованием для улучшения характеристик композиционного материала полимер–УНТ по сравнению с характеристиками исходного полимера является однородное распределение УНТ в матрице. Традиционные методы получения полимеров, наполненных УНТ, предполагают их введение в матрицу через раствор [78] или расплав [79]. К основным минусам таких методов можно отнести прежде всего использование больших количеств органических растворителей и неполное удаление растворителя из композита. Стоит также отметить, что существует проблема получения хорошей дисперсии УНТ в растворе, поскольку для диспергирования нельзя использовать ультразвук, который повреждает УНТ [80]. В расплаве также сложно получить однородную дисперсию, особенно для неполярных полимеров, прежде всего вследствие их недостаточной совместимости с УНТ [81].
Существует несколько подходов к получению композиционных материалов полимер–УНТ в среде сверхкритического диоксида углерода, зависящих прежде всего от типа полимерной матрицы. В работе [82] композиционный материал полистирол–УНТ был получен при полимеризации стирола в среде сверхкритического СО2 в присутствии УНТ с использованием ДАК в качестве инициатора. Предложенный метод был в первую очередь направлен на получение УНТ, внутренний объем которых был бы наполнен полимером. После проведения полимеризации и удаления диоксида углерода полученный композитный материал анализировали с помощью сканирующей электронной микроскопии, результаты которой визуализировали изменения внутренней структуры УНТ. Аналогичный подход использовали для заполнения внутреннего объема УНТ полиацетиленом [83], полиметилметакрилатом [84, 85] и поливинилкарбазолом [86]. Эти материалы были охарактеризованы различными методами, в том числе просвечивающей электронной микроскопии и ЯМР, однако их механические свойства не были проанализированы, что не позволяет судить о перспективности применения такого подхода. В работе [84] в условиях сверхкритического СО2 также проводили полимеризацию метилметакрилата в присутствии УНТ, которые предварительно были функциализированы аминоэтилметакрилатом. В работе [87] в сверхкритическом СО2 в присутствии УНТ синтезировали поли(2,4-гексадиен-1,6-диол). Было показано, что полимер, с одной стороны, покрывает поверхность УНТ пленкой, толщина которой не превышает 10 нм, а с другой стороны, частично заполняет внутренний объем нанотрубок [71].
В ряде работ для создания композиционных материалов полимер–УНТ используется подход, при котором импрегнация полимера в сверхкритическом СО2 сочетается с традиционным методом плавления. Так, в работе [88] на основе полипропилена был получен материал, содержащий от 0.1 до 3 мас. % УНТ. Исследовали влияние метода получения образцов на их механическую прочность. Образцы, полученные при механическом смешении в среде сверхкритического СО2 с последующим плавлением при температуре 200 °С и давлении 40 МПа, сопоставляли с образцами, полученными традиционным методом в экструдере. Было показано, что с ростом количества УНТ в образцах, полученных в среде сверхкритического СО2, предел текучести увеличивается на 30%, а модуль Юнга на 6% по сравнению с таковыми у образцов, полученных традиционными методами. При этом рост механических характеристик был обусловлен прежде всего действием сверхкритического СО2 как пластификатора полимерной матрицы. Наиболее перспективный подход к созданию композитного материала на основе УНТ путем совмещения процесса экструзии с обработкой в сверхкритическом СО2 описан в работе [89]. Авторы этой работы проводили диспергирование УНТ в среде сверхкритического СО2 с последующим распылением дисперсии УНТ из реакционной камеры со сверхкритическим СО2 в приемный сосуд, находящийся под нормальным давлением. Полученную дисперсию УНТ в дальнейшем использовали для получения полимерных композитов на основе полифенилсульфона в расплаве в среде сверхкритического СО2. Таким образом, приведенные выше данные показывают потенциальную возможность использования среды сверхкритического СО2 для создания полимерных материалов на основе УНТ. При этом особых различий в механических характеристиках таких композитов и полимеров, содержащих углеродные нанотрубки, введенные традиционными методами, не наблюдалось.
Другим типом наполнителей, позволяющим при их введении в полимеры изменять механические характеристики полимеров, являются нанодисперсные глины, например монтмориллонит. Нанодисперсные глины обладают рядом важных свойств, в частности высокими адсорбционными характеристиками по отношению к полимерам, и используются для создания наполненных композитных материалов, применяющихся в нефтегазовой промышленности, косметологии и т.д. [90]. Как и в случае с УНТ, традиционными методами получения композиционных материалов, содержащих НДГ, являются полимеризация в присутствии НДГ, внедрение НДГ в полимер в расплаве или в растворе [91]. Основной проблемой, возникающей при создании нанокомпозитов на основе НДГ в растворе, является выбор эффективного растворителя, в котором проходило бы набухание полимера и одновременно диспергирование НДГ. Поскольку обычно не удается подобрать такой растворитель, используется тот, в котором хорошо набухает выбранный полимер, а диспергирование наночастиц осуществляется с помощью ПАВ [92] или обработки ультразвуком [93]. Однако максимальное количество НДГ, введенное таким методом, не превышает 5–6 мас. % из-за эффектов агломерации и агрегации наночастиц, что в свою очередь приводит к значительному ухудшению механических свойств композитов [94]. Указанные факторы справедливы и для введения НДГ в процессе полимеризации. Как и в случае с УНТ, первые работы по созданию композиционных материалов, содержащих НДГ, в среде сверхкритического СО2 были осуществлены при их комбинировании с традиционными методами. Так, в работе [95] в среде сверхкритического СО2 проводилось диспергирование частиц НДГ, что позволило получить более равномерную дисперсию. Полученные частицы НДГ вводили в полимер в расплаве. В дальнейшем те же авторы вводили дисперсию НДГ в расплав полимера в экструдере в атмосфере сверхкритического СО2 при давлении около 7.5 МПа [96]. Предполагалось, что в экструдере будет происходить дальнейшее расслоение НДГ и эффективное перемешивание с расплавом полимера. Такой же метод предложен в работе [97], где использовали сверхкритический СО2 для предварительного воздействия на НДГ, после чего при повышении температуры происходило плавление полимера. Аналогичный подход к созданию полимерных композитов, наполненных НДГ, путем предварительной обработки наночастиц в среде сверхкритического СО2 и дальнейшего плавления полимера описан в работе [98]. Продемонстрировано увеличение модуля Юнга модифицированного полимера на 17% при содержании НДГ 6.5 мас. %. Важным результатом работы является отсутствие ухудшения механических характеристик композита при увеличении содержания НДГ, возможно, вследствие хорошего диспергирования наночастиц в сверхкритическом СО2. В работе [99] НДГ (клоизит) вводили непосредственно в частицы поливинилметилового эфира в среде сверхкритического СО2. После длительного взаимодействия полимера с НДГ в среде сверхкритического СО2 полученную смесь быстро распыляли в приемный сосуд, находящийся при атмосферном давлении. Предложенный метод повышал совместимость НДГ и полимера, позволяя получать материал с хорошим распределением НДГ в матрице. При распылении смеси через сопло происходит резкое снижение растворяющей способности диоксида углерода и выведение его из отдельных частиц глины. Полученные композиты обладали повышенной термостойкостью.
Резюмируя, можно отметить, что при использовании различных методик и подходов среда сверхкритического СО2 благодаря своим уникальным свойствам – низкому коэффициенту поверхностного натяжения и высокому коэффициенту переноса в ней целевых компонентов может эффективно использоваться для создания композиционных материалов, в том числе и на основе нерастворимых соединений и наноразмерных объектов. В представленных работах было также показано, что при комбинировании традиционных методов с СКФ-обработкой можно получать композиционные материалы, содержащие объемные нанообъекты (такие как УНТ и НДГ) и имеющие хорошие механические свойства. На рис. 5 в качестве примера показана схема импрегнации и модификации полимеров в среде сверхкритического СО2 [42].
Рис. 5. Схема импрегнации и модификации полимеров в среде сверхкритического СО2 [42].
ИМПРЕГНАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ ФОТОХРОМНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ В СРЕДЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО СО2
Индолиновые спирооксазины (ИСО) представляют собой наиболее важный класс фотохромных соединений [100, 101]. Интерес к таким соединениям и материалам на их основе обусловлен прежде всего значительным разнесением полос поглощения исходной и фотоиндуцированной форм, а также высокой эффективностью фотопревращений и значительной фотохимической устойчивостью, высокими коэффициентами экстинкции молекул фотоиндуцированной формы, возможностью управления в широких пределах фотохромными параметрами системы при изменениях структуры молекулы и, наконец, относительно простым синтезом ИСО. Обычно полимеры с введенными в них фотохромными соединениями получают либо полимеризацией и сополимеризацией мономеров, модифицированных фотохромами [102], либо химической модификацией боковых функциональных групп полимера фотоактивными группировками [103, 104]. Еще одним методом введения фотохромов в полимерные среды без образования химических связей с макромолекулами является сорастворение полимера и фотоактивного соединения с последующим отливанием пленки на подходящей поверхности [105]. В случае плохо растворимых полимеров (полиэтилентерефталат, поликарбонат) или пространственно-сшитых систем (акрилаты, эпоксиды) обычно используют пропитку полимерной матрицы раствором фотоактивного соединения или введение раствора фотоактивного соединения на стадии отверждения полимера [106]. При удалении растворителя введенные фотоактивные соединения образуют, как правило, разноразмерные агрегаты в свободном объеме полимера, неравномерно распределенные в объеме матрицы, что снижает функциональную эффективность таких материалов. Более того, содержание органических фотоактивных соединений в прозрачной полимерной матрице при таких способах введения обычно связывается с предельной концентрацией растворения фотоактивного соединения в полимере и не превышает 0.1–2.0 мас. %.
Цикл работ [107, 108–111] демонстрирует возможность создания фотоактивных композитов на основе полимеров различной природы методом импрегнации в среде сверхкритического СО2. Было показано, что фотохромные индолиновые спирооксазины могут эффективно вводиться в термопластичные полимеры (поликарбонат, полиметилметакрилат) и пространственно-сшитые олигомеры на основе замещенных метакрилатов до содержания 3–5 мас. %.
В качестве прозрачных полимерных матриц использовали термопластичные полимеры, представляющие собой пленки толщиной 120 мкм (ПК), 500 мкм (ПК, ПП и ПЭ, ПЭНП, Ф-42) или пластинки толщиной 3 мм (ПММА, ПК). Вводимые в полимер спироантрооксазины и спиропираны представлены в табл. 3.
Таблица 3. Структурные формулы фотохромных соединений, использованных в экспериментах
Тип спиросоединения | Структурная формула |
1′,3′,3′-триметилспиро(индолин-2′,3-3Н-антрацено [2, 1-b][1, 4])оксазин (САО) | |
1′,3′,3′-триметилспиро(индолин-2′,3-3Н-фенантрено [2, 1-b][1, 4])оксазин (СФО) | |
1′,3′-дигидро-5′-метокси-1′,3′,3′-триметил-спиро (2Н-индол-2,3′-3Н-нафт[2, 1-b][1, 4])-оксазин (СНО) | |
8′-салицилиденимино-1,3,3-триметилспиро [2H-индол-2,3′-[3H]нафт[2, 1-b][1, 4]оксазин (СНО-1) | |
8-пиперидил-1′,3′-дигидро-5′-метокси-1′,3′,3′-триметил-спиро (2Н-индол-2,3′-3Н-нафт[2, 1-b][1, 4] )-оксазина (СНО-2) | |
1′,3′-дигидро-5′-метокси-1′,3′,3′-триметил-6-нитро [2Н-1-бензопиран-2,2′-(2Н)-индол] (СБП) |
В исходной спироциклической форме молекула ИСО состоит из двух некомпланарных, взаимно перпендикулярно ориентированных фрагментов, – индолинового и оксазинового [100]. Под воздействием УФ-излучения происходит разрыв спиросвязи С2–О– и взаимный поворот ортогональных частей молекулы до компланарного состояния (рис. 6). Компланарная мероцианиновая форма Вλ с обобществленными π-электронами индолиновой и оксазиновой частей характеризуется интенсивным поглощением в видимой области спектра.
Рис. 6. Схема фотоиндуцируемого перехода молекул ИСО из неокрашенной формы А в мероцианиновую форму В.
Фотохромные свойства формируемых полимерных материалов в условиях фотовозбуждения определяются как концентрацией импрегнированных молекул ИСО, так и кинетикой обесцвечивания их окрашенных форм.
Все наблюдаемые временные зависимости оптической плотности полосы Вl описывались формулой [112]
D(t) = a exp (−k1 t) +b exp (−k2 t), (1)
где a и b – параметры, соответствующие долям молекул ИСО, уменьшение интенсивности излучения которых характеризуются эффективными константами скорости k1 и k2. Положения λ максимумов полос поглощения и константы k1 и k2, зависящие от типа среды, в которой находятся молекулы фотохрома, приведены в табл. 4–8.
Двухэкспоненциальная аппроксимация (1) использовалась при исследовании фотохромизма спиронафтооксазинов (СНО) в полимерных пленках на основе замещенных полисилоксанов, реакции термического обесцвечивания СНО в ПММА, фотообесцвечивания спиробензопирана в ПК и темнового обесцвечивания спироантрооксазина (САО) в сетчатых полимерах. Аппроксимация (1) адекватно описывает кинетику темнового обесцвечивания окрашенных форм молекул ИСО, импрегнированных в матрицы ПММА и ПК (табл. 4 и 5), даже при различии на два порядка величин k1 и k2 в случаях, когда обе эти константы проявляются. Естественно связать различие констант перехода мероцианиновой формы Вλ фотохрома в исходную спироциклическую форму Аλ с разным локальным окружением, в котором оказываются импрегнированные молекулы фотохрома в полимерной матрице. При этом из анализа временной зависимости оптической плотностей D(t) в полулогарифмическом масштабе легко определяется и отношение ξ = a/b долей молекул фотохрома, оказавшихся при импрегнировании в разном окружении. Иногда для оценки скорости темнового обесцвечивания окрашенной формы В фотохромов помимо констант скорости k1 и k2 используют время полуобесцвечивания τ0.5, характеризующее уменьшение интенсивности полосы поглощения по сравнению с исходным состоянием (в начальный момент времени после фотовозбуждения) в два раза [100]. Значения τ0.5 для молекул спирооксазинов, введенных в ПММА и ПК, также приведены в табл. 4 и 5. Для фотохромов, введенных в ПЭ и ПП, константы скорости k1 и k2, равно как и параметр τ0.5, определить не удалось из-за высокой эффективной скорости релаксационной кинетики, сопоставимой с соответствующей скоростью обесцвечивания окрашенной формы фотохромов в жидких средах (τ0.5 < 1 c) [112]. Такое различие в кинетике обесцвечивания окрашенной формы ИСО в исследуемых полимерных матрицах при комнатных температурах естественно связать (см. ниже) со стеклообразной структурой ПММА и ПК, для которых температура стеклования Тс составляет 105 и 150 °C соответственно. Для сопоставления укажем, что для ПЭ и ПП эта температура равна –80 и –10 °C соответственно.
Таблица 4. Концентрации ИСО, введенных в образец ПММА толщиной 3 мм в условиях сверхкритического СО2, кинетические параметры обесцвечивания окрашенной формы и положения λA, λВ и λВx максимумов полос поглощения форм А, В и Вх соответственно
ИСО | [ИСО]макс × 107, моль/см2 | τ0.5, с | k1 × 102, с–1 | k2 × 104, с–1 | a/b | λA, нм | λВ*, нм | λВx, нм |
СНO | 3.7 | 60 | 1.14 | – | – | 319, 349 | 601 | – |
САО | 0.96 | 30 | 3.1 | 5.3 | 1.5 | 346, 364, 400, 427 | 604 | – |
СНО-1 | 0.52 | 300 | 2.32 | 8.17 | 0.6 | 322, 361 | 628 | – |
СНО-2 | 0.89 | 120 | 1.02 | 6.55 | 1.59 | 361 | 580 | – |
СБП | 1.78 | 4800 | 0.23 | 1.02 | 0.26 | 316, 346 | 589 | – |
* Форма В появлялась при фотовозбуждении образца.
Таблица 5. Концентрации ИСО, введенных в образец ПК толщиной 0.12 мм в условиях сверхкритического СО2, кинетические параметры обесцвечивания окрашенной формы и положения λA, λВ и λВx максимумов полос поглощения форм А, В и Вх соответственно
ИСО | [ИСО]макс × 107, моль/см2 | τ0.5, с | k1 × 102, с–1 | k2 × 104, с–1 | a/b | λA, нм | λВ, нм | λВx, нм |
СНO | 11.4 | 300 | 1,31 | 3.30 | 0.90 | 319, 343 | 595* | – |
САО | 2.9 | 900 | 0.29 | 1.10 | 1.30 | 325, 346, 364, 403, 427 | 610** | – |
СФО | 2.46 | 300 | 0.43 | 3.38 | 1.34 | 343, 373 | 592** | – |
СНО-1 | 1.09 | 360 | 0.94 | 3.83 | 1.10 | 364 | 613** | – |
СНО-2 | 4.17 | 150 | 0.53 | 5.50 | 2.21 | 364 | 580** | – |
СБП | 4.78 | 3600 | 0.15 | 0.82 | 0.48 | 316, 346 | 589** | – |
* Форма В появлялась при фотовозбуждении образца.
** Форма В появлялась в результате импрегнации в среде сверхкритического СО2 (10–20%) и фотовозбуждения (20–40%).
В стеклообразных полимерах релаксационный переход молекул ИСО из мероцианиновой формы В в неокрашенную форму А оказался замедленным, что позволило исследовать особенности кинетики (в общем случае двухэкспоненциальной) темнового обесцвечивания окрашенной формы Вλ и определить соответствующие константы. Естественно связать возрастание характерного времени перехода Вλ в Аλ с возможностью конформационной перестройки структуры молекул САО с образованием окрашенной формы В, формирующейся после снятия давления в реакторе. При этом активационная перестройка окружения молекул САО, вызывающая релаксационный переход, происходит с характерными для стекол замедленными временами.
Найденные константы скорости k1 и k2 для пар ПММА–ИСО и ПК–ИСО, а также отношения a/b вкладов в оптическую плотность молекул фотохрома, обесцвечивающегося с константами скорости k1 и k2 в разных областях полимерной матрицы, приведены в табл. 4 и 5. Следует отметить, что величины τ0.5 для САО, введенного в ПММА в среде сверхкритического СО2 и путем отлива пленки из раствора ПММА и САО в хлороформе, отличаются более чем в 30 раз (табл. 4, 5). Это указывает на роль существенно неравновесной структуры окружения молекул ИСО, формирующихся при импрегнировании в среде сверхкритического СО2, в замедлении перехода Вλ → Аλ.
При модификации в среде сверхкритического СО2 “эластичных” полимерных матриц, таких как ПЭ (табл. 8) и ПП, были получены фотохромные материалы, содержащие форму Вλ. Релаксация возбужденной формы, т.е. темновой переход Вλ → Аλ (обесцвечивание) при комнатных температурах в случае этих материалов происходил с характерными временами τ0.5 < (1–5) с. В дальнейшем для полученных фотохромных полимеров под действием света с l = 365 нм наблюдался переход формы Аλ в форму Вλ.
Был обнаружен эффект образования долгоживущей окрашенной формы спирооксазинов в результате их введения в полимерные матрицы при импрегнации в среде сверхкритического СО2. Данный эффект был первоначально зафиксирован для САО, введенного в пленки из полибисфенол-А-карбоната (ПК) и в сшитые олигометакрилаты, содержащие бисфенольные фрагменты. Наблюдаемый эффект долговременной стабилизации В-формы САО (с плоской конфигурацией) в этих полимерах был связан с образованием донорно-акцепторных межмолекулярных комплексов между фрагментами В-формы САО и стерически подобными им бисфенольными звеньями ПК. Формирование таких устойчивых комплексов становится возможным благодаря набуханию полимера в среде сверхкритического СО2, способствующему введению САО в матрицу полимера, и изоляции САО в матрице, препятствующей возвращению САО в неплоскую форму А после полного удаления растворителя (СО2), а также практически полному отсутствию сольватации молекул САО растворителем, что обеспечивает беспрепятственное сближение САО с бис-фенольными звеньями ПК [14]. Начальные стадии формирования систем с такой матричной иммобилизацией фотохрома в среде сверхкритического СО2 связаны с диффузионным проникновением растворенных в этой среде молекул САО в области свободного объема набухшего полимера и координацией молекул САО в наиболее энергетически выгодных участках свободного объема. При импрегнировании поликарбоната САО такие наиболее равновесные условия реализуются при локализации N-оксильных групп молекул САО в окрестности карбонильных фрагментов макромолекулярной цепи, тогда как антраценсодержащие фрагменты САО локализуется вблизи бисфенольных группировок соседней полимерной цепи. Тем самым формируются слабо связанные комплексы САО с фрагментами цепей поликарбоната, в которых равновесная конформация молекул САО может отличаться от их равновесной конформации в растворе. Именно при такой базовой ориентации молекул САО в матрице поликарбоната при декомпрессии образцов, когда практически весь СО2 из объема полимера быстро уходит, конформации сформированных в условиях сверхкритического СО2 комплексов с выраженной локальной структурной неравновесностью оказываются “замороженными”. При этом комплекс стабилизируется донорно-акцепторной парой N-оксильного и карбонильного фрагментов, а также π–π-взаимодействием указанных антраценового и бисфенольного фрагментов, а конформация самой молекулы САО оказывается плоской. Возможность формирования таких “замороженных” комплексов в матрице полимера определяется, по-видимому, относительно малым временем выхода СО2 из полимера при декомпрессии, за которое “тяжелые” фрагменты полимерных цепей (равно как и конформация хромофора) не успевают отрелаксировать, как это имеет место при импрегнировании полимеров (поликарбоната) хромофорами в условиях набухания. Действительно, в соответствии с работой [14] при удалении СО2 после декомпрессии из полимерной матрицы константы скорости конформационных перестроек “окрашенных” комплексов “САО-фрагменты полимерных цепей” могут возрастать на порядок по сравнению с соответствующими константами скоростей в набухшей в среде сверхкритического СО2 полимерной матрице.
Можно отметить также, что происходящее после окончания импрегнации уменьшение массы образца вследствие диффузии СО2 из матрицы полимера (рис. 7), сопровождается увеличением отношения оптической плотности полосы поглощения с λ = 610 нм, соответствующей окрашенной форме Вλ, к оптической плотности полосы поглощения с λ = 403 нм, отвечающей неокрашенной форме А для САО, введенного в ПК (D610/D403) (рис. 7б).
Рис. 7. Изменение массы образца (мас. %) (а) и отношение количества молекул в форме В к количеству молекул в форме А (D610/D403) (б) для САО, введенных в ПК, в зависимости от времени после окончания импрегнации в сверхкритическом СО2 (б).
Формирование долгоживущей окрашенной формы имеет место и при матричной иммобилизации САО в галоидсодержащих полимерах (поливинилхлорид, фторопласт) в среде сверхкритического СО2 (табл. 6, 7) [113]. После окончания процесса импрегнации в среде сверхкритического СО2 ПВХ спироантрооксазином в полученной системе наблюдается в основном “синяя” окрашенная В-форма САО (рис. 8а). В то же время при импрегнировании образцов Ф-42 молекулы САО переходят в ранее не наблюдавшуюся, “красную” форму В535, где нижний индекс указывает положение максимума поглощения (в нм) в наиболее длинноволновой области спектра поглощения системы (рис. 8б) [114]. Подчеркнем, что при аналогичном способе введения САО в пленку ПК также была зафиксирована В-форма САО (рис. 8в), а при введении в полиэтилен окрашенная форма САО вообще не наблюдалась (рис. 8г).
Таблица 6. Концентрации ИСО, введенных в образец ПВХ толщиной 0.1 мм в условиях сверхкритического СО2, кинетические параметры обесцвечивания окрашенной формы и положения λA, λВ и λВx максимумов полос поглощения форм А, В и Вх соответственно [113]
ИСО | [ИСО]макс × 107, моль/см2 | τ0.5, с | k1 × 102, с–1 | k2 × 104, с–1 | a/b | λA, нм | λВ, нм | λВx, нм |
СНО | 11.3 | 90 | 1.32 | 17.9 | 1.36 | 319, 343 | 601* | 460 |
САО | 2.9 | 80 | 0.43 | 3.07 | 5.28 | 346, 364, 403, 427 | 604* | Плечо 544нм пика 604нм |
СФО | 6.0 | 300 | 0.85 | 407 | 0.84 | 343, 376 | 595* | Плечо 487нм пика 595нм |
СНО-2 | 2.5 | 180 | 1.02 | 8.08 | 1.09 | 367 | 580* | Плечо 550нм пика 580нм |
СБП | 5.9 | 18000 | 0.084 | 0.217 | 0.28 | 316, 346 | Плечо 586нм пика 553нм | 553 |
* Форма В появлялась при импрегнации в среде сверхкритического СО2 (10–20%) и фотовозбуждении (80–90%).
Таблица 7. Концентрации ИСО, введенных в образец Ф-42 толщиной 0.1 мм в условиях сверхкритического СО2, кинетические параметры обесцвечивания окрашенной формы и положения λA, λВ и λВx максимумов полос поглощения форм А, В и Вх соответственно [114]
ИСО | [ИСО]макс × 107, моль/см2 | τ0.5, с | k1 × 102, с–1 | k2 × 104, с–1 | a/b | λA, нм | λВ, нм | λВx, нм |
СНО | 2.0 | 45 | 7.65 | 40.2 | 0.87 | 316, 346 | 628* | 478 |
САО | 0.55 | – | – | – | – | – | – | 352, 535 |
СФО | 0.5 | – | – | – | – | – | – | 487 |
СНО-2 | 0.45 | – | – | – | – | – | – | 550 |
СБП | 5.13 | – | – | – | – | – | – | 457 |
* Форма В появлялась при фотовозбуждении образца.
Рис. 8. Фотографии образцов ПВХ (а), Ф-42 (б), ПК (в) и ПЭ (г) после их импрегнации молекулами САО в среде сверхкритического СО2.
Форма, в которую переходит САО при введении в матрицу в сверхкритическом СО2, определяется природой матрицы и возникающих связей САО–полимер. Так, в матрице Ф-42 молекулы САО полностью переходят в окрашенную форму В535 (табл.7). При этом оказывается, что фиксируемая форма В535, характеризующая комплекс САО–фрагменты полимера Ф-42, в отличие от формы В обладает люминесценцией ( = 635 нм, =355, 540 нм).
В то же время в электронных спектрах поглощения САО, введенного в ПВХ, присутствуют полосы поглощения в ультрафиолетовой области спектра, характерные для невозбужденной формы А, и полоса поглощения окрашенной В-формы (λ = 604 нм). В пленке ПВХ молекулы САО, введенные в среде сверхкритического СО2, присутствует в трех состояниях: невозбужденная форма А (~ 80%), форма В (18%) и форма В535 (около 2%). Наличие формы В535 подтверждается спектром люминесценции ( = 603нм; = 541нм) и присутствием в электронном спектре поглощения слабо выраженного “плеча” в области 520–560 нм. Стабилизация формы В535 в галоидсодержащих полимерах обусловлена, вероятно, образованием донорно-акцепторных межмолекулярных комплексов между дипольными фрагментами фотовозбужденной В-формы САО и дипольными фрагментами макромолекул фторсодержащего полимера (сополимера винилиденфторида и тетрафторэтилена) и ПВХ. Форма В535, по-видимому, является более прочно связанным с матрицей изомером, чем обычно наблюдаемая форма В с λ = 600–634 нм. Это предположение прямо подтверждается результатами экстракции в среде сверхкритического СО2 импрегнированных образцов ПВХ и Ф42, которую проводили при 82 °С и 21 МПа в течение 30 мин. После такой процедуры содержание формы В535 во фторсодержащем полимере уменьшалось на 10%, а вид спектра не менялся. При этом в ПВХ содержание формы А снижалось на 45%, а содержание формы В – на 35%. Кроме того, в полосе поглощения формы В (λ = 574 нм) появлялось плечо с λ = 535 нм, соответствующее форме В535.
Молекулы САО, введенные в поликарбонат методом импрегнации в среде сверхкритического СО2, не вымываются при экстракции в аналогичных условиях. Вымывание САО из галоидсодержащих полимеров может быть связано с достаточно низкой температурой стеклования этих полимеров (от 70 до 85 °С), более низкой, чем у поликарбоната (150 °С). Очевидно, форма В535 молекул САО более прочно, чем форма В, удерживается как в матрицах Ф-42, так и в матрицах ПВХ (табл. 5, 6).
Таким образом, функциональные свойства импрегнированных в условиях среды сверхкритического СО2 полимерных матриц оказываются зависящими как от химической структуры и конформации вводимых низкомолекулярных соединений, так и от химической природы полимера – наличия определенных функциональных групп в основной или боковых цепях. В частности, при введении в полимерные матрицы фотохромных соединений импрегнированный полимер может не терять фотохромные свойства (при введении ИСО в ПММА, ПЭ) или приобретать необратимо зафиксированную окраску. Правда, в ряде случаев такие полимеры приобретают люминесцентные свойства.
Количество вводимых в полимеры фотохромов (в совокупности для всех форм фотохрома) линейно возрастало с повышением температуры сверхкритического СO2 в исследуемом диапазоне температур от 60 до 90 °C для всех пар полимер–фотохром. При этом содержание в полимерной матрице введенных спирооксазинов оказывалось зависимым как от типа фотохрома, так и от типа полимерной матрицы (табл. 4–8). В частности, количество введенного САО в ПК возрастало почти в 10 раз, а в ПММА – в 3 раза при увеличении температуры от 60 до 90 °C. Количество вводимого в полимерную матрицу фотохрома линейно возрастало с повышением давления сверхкритического СО2, определяющего плотность СO2 и растворяющую способность среды. Например, количество САО, введенного в пленку ПК, возрастало в 6 раз при увеличении давления от 15 до 22 МПа.
Таблица 8. Концентрации ИСО, введенных в образец ПЭ толщиной 0.5 мм в условиях сверхкритического СО2, время обесцвечивания окрашенной формы и положения λA, λВ и λВx максимумов полос поглощения форм А, В и Вх соответственно
ИСО | [ИСО]макс × 107 моль/см2 | τ0.5,* с | λA, нм | λВ, нм | λВx, нм |
СНО | 5.7 | < 1 | 234, 316, 346 | – | – |
САО | 2.7 | < 1 | 364, 403 | – | – |
СФО | 5.33 | < 1 | 376 | 571 | – |
СНО-1 | 1,9 | < 1 | 364 | – | – |
* Из-за большой скорости темнового обесцвечивания константы скорости k1 и k2 определить не удалось.
Количество ИСО, которое удавалось ввести в полимер методом импрегнации в сверхкритическом СО2, наряду с растворимостью соединений в сверхкритической среде определялось размерами молекул фотохромов, а также “физическим” (высокоэластическое или стеклообразное) состоянием полимерной матрицы. В частности, при проведении импрегнации в среде сверхкритического СО2 количество введенных (в одних и тех же условиях) спирооксазинов в матрицу ПК изменялось в ряду [СНО-1] < [САО] ~ [CФО] < [СНО-2] < < [СБП] < [СНО]. В такой же последовательности уменьшаются размеры молекул спиросоединений. Аналогичные закономерности наблюдались и при импрегнации других полимерных матриц. При этом полимеры при температурах выше температура стеклования, а также полимеры, имеющие небольшую степень кристалличности (до 20%; Ф42, ПВХ, ПЭНП), модифицировались эффективнее, чем стеклообразные ПК и ПММА.
Используя среду сверхкритического СО2, можно получать люминофорные материалы на основе редкоземельных элементов путем введения в термопластичные полимеры, набухающие в этой среде, оксидов редкоземельных элементов, плохо растворимые в воде и органических растворителях, но хорошо растворимых в сверхкритическом диоксиде углерода. В частности, была осуществлена импрегнация термопластичных полимеров ацетилацетонатом неодима (III) в среде сверхкритического диоксида углерода и получены люминофорные полимеры, проявляющие люминесценцию в синей области спектра [115]. В среде сверхкритического СО2 в матрицах полимеров (олигоуретанметакрилат, фторопласт, поликарбонат) синтезированы также разнолигандные люминофорные комплексы ацетилацетоната неодима с фенантролином, в которых роль одного из лигандов играют фрагменты полимерной матрицы [116]. Кроме того, впервые в среде сверхкритического диоксида углерода получены люминесцентные аэрогели на основе альгината натрия, сшитые ионами редкоземельных элементов (Eu3+, Tb3+, Sm3+) и содержащие в качестве лигандов фенантролин, теноилтрифторацетон, дибензоилметан, ацетилацетонат, введенные в матрицу при импрегнации альгинатных аэрогелей [117]. Используемый способ импрегнации позволил вводить органорастворимые сенсибилизирующие лиганды в полисахаридные матрицы с сохранением пористой структуры аэрогеля. Показано, что при введении этих компонентов в полимеры из раствора подобные люминофорные разнолигандные комплексы неодима не образуются.
ИМПРЕГНАЦИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ В СРЕДЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО СО2
Создание эффективных лекарственных препаратов, обладающих минимальным побочным действием, – актуальная проблема современной фармации. Одним из путей решения этой проблемы является разработка лекарственных препаратов с контролируемым режимом высвобождения действующего вещества. В зависимости от способа введения пролонгированные формы относят к парентеральным лекарственным формам “депо” для инъекций и имплантаций и энтеральным формам “ретард”. Формы “ретард” так называемого матричного типа представляют собой полимерную матрицу, в которой распределено лекарственное вещество. Полимерные матричные системы занимают особое место среди современных лекарственных форм, так как они способны обеспечить заданный темп высвобождения лекарственных веществ в достаточно строгом диапазоне концентраций в крови. В качестве матриц при получении полимерных матричных систем обычно используют синтетические и природные полимеры, в том числе сополимеры этилен- и пропиленгликоля, полиметилметакрилат и его сополимеры, биосовместимые водорастворимые или гидролизуемые полимеры и их комплексы [118], биоразлагаемые гидрофобные полиангидриды и сложные полиэфиры, прежде всего полимеры молочной и гликолевой кислот и их сополимеры с аминокислотами [119]. Обычно биологически активное вещество вводят в полимерную матрицу либо из общего растворителя с последующим его испарением, либо при набухании полимера в растворе, содержащем действующее вещество [120]. Одним из направлений создания пролонгированных лекарственных форм является использование среды сверхкритического СО2 для импрегнации полимеров лекарственным веществом. Отсутствие заметной сольватации макромолекулярных цепей биодеградируемых полимеров в сверхкритическом СО2 способствует повышению скорости биоразложения полимерных матриц и позволяет контролировать процесс диффузии биологически активных веществ в физиологические среды.
В настоящем разделе представлены основные закономерности процесса импрегнации в среде сверхкритического СО2 биоразлагаемых полисахаридов (хитозан, сополимеры хитозана с лактидом и полилактидом) 2-гидроксилофином (2-(2-гидроксифенил) – 4,5-дифенил-1Н-имидазолом (гидроксилофин – ГДИ), модельным соединением из класса биологически активных триарилимидазолов, и кинетические особенности процесса его диффузии из полученных композиций в модельную водную среду с рН ~ 2, близкую по кислотности к желудочному соку [121–123]. Известно, что триарилимидазолы обладают нейропротекторной и противоопухолевой активностью [124].
В качестве биоразлагаемых полимеров использовали хитозан с молекулярной массой Mw ≈ 350 × 103 (Х-350) и низкомолекулярный хитозан (Х-50, Mw ≈ 50 × 103). Степень дезацетилирования хитозанов составляла ~75–95% [125]. Также были использованы органорастворимые N-ацилированные производные Х-50, получаемые его взаимодействием с 2,2-бис-(гидроксиметил)пропионовой кислотой – Х/Б; производные Х-50, получаемые взаимодействием с L,D-лактидом, с мольным соотношением компонентов 1 : 1 (Х/Л-1) и 1 : 3 (Х/Л-2) и привитые сополимеры низкомолекулярного хитозана с поли(L-лактидом) – Х/П [125]. Структура образцов и их основные характеристики приведены в табл. 9. Образцы полимеров формировали в виде оптически прозрачных пленок толщиной 50–100 мкм.
Таблица 9. Типы модифицированного хитозана, используемого для введения ГДИ
Матрица | Содержание хитозана в образце, мас. % | Степень ацетилирования аминогрупп хитозана |
Х/Л-1 | 53 | 0.41 |
Х/Л-2 | 27 | 0.37 |
Х/Б | 55 | 0.18 |
Х/П | ~15 | – |
Примечание. Х – хитозан, Л – лактид, Б – 2,2-бис-(гидроксиметил)пропионовая кислота, П – поли(L-лактид).
Температуру импрегнации варьировали от 50 до 90 °С, давление – от 8 до 14 МПа, время процесса составляло 30 мин.
Поскольку исходный хитозан, являющийся катионным полимером, не набухает в сверхкритическом СО2, введение ГДИ в полисахарид проводили в присутствии 0.15–3.0 об.% воды, что соответствует мольным концентрациям воды в СКФ-реакторе от 0.09 до 1.86 моль/л.
Было показано, что максимальное содержание ГДИ в пленке хитозана достигается при содержании воды в реакторе ~5 × 10–3 г/см3. При увеличении содержания воды в реакторе выше 5 × 10–3 г /см3 количество ГДИ в пленке полимера уменьшается (рис. 9).
Рис. 9. Концентрация воды в пленке хитозана, импрегнированной в сверхкритическом СО2, (1) и растворимость ГДИ в сверхкритическом СО2 (2) в зависимости от содержания воды в реакторе. Условия проведения СКФ-процесса: 70 °С, 10 МПа, 30 мин.
На рис. 9 видно, что с повышением содержания воды в реакторе степень набухания полимера в сверхкритическом СО2 растет до ~ 15% (кривая 1), что способствует диффузии молекул ГДИ, растворенных в среде сверхкритического СО2, в пленку полимера. При этом растворимость гидрофобного ГДИ в образующейся двухфазной системе сверхкритический СО2–Н2О резко (в ~4 раза) уменьшается. Таким образом, существует оптимальное содержание воды в реакторе (~5 × 10–3 г /см3), при котором наблюдается необходимое набухание матрицы и достаточная растворимость ГДИ. Именно такое содержание воды обеспечивает введение в немодифицированный хитозан максимально возможной концентрации ГДИ.
Для повышения степени набухания хитозановой матрицы в сверхкритическом СО2 и увеличения содержания ГДИ в матрице использовали более гидрофобные производные хитозана (табл. 9). На рис. 10 приведена диаграмма, отражающая содержание введенного гидроксилофина в модифицированных хитозанах и в исходном полисахариде.
Рис. 10. Содержание ГДИ в пленках хитозана (толщиной 0.08–0.12 мм) и его модифицированных аналогов. ГДИ вводили в хитозан в присутствии воды (концентрация 5 × 10–3 г/см3) при давлении 10 Мпа и температуре 70 °С. Время импрегнации 30 мин.
Из рисунка следует, что введение гидрофобного ГДИ в среде сверхкритического СО2 в немодифицированный гидрофильный хитозан в присутствии воды оказалось более эффективным, чем его ведение в гидрофобные хорошо набухающие в сверхкритическом СО2 лактидные производные хитозана и сополимер хитозана с полилактидом. Вероятно, такая закономерность связана с более эффективным протеканием процесса СКФ-импрегнации хитозана гидроксилофином на границе двух интенсивно смешивающихся фаз сверхкритический СО2–водный раствор углекислоты. При этом, судя по спектральным данным, в среде сверхкритического СО2 между молекулами гидроксилофина и фрагментами хитозана возникают межмолекулярные связи, о чем свидетельствуют спектры люминесценции и электронные спектры поглощения кислых водных растворов, содержащих растворенный импрегнированный молекулами ГДИ хитозан (рис. 11, 12).
Рис. 11. Спектры люминесценции ГДИ в хлороформе (1), в матрице немодифицированного хитозана, импрегнированного в среде сверхкритического СО2 в присутствии воды (2), и после растворения образца хитозана, импрегнированного ГДИ в сверхкритическом СО2, в солянокислом буферном растворе (3). Цифры у спектров – точные положения максимумов и соответствующие им интенсивности люминесценции.
Рис. 12. Электронные спектры поглощения ГДИ в хлороформе (1), в матрице немодифицированного хитозана, импрегнированного в среде сверхкритического СО2 в присутствии воды (2), и после растворения образца хитозана, импрегнированного ГДИ в сверхкритическом СО2, в солянокислом буферном растворе (3). Цифры у спектров – точные положения максимумов и оптическая плотность полос поглощения.
Как следует из рис. 11, полоса люминесценции ГДИ претерпевает гипсохромный сдвиг в матрице хитозана (кривая 2) и после растворения пленки хитозана с ГДИ в кислой среде (кривая 3) по сравнению с полосой раствора ГДИ в хлороформе (кривая 1). Обычно гипсохромный сдвиг полосы люминесценции красителей и люминофоров связывают с распадом ассоциатов молекул, например, при уменьшении концентрации вещества в растворе [126]. Можно полагать, что наблюдаемые изменения люминесценции ГДИ в пленке хитозана и в солянокислом буфере также свидетельствуют о распаде ассоциатов молекул ГДИ при абсорбции в пленке хитозана и последующем растворении комплексов хитозан–ГДИ в водной фазе (рис. 11, 12).
Кроме того, для триарилимидазолов, содержащих гидроксильные группы, в апротонных растворителях наблюдается внутримолекулярный перенос протона ОН-группы в возбужденном состоянии молекулы к атому азота гетероцикла, сопровождающийся значительным батохромным сдвигом полосы фотолюминесценции [127]. Отсутствие такого сдвига (и наличие гипсохромного сдвига полосы люминесценции) в спектре гидроксилофина, введенного в матрицу хитозана и в подкисленном водном растворе хитозана, содержащего ГДИ, свидетельствует об отсутствии свободных гидроксильных групп в молекуле ГДИ, т.е. о взаимодействии ОН-групп ГДИ с фрагментами молекулы хитозана. Отметим, что в спектрах люминесценции ГДИ в пленках модифицированного хитозана и в кислых водных растворах данных пленок наблюдались те же закономерности, что и в случае немодифицированного хитозана.
Интересно, что содержание ГДИ в матрице немодифицированного хитозана практически не зависит от молекулярной массы полимера. При этом для всех типов матриц хитозана максимальное содержание ГДИ в полимерах наблюдалось при температуре импрегнации около 70 °С. Содержание вводимого в полимер в среде сверхкритического СО2 соединения обычно зависит от нескольких факторов: растворимости вещества в сверхкритическом СО2 (возрастающей по мере повышения температуры), степени набухания полимера и соотношения прямой (т.е. из раствора – в пленку полимера) и обратной диффузии (из пленки полимера в раствор) молекул вещества (в данном случае – ГДИ) [128]. При повышении температуры растет как скорость диффузии ГДИ в пленку, так и скорость его диффузии обратно в среду сверхкритического СО2. Вероятно, при увеличении температуры СКФ-импрегнации выше 70 °С скорость диффузии ГДИ из пленок полимеров выше, чем скорость импрегнации, определяемая степенью набухания хитозана, зависящей от температуры и содержания воды в реакторе.
Обнаружено, что около 70% импрегнированного ГДИ высокомолекулярного немодифицированного хитозана Х-350 растворяется в солянокислом буфере примерно за 60 мин. Полное же растворение импрегнированной ГДИ пленки хитозана и переход ГДИ в водную фазу длится около 48 ч вне зависимости от молекулярной массы полисахарида.
Пленки хитозана, модифицированного полилактидом (Х/П), содержащие ГДИ, введеный в среде сверхкритического СО2, практически не растворялись в солянокислом буфере, причем в растворе наблюдались лишь следовые количества ГДИ. В то же время импрегнированные гидроксилофином пленки хитозана, модифицированного лактидом (Х/Л-2) и 2,2-бис-(гидроксиметил)пропионовой кислотой (Х/Б), растворялись в солянокислом буфере приблизительно за 5 мин с полным выходом ГДИ в водную фазу.
Таким образом, для создания пролонгированных лекарственных форм для органорастворимых арилимидазолов (перспективных противоопухолевых препаратов) в качестве биоразлагаемой полимерной матрицы может быть использован хитозан, импрегнируемый арилимидазолами в среде сверхкритического СО2 в присутствии малых количеств воды, служащей сорастворителем, необходимым для набухания хитозана. Хитозан может быть импрегнирован в сверхкритическом СО2 молекулами арилимидазолами и в отсутствие воды, если он предварительно модифицирован гидрофобными соединениями, способствующими его набуханию в этой среде, например мономерами и полимерами гидроксикарбоновых кислот. Установлено, что гидрофобные арилимидазолы выходят из матриц хитозана в водный раствор в связанном с фрагментами гидрофильной матрицы (хитозана) виде, о чем свидетельствует интенсивная люминесценция водных растворов арилимидазолов, перешедших из матриц на основе хитозана в водную среду. Тем самым импрегнированные в сверхкритическом СО2 арилимидазолами матричные системы на основе хитозана могут быть использованы для создания пролонгированных желудочно-растворимых лекарственных форм.
ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ И ГРАФТ-СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ В СРЕДЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО СО2
Химическая модификация полимеров, в том числе полимеризация и графт-сополимеризация в СКФ является альтернативой полимеризационным методам, так как позволяет, используя мягкие условия процесса, избегать возможных побочных реакций. Реакции полимеризации в среде сверхкритического CO2 демонстрируют быструю конверсию мономера и высокую молекулярную массу полученных полимеров.
В среде сверхкритического CO2 возможно также проведение полимеризации мономера в присутствии пластифицированного полимера (создание взаимопроникающей полимерной сетки) или модификация полимера полимеризационно-способными олигомерными группировками с последующей их фото- или термополимеризацией. В отличие от обычных технологий синтеза высокомолекулярных соединений, требующих масштабного применения летучих органических растворителей, иногда до 50 мас. % от суммарной массы исходных реагентов [129], а иногда, как в случае производства полибутадиена, до 80 мас. % [130], в среде сверхкритического СО2 такие растворители применяют редко и только в ограниченных количествах как сорастворители. В традиционных же технологиях летучие органические растворители используются в качестве среды для проведения полимеризации, являются пластификаторами высокомолекулярных соединений. Благодаря низкой температуре кипения они легко выводятся из готовых полимеров. Основные проблемы, возникающие при проведении полимеризации (или модификации полимера) без применения летучих органических растворителей в традиционных процессах, – уменьшение скорости диффузии мономеров, а также повышение вязкости с ростом молекулярной массы полимера, например, при полимеризации в расплаве [131], снижать которую можно только дальнейшим повышением температуры. В этой связи исследуются новые “зеленые” подходы в процессах модификации и синтеза полимеров, позволяющие снизить выбросы летучих органических растворителей в атмосферу, наиболее перспективными из которых является использование ионных жидкостей и сверхкритических флюидов.
Методики, основанные на СКФ-технологиях, во многих случаях более эффективны прежде всего с экономической точки зрения, поскольку ионные жидкости весьма дороги. Сверхкритический диоксид углерода в свою очередь, являясь хорошим растворителем для широкого класса различных мономеров и низкомолекулярных олигомеров, может эффективно понижать вязкость исходных высокомолекулярных систем, снижая энергетические затраты. Например, добавление 30 мас. % диоксида углерода высокого давления к полидиметилсилоксану снижает его вязкость более чем в 2 раза [132]. Кроме того, как уже говорилось, диоксид углерода легко и практически полностью удаляется из полученных полимеров после завершения процесса, не влияя на их физико-химические свойства и облегчая последующую обработку и функционализацию полученных продуктов. Помимо этого, использование сверхкритического СО2 позволяет выводить из матрицы недополимеризованные фрагменты полимера, инициатор и остатки мономера, делая готовый полимер более однородным.
В настоящее время для получения полимеров применяют три основных типа процессов, протекающих по свободнорадикальной механизму: эмульсионная, суспензионная и дисперсионная полимеризации. При эмульсионной полимеризации реакционная смесь изначально гетерогенна из-за низкой растворимости исходного мономера в реакционной среде. Эмульсионную полимеризацию обычно используют для получения полимеров на основе акриловых или стирольных мономеров, диспергированных в водной среде, содержащей водорастворимый инициатор (например, персульфат натрия). В процессах суспензионной полимеризации ни инициатор, ни мономер, ни получающийся в итоге полимер обычно не растворимы в реакционной среде, которая играет лишь роль диспергирующего агента и термостата [133]. Дисперсионная полимеризация, как правило, начинается с растворения и гомогенного перемешивания инициатора, мономера и ПАВ. С ростом молекулярной цепи олигомер достигает критической массы и перестает быть растворимым в среде. При этом происходит разделение фаз, и ПАВ либо абсорбируется на поверхности образующихся микрочастиц полимера, либо химически связывается с ними, препятствуя их агломерации [134]. Для среды сверхкритического СО2 самое широкое применение нашла именно дисперсионная полимеризация, благодаря возможности значительно регулировать растворяющую способность среды. Ранее в среде сверхкритического СО2 были получены порошки полиметилметакрилата [135], поли-2-гидроксиметил метакрилата [136], полистирола [137], поливинилфторида [138, 139] и других полимеров. Практически во всех работах для предотвращения агломерации частиц полимеров и регулирования их размеров используются различные ПАВ. Стоит отметить, что главное условие эффективного применения ПАВ для получения полимерных частиц – высокая растворимость в среде сверхкритического СО2. Наиболее широко используют полимеры силоксановой группы [140, 141], ПАВ на основе полиэтиленгликоля [142] и т.д. Так, в работе [143] представлены результаты исследования полимеризации метилметакрилата в пластифицированной матрице сверхвысокомолекулярного ПЭ в условиях сверхкритического СО2. При исследовании методом АСМ структуры полученного нанокомпозита с массовым отношением сверхвысокомолекулярного ПЭ и ПММА, равным 53 : 47, была выявлена трехфазная система, формируемая кристаллической и аморфными фазами сверхвысокомолекулярного ПЭ и фазой ПММА. Последнее было обнаружено по специфике “фазового контраста” для каждой из указанных фаз. Характерные размеры фазово-сегрегированных доменов ПММА изменялись от 10 до 100 нм. Стабильное диспергирование в сверхкритическом CO2 достигается при использовании сополимеров с СО2-фильной и СО2-фобной группами. Каждая дисперсионная ячейка является, по существу, нанореактором, в котором происходит полимеризация. В работе [144] этим методом получали сферические наночастицы ароматических поликарбонатов диаметром от 30 до 140 нм в зависимости от параметров процесса.
В работах [145, 146] в среде сверхкритического диоксида углерода осуществлена модификация полилактида с помощью реакции уретанообразования с получением метакрилатных производных полилактида. Показано, что реакцию можно осуществлять в одну или две стадии [146]. Фотополимеризацией модифицированных полилактидов получены материалы с пространственно-сшитой структурой, пригодные для формирования имплантатов. Установлено, что проведение реакции в две стадии повышает выход метакрилированного полилактида. Физико-механические характеристики сшитых композиций варьировались в зависимости от количества сшивающего агента. Биологические испытания показали нетоксичность полученных сшитых материалов.
СВЕРХКРИТИЧЕСКИЙ СО2 КАК СРЕДА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАСОВАННЫХ ИЛИ КОНЦЕРТНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ МОДИФИКАЦИИ ПОЛИМЕРОВ
Новые возможности использования среды сверхкритического СО2 связаны с иммобилизацией функционально активных органических соединений в полимерных матрицах при реализации механизмов так называемых согласованных или концертных активационных химических процессов при такой импрегнации полимеров [147–150]. Механизм таких процессов связан с формированием единого многоцентрового переходного состояния, включающего группу атомов реагентов, в котором последующий разрыв химических связей и образование новых химических связей начинаются одновременно и происходят согласованно. Интерес к концертным процессам здесь обусловлен еще и тем, что на их примере удобно рассмотреть принципиально важный феномен, который до сих пор широко не обсуждался в химической литературе. Речь идет о феномене “запутанности” (entanglement, как определил его Шредингер), введенном вначале как дискуссионный образ в связи со статьей [151]. Авторы этой статьи, обсуждая проблему логической полноты квантовой механики, ставили вопрос, насколько фиксация измерительным прибором состояния одной их двух образующихся и свободно разлетающихся частиц, первоначально представляющих единую систему и находящихся в “запутанном”, четко определенном (по поляризации, по проекции спина) состоянии, однозначно приводит к согласованному изменению волновой функции второй частицы, находящейся от первой уже на макроскопическом расстоянии.
Как полагают авторы, обсуждение феномена “запутанности”, который, по-видимому, проявляется в динамике практически всех химических превращений, удобно проводить в рамках рассматриваемой проблемы согласованных или концертных активационных химических процессов, тем более что возможный пример такого согласованного процесса был представлен выше. Речь идет об импрегнировании матрицы поликарбоната фотохромным соединением – спироантрооксазином в среде сверхкритического СО2, которое сопровождается необратимой конформационной перестройкой исходно неплоской (типа “кресло”) структуры САО в мероцианиновой форме В и формированием зафиксированной в полимерной матрице устойчивой возбужденной формы оптически активных молекул САО [14]. Как было указано выше, при внедрении молекул САО в поликарбонат N-оксильные группы молекул САО локализуются в окрестности карбонильных фрагментов макромолекулярной цепи, тогда как антраценсодержащие фрагменты САО локализуется вблизи бисфенольных группировок соседней полимерной цепи. В результате формируются слабо связанные комплексы САО с фрагментами цепей ПК, в которых неравновесная плоская конформация В-формы САО, содержащая дипольный фрагмент [109], отличается от равновесной неплоской конформации этих молекул в растворе. И именно в среде сверхкритического СО2, когда реализуются слабые взаимосвязи среды с парами реагирующих компонентов, создаются условия для эффективной изолированности (локализации в “клетке”) таких потенциально активных пар партнеров. И именно такие условия необходимы для реализации концертных реакций с активационным формированием единого переходного состояния, в котором последующий разрыв химических связей в группе связанных атомов и образование новых химических связей происходят согласованно и одновременно, причем при более низкой энергии активации, чем при ступенчатом, постадийном протекании такой же реакции. Как было пояснено выше, поскольку при декомпрессии образцов СО2 уходит из объема полимера за короткое время, структурно неравновесная конформация части комплексов САО в окружении фрагментов ПК оказывается “замороженной”.
Можно полагать, что такого типа структурным перестройкам при введении молекул САО в ПК путем совместного растворения фотохрома и полимера (например, в хлороформе) препятствуют водородные связи между молекулами САО, и такие процессы не реализуются. В среде сверхкритического СО2 удельное (приходящееся на одну молекулу САО) число водородных связей уменьшается, как это имеет место в сверхкритической Н2О [152], и молекулы САО оказываются преимущественно окруженными фрагментами ПК. Тем самым создаются условия для одновременной концертной перестройки химических связей в молекуле САО, если присутствуют сторонние факторы, инициирующие такие перестройки.
Сам по себе феномен концертности в квантовых подсистемах, одновременного и согласованного изменения химических связей в сложной многоцентровой циклической системе, соответствующей переходному состоянию с высокой степенью коррелированности, требует дополнительных пояснений. Мы полагаем, что процесс активируемого образования единого многоцентрового переходного состояния, с формированием которого связывается концертный механизм химических процессов, завершается перестройкой электронных подсистем атомов в единую электронную систему “запутанных” состояний квантовых подсистем. В таком конфигурационном состоянии фрагментов активных центров – молекулы САО и полимерной матрицы, расстояния между которыми составляет, по-видимому, несколько нанометров, реализуются процессы электронного обмена, но пока эквивалентного. Волновая функция такой системы с эквивалентным электронным обменом уже не распадается на произведение волновых функций, соответствующих определенным индивидуальным состояниям внедряемой молекулы САО и окружающих ее фрагментов полимерной матрицы, как это характерно для волновой функции системы с “запутанными” электронными состояниями. И именно с завершением относительно длительного формирования такой “запутанной” квантово-механической системы, при котором потенциально реагирующие фрагменты активных центров “найдут” друг друга, связывается начало необратимых процессов, охватывающих в разной степени все участвующие в концертном превращении реагенты. Очевидно, что именно вследствие такой стадии длительного “подбора” нужной ориентации фрагментов сложной органической молекулы, внедряемой в полимер, исключается реализация постадийного протекания иммобилизации молекулы САО в ПК, требующая значительно больших энергий активации.
При последующих стадиях сближения двух центров, потенциально активных в процессах взаимной отдачи–принятия электрона (процессы электронного обмена или окисления–восстановления), до расстояний порядка нанометра начинают формироваться либо “повязанная пара” (ковалентная связь), либо частичный перенос электронной плотности (координационная связь), либо полный перенос электрона (ионная связь).
В заключение кратко рассмотрим феномен “квантовой запутанности”, который, как указывалось выше, пока широко не обсуждается в химической литературе. Этот феномен является одним из самых обсуждаемых в физической науке в последнее десятилетие, что отразилось в присуждении Нобелевской премии по физике в 2022 г. за его экспериментальное подтверждение в системе фотонов [153]. В экспериментах нобелевских лауреатов было однозначно подтверждено, что фиксация (измерение прибором) состояния одной их двух образующихся “свободных” частиц, первоначально представляющих единую систему и находящихся в “запутанном” (по поляризации, по проекции спина) состоянии, приводит к одновременному, практически мгновенному и согласованному изменению волновой функции второй частицы, как если бы скорость передачи информации о зафиксированном квантовом состоянии первой частицы была бесконечной. Тем самым был дан однозначный ответ на вопрос, поднятый в статье [151].
Такой феномен был фактически выявлен при экспериментальных исследованиях корреляционных взаимосвязей, сохраняющихся на макроскопических расстояниях, в парах совместно образующихся поляризованных фотонов. Конкретно, в работах [154, 155] анализировалось каскадное излучение (J = 0) → (J = 1) → (J = 0) при переходе атома Ca из возбужденного состояния 4p2 1S0 через промежуточное возбужденное состояние 4s4p 1P1 в исходное (до возбуждения) состояние 4s2 1S0 с испусканием коррелированных по линейной поляризации фотонов с длиной волны 551.3 и 422.7 нм. При этом использовались анализаторы, которые переключались с частотой выше c/L, где c – скорость света, L – расстояние от поляризатора до источника, но существенных изменений в жестко фиксируемых корреляционных зависимостях не наблюдалось при независимых изменениях расстояний до 6.5 м и ориентации поляризаторов во всем диапазоне 360°. Такие данные убедительно показали, что информация о проводимых измерениях не может передана никакими мыслимыми сигналами от одного анализатора к другому. Так что оба линейно поляризованных фотона составляли единую, “повязанную” систему с противоположно ориентированными направлениями полного квантово-механического момента в соответствии с квантовой механикой.
Феномен запутанности был установлен и в экспериментах с “запутанными” электронными спинами, в частности связанными с азотно-вакансионными центрами (NV) в алмазе, разделенными расстоянием в 1.3 км [156]. Но при этом возникают естественные вопросы. Прежде всего остается неясным, какова физическая природа взаимосвязи “запутанных” частиц и в чем состоят причины длительного сохранения корреляций исходно запутанных частиц при их разлете на большие расстояния?
Физическая сущность феномена “запутанности” может быть понята, согласно работе [157], при введении представлений о казимировской поляризации вакуума электромагнитного поля в окрестности материальных объектов, конкретно электронов и атомных ядер. Характерные размеры области такой поляризации, формируемой виртуальными фотонами вакуума электромагнитного поля в окрестности электрона, составляет aVe = 21/2 /mec = 5.2 × 10–11 см, где me – масса электрона, и c – постоянная Планка и скорость света в вакууме. Эта величина может быть принята за “казимировский размер электрона”, рассматриваемого в этом случае фактически как полярон электромагнитного поля. Область казимировской поляризации в окрестности протона как полярона электромагнитного поля оказывается равной aVp = 2.82 × 10 –14 см, т.е. соответствует масштабу действия ядерных сил. Введение таких представлений позволяет снять все возникающие вопросы, если принять, что феномен “запутанности” следует связывать с перекрытием областей казимировской поляризации двух или более частиц, поскольку дальнодействующий казимировский потенциал [157] определяет притяжение рассматриваемых частиц. Правда, в этом случае для характеристики указанных выше проявлений рассматриваемого феномена [153–156] оказывается более адекватным использовать введенный Кадомцевым [158] термин “квантовая повязанность” (“quantum co-tieing” [157]). В дальнейшем мы будем использовать этот термин, поскольку термин “запутанность” не несет никакого смыслового содержания применительно к “привязанным друг к другу” системам.
Естественно, что рассматриваемая корреляция исходно “повязанных” частиц должна нарушаться, когда вторая частица окажется в области более сильного “казимировского” воздействия со стороны какой-либо третьей частицы. Что же касается возможной протяженности взаимосвязанности казимировских областей множества частиц, то расстояния, на которых такие взаимосвязи проявляются, как показано в работах [154–156], могут достигать макроскопических масштабов. Из количественных оценок возникающей энергии связи, меры (степени) “квантовой повязанности” или просто повязанности состояния частиц, проведенных в работе [157], следует, что в электронных подсистемах кулоновское отталкивание практически не должно препятствовать формированию устойчивых объединенных систем не только двух, но и большего числа “повязанных” электронов. Относительная доля энергии кулоновского отталкивания двух электронов в этом случае характеризуется постоянной тонкой структуры ae = e2/ c = 1/137.
Очевидно, что по мере увеличения числа Z “повязанных” электронов в объединенных электронных системах, в частности в электронных подсистемах атома, устойчивость таких образований должна уменьшаться из-за возрастания эффектов кулоновского отталкивания. Согласно работе [157], максимальное число NZ электронов в ассоциатах может достигать величины NZ ≈ √2 c/e2 ~ 190. Поэтому естественно полагать, что именно казимировская поляризация электронных подсистем атома каждого элемента в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева определяет устойчивость атома, несмотря на кулоновское расталкивание электронов при высокой степени компактности электронных подсистем многоэлектронных атомов. На последнее указывает относительно небольшое возрастание размеров атома – от атома водорода (~0.05 нм) до атомов, количество электронов у которых превышает сотню (~0.15 нм). Не исключено, что казимировские эффекты проявляют себя и при образовании σ- и π-связей в химических соединениях и определяют устойчивость куперовских электронных пар в процессах сверхпроводимости.
Отметим также, что на устойчивость многоэлектронных систем ранее обращалось внимание [159] в связи c явлением образования заряженных электронных кластеров с высокой плотностью заряда в квантовых точках [160], а также с формированием высокоплотных по электронам токовых нитей в силовых приборах микроэлектроники при инициировании микродуговых разрядных процессов [161]. Хорошо известно, что именно феномен “повязанности” и возможность представлять волновую функцию квантовой частицы со спином ½ в виде, соответствующем суперпозиции двух состояний с разными проекциями спина, стали основой для введения q-бита (англ. qubit) – наименьшего элемента для хранения информации в квантовом компьютере и забита (англ. e-bit) – квантового бита запутанного состояния [158]. Недавно была экспериментально доказана [162, 163] возможность существования в условиях нелокальности взаимодействия “повязанной” системы трех квантовых состояний (q-трит). Можно полагать, что локальная перестройка электронных подсистем, в которых проявляются эффекты “повязанности”, происходит в каждом химическом процессе, происходящем в том числе и в среде сверхкритического СО2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в последние годы СКФ-подходы к формированию твердофазных функциональных композиционных систем начинают активно применяться для получения полимерных материалов с новыми функциональными свойствами как при химической модификации полимеров, так и путем введения в полимеры растворимых (и не растворимых) в среде сверхкритического СО2 наполнителей. Уникальное сочетание свойств сверхкритического СО2 (настраиваемая плотность, хорошая растворяющая способность для многих органических и неорганических соединений, ничтожное поверхностное натяжение, сродство к полимерам, обусловливающее пластификацию матриц различной природы, высокая проникающая способность, возможность полного удаления СО2 путем сброса давления) делают его эффективной средой для осуществления процессов формирования твердофазных композиционных функциональных материалов широкой направленности: катализ, медицина, фармация, оптоэлектроника.
По существу, формирование твердофазных композиционных функциональных материалов с использованием сверхкритического СО2 становится самостоятельным направлением современного материаловедения, которое стало активно развиваться в последнее десятилетие.
Работа выполнена в рамках Госзадания Федерального исследовательского центра химической физики Российской академии наук, тема № 122040400099-5 (1.8 Создание новых полимерных, гибридных и композиционных материалов и их модифицирование с целью широкого практического применения).
作者简介
А. Соловьева
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н.Семенова Российской академии наук
编辑信件的主要联系方式.
Email: ann.solovieva@gmail.com
俄罗斯联邦, 119991 Москва, ул. Косыгина, 4
П. Тимашев
Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н.Семенова Российской академии наук; Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова; Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Email: ann.solovieva@gmail.com
Институт регенеративной медицины, Химический факультет
俄罗斯联邦, 119991 Москва, ул. Косыгина, 4; 119991 Москва, ул. Трубецкая, 8; 119991 Москва, Ленинские горы, 1参考
- Zimmennann L., Weibel M., Caseri W., Suter U.W. // J. Mater. Res. 1993. V. 8. № 7. P. 1742.
- Carotenuto G. // Polymer News (USA). 2000. V. 25. № 6. P. 191.
- Чвалун С. // Тр. Cедьмой сессии физико-химической и инженерной науки в области наноматериалов. 2002. Т. 2. № С. 159.
- Koen Binnemans // Chem.Rev. 2009. V. 109. P. 4283.
- Топчиев Д.А., Попова Н.И. // Рос. хим. журн. 1993. Т. 37. № 4. С. 119.
- Carla Raquel Fontana , David Sotero dos Santos Jr, Joseane Maria Bosco, Denise M Spolidorio, Rosemary Adriana Chiérici Marcantonio// Drug. Deliv. 2008. V. 15. № 7. P. 417.
- Ling Q.D. K.E.T., Neoh K.G. // Macromolecules. 2003. V. 36. P. 6995.
- Lenaerts P. D.K., Deun R.V., Binnemans K // Chem. Mater. 2005. V. 17. P. 2148.
- Локшин В. С.А., Метелица А.В. // Успехи химии. 2002. Т. 71. № 11. С. 1015.
- Tate S., Narusawa H. // Polymer. 1996. V. 37. № 9. P. 1583.
- Zhiyong Tang Y.W., Paul Podsiadlo, Nicholas A. Kotov. // Adv. Mater. 2006. V. 18. P. 3203.
- Alekseev E.S., Alentiev A.Yu., Belova A.S., Bogdan V.I., Bogdan T.V., Bystrova A.V., Gafarova E.R., Golubeva E.N., Grebenik E.A., Gromov O.I., Davankov V.A., Zlotin S.G., Kiselev M.G., Koklin A.E., Kononevich Yu.N., Lazhko A.E., Lunin V.V., Lyubimov S.E., Martyanov O.N., Mishanin I.I., Muzafarov A.M., Nesterov N.S., Nikolaev A.Yu., Oparin R.D., Parenago O.O., Parenago O.P., Pokusaeva Ya.A., Ronova I.A., Solovieva A.B., Temnikov M.N., Timashev P.S., Turova O.V., Filatova E.V., Philippov A.A., Chibiryaev A.M., Shalygin A.S. // Russ. Chem. Rev. 2020. V. 89. № 12. P. 1337.
- Fried L.E., Howard W.M. // J. Chem. Phys. 1998. V. 109. № 17. P. 7338.
- Тимашев С.Ф., Соловьева А.Б., Буслаева Е.Ю., Губин С.П. //Журн. физ. химии. 2013. Т. 87. № 1. С. 126.
- Sarbu T., Styranec T., Beckman E.J. // Nature. 2000. V. 405. № 6783. P. 165.
- Brunner G. // J. Food Eng. 2005. V. 67. № 1. P. 21.
- Ueda T., Kurokawa K., Eguchi T., Kachi-Terajima C., Takamizawa S. // J. Phys. Chem. C. 2007. V. 111. № 3. P. 1524.
- Анисимов М.А. Критические явления в жидкостях и жидких кристаллах. М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987.
- Huang Z., Guo Y.-h., Miao H., Teng L.-j. // Powder Technol. 2014. V. 258. P.66.
- Phillips E.M., Stella V.J. // Int. J. Pharmaceut. 1993. V. 94. № 1. P. 1.
- York P. // Pharmaceut. Sci. Technol. Today. 1999. V. 2. № 11. P. 430.
- Gallagher P., Coffey M., Krukonis V., Klasutis N. // ACS Symp. Ser. 1989. V. 406. Ch. 22. P. 334.
- Pat. 4451654. USA. F. Graser, G. Wickenhaeuser. Conditioning of finely divided crude organic pigments. 1982.
- Kazarian S. // Polymer Science C. 2000. V. 42. № 1. P. 78.
- Pasquali I., Andanson J.-M., Kazarian S.G., Bettini R. // J. Supercrit. Fluids. 2008. V. 45. № 3. P. 384.
- Pasquali I., Comi L., Pucciarelli F., Bettini R. // Int. J. Pharmaceut. 2008. V. 356. № 1. P. 76.
- Pasquali I., Bettini R. // Int. J. Pharmaceut. 2008. V. 364. № 2. P. 176.
- Reverchon E. // Industr. Eng. Chem. Res. 2002. V. 41. № 10. P. 2405.
- Reverchon E., Spada A. // Industr. Eng. Chem. Res. 2004. V. 43. № 6. P. 1460.
- Reetz M.T., Helbig W. // J. Am. Chem. Soc. 1994. V. 116. № 16. P. 7401.
- Cansell F., Chevalier B., Demourgues A., Etourneau J., Even C., Pessey V., Petit S., Tressaud A., Weill F. // J. Mater. Chem. 1999. V. 9. № 1. P. 67.
- Desmoulins-Krawiec S., Aymonier C., Loppinet-Serani A., Weill F., Gorsse S., Etourneau J., Cansell F. // J. Mater. Chem. 2004. V. 14. № 2. P. 228.
- Holmes J.D., Ziegler K.J., Doty R.C., Pell L.E., Johnston K.P., Korgel B.A. // J. Am. Chem. Soc. 2001. V. 123. № 16. P. 3743.
- Lu X., Ziegler K.J., Ghezelbash A., Johnston K.P., Korgel B.A. // Nano Lett. 2004. V. 4. № 5. P. 969.
- Johnston K.P., Jacobson G.B., Ted Lee C., Meredith C., Da Rocha S.R., Yates M.Z., Degrazia J., Randolph T.W. // Chem. Synth. Using Supercrit. Fluids. 1999. V. P. 127.
- Zhang J., Han B., Liu J., Zhang X., Yang G., Zhao H. // J. Supercrit. Fluids. 2004. V. 30. № 1. P. 89.
- Kitchens C.L., Roberts C.B. // Industr. Eng. Chem. Res. 2004. V. 43. № 19. P. 6070.
- Ohde H., Rodriguez J.M., Ye X.-R., Wai C.M. // Chem. Commun. 2000. № 23. P. 2353.
- Reverchon E., Adami R. // J. Supercrit. Fluids. 2006. V. 37. № 1. P. 1.
- Murphy S.V., Atala A. // Nature Biotechnol. 2014. V. 32. № 8. P. 773.
- Tai H., Mather M.L., Howard D., Wang W., White L.J., Crowe J.A., Morgan S.P., Chandra A., Williams D.J., Howdle S.M. // Eur Cell Mater. 2007. V. 14. № P. 64.
- Чибиряев А.М. Сверхкритические флюиды для практической органической химии. http://web.nioch.nsc.ru/templates/purity_iii/files/edu/docs/5_2_chibiryaev_slides.pdf
- Taguchi A., Schüth F. // Micropor. Mesoporous Mater. 2005. V. 77. № 1. P. 1.
- Gaydamaka S. N., Timofeev V. V., Guryev Y. V., Lemenovskiy D. A., Brusova G. P. // Russ. J. Phys. Chem. B. 2010. V. 4. №8. P. 1217.
- Tenorio M., Pando C., Renuncio J., Stevens J., Bourne R., Poliakoff M., Cabañas A. // J. Supercrit. Fluids. 2012. V. 69. P. 21.
- Khudeev I.I., Lebedev A.E., Mochalova M.S., Menshutina N.V. // Drying Technol. 2024. P. 1.
- Pierre A.C., Pajonk G.M. // Chem. Rev. 2002. V. 102. P. 4243.
- Ai Du, Bin Zhou, Zhihua Zhang, Jun Shen // Materials. 2013. V. 6. P. 941.
- Solovieva A.B., Kopylov A.S., Savko M.A., Zarkhina T.S, Lovskaya D.D., Lebedev A.E., Menshutina N.V, Krivandin A.V., Shershnev I.V., Kotova S.L., Timashev P.S. // Scientific Rep. 2017. V. 7. P. 12640.
- Копылов А.С., Аксенова Н.А., Шершнев И.В., Тимофеева В.А., Савко М.А., Черкасова А.В., Зархина Т.С., Тимашев П.С., Соловьева А.Б. //Журн. физ.химии. 2023. Т. 97. № 12. С. 1748.
- Копылов А.С., Аксенова Н.А., Савко М.А., Шершнев И.В., Зархина Т.С., Кривандин А.В., Шаталова О.В., Черкасова А.В., Тимашев П.С., Соловьева А.Б. //Журн. физ. химии 2022. Т. 96. № 2. С. 302.
- Kuznetsova N.A., Kaliya O.L. // J. Porph. Phthal. 2012. V. 16. P. 705.
- Изаак Т., Бабкина О., Лапин И., Леонова Е., Магаев О., Данилов А., Князев А., Светличный В., Водянкина О., Мокроусов Г. // Нанотехника. 2006. № 8. С. 34.
- López C. // Adv. Mater. 2003. V. 15. № 20. P. 1679.
- Самойлович М., Клещева С., Белянин А., Житковский В., Цветков М. // Микросистемная техника. 2004. Т. № 6. С. 3.
- Cooper A.I. // J. Mater. Chem. 2000. V. 10. № 2. P. 207.
- Bagratashvili V., Bogomolova L., Gerasimova V., Jachkin V., Krasil’nikova N., Rybaltovskii A., Tsypina S. // J. Non-Crystalline Solids. 2004. V. 345. С. 256.
- Рыбалтовский А., Герасимова В., Богомолова Л., Жачкин В., Леменовский Д., Цыпина С., Баграташвили В. // Журн. прикл. спектроскопии. 2006. Т. 73. № 4. С. 447.
- Рыбалтовский А.О., Богомолова Л.Д., Жачкин В.А., Заворотный Ю.С., Леменовский Д.А. // Физика и химия стекла. 2006. Т. 34. № 6. С. 922.
- Самойлович М.И., Цветков М.Ю. // Нано- и микросистемная техника. 2006. Т. 10. С. 8.
- Kargin Y.F., Ivicheva S., Buslaeva E.Y., Kuvshinova T., Volodin V., Yurkov G.Y. // Inorganic materials. 2006. V. 42. № 5. P. 487.
- Peters R. The Physical Chemistry of Dyeing. Elsevier, 1975. С. 274.
- Wagner B., Kautz C.B., Schneider G.M. // Fluid Phase Equilibria. 1999. V. 158. P. 707.
- Haarhaus U., Swidersky P., Schneider G.M. // J. Supercrit. Fluids. 1995. V. 8. № 2. P. 100.
- Özcan A.S., Clifford A.A., Bartle K.D., Lewis D.M. // J. Chem. Eng. Data. 1997. V. 42. № 3. P. 590.
- West B.L., Kazarian S.G., Vincent M.F., Brantley N.H., Eckert C.A. // J. Appl. Polym. Sci. 1998. V. 69. № 5. P. 911.
- Barry S.E., Soane D.S. // Macromolecules. 1996. V. 29. № 10. P. 3565.
- Li-qiu Y., Shu-fen Z., Liang H., Wei M., Jin-zong Y. // Proc. 3rd Int. Conf. on Functional Molecules. Dalian, China, 2005.
- Sicardi S., Manna L., Banchero M. // J. Supercrit. Fluids. 2000. V. 17. № 2. P. 187.
- Сабирова А.Д., Билалов Т.Р. // Сверхкритические флюидные технологии. 2022. № 1. C. 26.
- Harrison M., Kershaw S., Burt M., Rogach A., Kornowski A., Eychmüller A., Weller H. // Pure Appl. Chem. 2000. V. 72. № 1–2. P. 295.
- Xu W.Z., Charpentier P.A. // J. Phys. Chem. C. 2009. V. 113. № 16. P. 6859.
- Ахметзянов Т., Хабриев И., Хайрутдинов В., Габитов Ф., Гумеров Ф. // Вестн. Казанского технол. ун-та. 2013. Т. 16. № 10. С. 59.
- Ebbesen T., Ajayan P. // Nature. 1992. V. 358. № 6383. P. 220.
- Ajayan P., Ebbesen T., Ichihashi T., Iijima S., Tanigaki K., Hiura H. // Nature. 1993. V. 362. № 6420. P. 522.
- Дышин, А.А. М.С. Кузьмиков, А.А. Алешонкова А.А., Бондаренко Г.В., Колкер А.М., Киселёв М.Г.//Сверхкритические флюиды: теория и практика. 2021. Т. 16. № 1. С. 3.
- Wescott J.T., Kung P., Maiti A. // Appl. Phys. Lett. 2007. V. 90. № 3. P. 033116.
- Tettey K.E., Yee M.Q., Lee D. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2010. V. 2. № 9. P. 2646.
- Mezghani K., Farooqui M., Furquan S., Atieh M. // Mater. Lett. 2011. V. 65. № 23. P. 3633.
- Badaire S., Poulin P., Maugey M., Zakri C. // Langmuir. 2004. V. 20. № 24. P. 10367.
- Yekyung Kim, Dipak Rana, Takeshi Matsuura // J. Membr. Sci. 2009. V. 338. № 1. P. 84.
- Liu Z., Dai X., Xu J., Han B., Zhang J., Wang Y., Huang Y., Yang G. // Carbon. 2004. V. 42. № 2. P. 458.
- Steinmetz J., Lee H.-J., Kwon S., Lee D.-S., Goze-Bac C., Abou-Hamad E., Kim H., Park Y.-W. // Current Appl. Phys. 2007. V. 7. № 1. P. 39.
- Yue B., Wang Y., Huang C.-Y., Pfeffer R., Iqbal Z. // J. Nanosci. Nanotechnol. 2007. V. 7. № 3. P. 994.
- Zerda A.S., Caskey T.C., Lesser A.J. // Macromolecules. 2003. V. 36. № 5. P. 1603
- Steinmetz J., Kwon S., Lee H.-J., Abou-Hamad E., Almairac R., Goze-Bac C., Kim H., Park Y.-W. // Chem. Phys. Lett. 2006. V. 431. № 1. P. 139.
- Zhang Q.-q., Lei S., Wang X., Wang L., Yu P., Chen Y., Zeng X., Chen L., Zhao W., Zu J. // Spectrosc. Spectral Analysis. 2004. V. 24. № 10. P. 1227.
- Ma J., Deng H., Petils T. // Macromol. Mater. Eng. 2010. V. 295. № 6. P. 566.
- Chen C., Bortner M., Quigley J.P., Baird D.G. // Polym. Compos. 2012. V. 33. № 6. P. 1033.
- Pourabdollah K., Moghaddam A.Z., Kharrat R., Mokhtari B. // Oil Gas Sci. Technol.–Revue d’IFP Energies nouvelles. 2011. V. 66. № 6. P. 1005.
- Yao H., You Z., Li L., Shi X., Goh S.W., Mills-Beale J., Wingard D. // Construct. Building Mater. 2012. V. 35. P. 159.
- O’Connell M.J., Bachilo S.M., Huffman C.B., Moore V.C., Strano M.S., Haroz E.H., Rialon K.L., Boul P.J., Noon W.H., Kittrell C. // Science. 2002. V. 297. № 5581. P. 593.
- Yang J.W., Hu J.H., Wang C.C., Qin Y.J., Guo Z.X. // Macromol. Mater. Eng. 2004. V. 289. P. 828.
- Avella M., Cosco S., Volpe G.D., Errico M.E. // Adv. Polym. Technol. 2005. V. 24. № 2. P. 132.
- Mielewski D.F., Lee E.C.-c., Manke C.W., Gulari E. Pat. 6,469,073 USA. 2002.
- Mielewski D.F., Lee E.C.-c., Manke C.W., Gulari E. Pat. 6,753,360 USA. 2004.
- Garcia-Leiner M., Lesser A.J. Polymer-clay nanocomposites prepared in supercritical carbon dioxide // ANTEC 2004. Proc. 62 Annual Technical Conference. Chicago, Illinois, 2004. P.1528.
- Baird D., Nguyen Q., Wilding M. Patent 20060252871A1 USA. 2006.
- Manitiu M., Horsch S., Gulari E., Kannan R.M. // Polymer. 2009. V. 50. № 15. P. 3786.
- Arnold G. // Zeitschrift Naturforschung B. 1966. B. 21. № 3. S. 291.
- Барачевский В.А., Герман И.Л., Цехомский В.А. Фотохромизм и его применение. М.: Химия, 1977.
- Such G.K., Evans R.A., Davis T.P. // Macromolecules. 2006. V. 39. № 4. P. 1391.
- Панова, Л.В., Леменовский Д.А., Афанасов М.И. // Сверхкритические флюиды: теория и практика. 2023. Т. 18. № 1. С. 38.
- Ratner J., Kahana N., Warshawsky A., Krongauz V. // Industr. Eng. Chem. Res. 1996. V. 35. № 4. P. 1307.
- Волошин Н.А., Метелица А.В., Мишо Ж.К., Волошина Е.Н., Безуглый С.О., Вдовенко А.В., Шелепин Н.Е., Минкин В.А. //Изв. РАН. Сер. хим. 2003. №5. С.1110.
- Bykova T.A., Lebedev B.V., Kir’yanov K.V., Smirnova N.N., Smirnova L.A., Kameneva O.V., Barachevskii V.A. // Polymer Science А. 2003. V. 45. № 7. P. 694.
- Баграташвили В., Вакштейн М., Заворотный Ю., Кротова Л., Маняшин А., Попов В., Рыбалтовский А., Тараскина И., Тимашев П. // Перспективные материалы. 2010. № 2. С. 40.
- Копылов А.С., Радциг В.А., Глаголев Н.Н., Соловьева А.Б., Баграташвили В.Н. Сверхкритическая флюидная импрегнация полимерных матриц стабильными нитроксильными радикалами. Сверхкритические флюиды. 2013. т.9. № 4. с.78.
- Глаголев Н., Соловьева А., Западинский Б., Котова А., Барачевский В., Тимашев П., Баграташвили В. // Сверхкритические флюиды: теория и практика. 2007. Т. 2. № 1. С. 78.
- Глаголев Н., Соловьева А., Котова А., Шашкова В., Западинский Б., Зайченко Н., Кольцова Л., Шиенок А., Тимашев П., Баграташвили В. // Журн. физ. химии. 2009. Т. 83. № 5. С. 1.
- Черкасова А.В., Глаголев Н.Н., Копылов А.С., Тимашев П.С., Соловьева А.Б., Баграташвили В.Н. // Сверхкритические флюиды: теория и практика. 2014. Т. 9. № 1. С. 4.
- Маревцев В. Дис.... д-ра хим. наук. М.: ИХФ РАН, 2001.
- Копылов А.С., Глаголев Н.Н., Тимашев П.С., Черкасова А.В., Тимашев С.Ф., Соловьева А.Б. // Сверхкритические флюиды: теория и практика. 2015. Т. 89. № 9. С. 1364.
- Глаголев Н.Н., Соловьева А.Б., Черкасова А.В., Мельников В.П., Ляпунов А.Я., Тимашев П.С., Котова А.В., Западинский Б.И., Баграташвили В.Н. // Сверхкритические флюиды: теория и практика. 2010. Т. 5. № 1. С. 73.
- Каплин В.С., Копылов А.С., Ионов Д.С., Юрасик Г.А., Соловьева А.Б. //Журн. физ. химии. 2019. Т. 93. № 8. С. 1268.
- Kaplin V.S. , Kopylov A.S., Zarhina T.S., Timashev P.S., Solov’eva A.B. // Opt. Spectrosc. 2020. V. 128. № 7. P. 769.
- Kaplin V., Kopylov A., Koryakovtseva A., Minaev N., Epifanov E., Gulin A., Aksenova N., Timashev P., Kuryanova A., Shershnev I., Solovieva A. // Gels. 2022. V. 8. P. 617.
- Maa Y., Heller J. // J. Control. Release. 1990. V. 14. № 1. P. 21.
- Gunatillake P.A., Adhikari R. // Eur Cell Mater. 2003. V. 5. № 1. P. 1.
- Li M., Rouaud O., Poncelet D. // Int. J. Pharmaceut. 2008. V. 363. № 1. P. 26.
- Cherkasova A.V., Glagolev N.N., Shienok A.I., Kotova S.L., Zaichenko N.L., Solovieva A.B., Demina T.S., Akopova T.A., Timashev P.S., Bagratashvili V.N. // J. Mater. Sci.: Materials in Medicine. 2016. Iss. 27. № 9. P. 141.
- Баграташвили В.Н., Черкасова А.В., Глаголев Н.Н., Шиенок А.И., Тимофеева В.А., Соловьева А.Б. // Сверхкритические флюиды: теория и практика. 2019. № 1. С.32.
- Черкасова А.В., Копылов А.С., Аксенова Н.А., Зархина Т.С., Шершнев И.В., Глаголев Н.Н., Тимашев П.С., Соловьева А.Б. // Журн. физ. химии. 2022. Т. 96. № 11. С. 1684.
- Bellina F., Cauteruccio S., Rossi R. // Tetrahedron. 2007. V. 63. № 22. P. 4571.
- Акопова Т.А., Роговина С.З., Вихорева Г.А., Зеленецкий С.Н., Гальбрайх Л.С., Ениколопян Н.С. // Высокомолек. соед. Б. 1991. Т. 33. № 10. С. 735.
- Mason S. // J. Soc. Dyers Colourists. 1968. V. 84. № 12. P. 604.
- Зайченко Н., Кольцова Л., Шиенок А., Венидиктова О., Барачевский В., Маревцев В. // Изв. РАН. 2005. Т. № 11. С. 2530.
- Коржавых Э., Румянцев А. // Рос. аптеки. 2003. Т. № 4. С. 29.
- Grady M.C., Simonsick W.J., Hutchinson R.A. // Macromol. Symp. 2002. P. 149.
- White W.C. // Chem.-Biol. Interactions. 2007. V. 166. № 1. P. 10.
- Vlachopoulos J., Strutt D. // Mater. Sci. Technol. 2003. V. 19. № 9. P. 1161.
- Royer J.R., Gay Y.J., Adam M., DeSimone J.M., Khan S.A. // Polymer. 2002. V. 43. № 8. P. 2375.
- Alhamad B., Romagnoli J., Gomes V. // Chem. Eng. Sci. 2005. V. 60. № 10. P. 2795.
- Kendall J.L., Canelas D.A., Young J.L., DeSimone J.M. // Chem. Revs. 1999. V. 99. № 2. P. 543.
- Matsuyama K., Mishima K. // J. Supercrit. Fluids. 2009. V. 49. № 2. P. 256.
- Oh K.S., Bae W., Kim H. // Eur. Polym. J. 2008. V. 44. № 2. P. 415.
- Yuvaraj H., Hwang H.S., Jung Y.S., Kim J.-H., Hong S.-S., Lim K.T. // J. Supercrit. Fluids. 2007. V. 42. № 3. P. 351.
- Ahmed T.S., DeSimone J.M., Roberts G.W. // Chem. Eng. Sci. 2010. V. 65. № 2. P. 651.
- Tai H., Wang W., Howdle S.M. // Polymer. 2005. V. 46. № 24. P. 10626.
- Tuminello W.H., Dee G.T., McHugh M.A. // Macromolecules. 1995. V. 28. № 5. P. 1506.
- Drohmann C., Beckman E.J. // J. Supercrit. Fluids. 2002. V. 22. № 2. P. 103.
- Galia A., Pierro P., Filardo G. // J. Supercrit. Fluids. 2004. V. 32. № 1. P. 255.
- Busby A.J., Zhang J., Naylor A., Roberts C.J., Davies M.C., Tendler S.J., Howdle S.M. // J. Mater. Chem. 2003. V. 13. № 11. P. 2838.
- Lee J.-Y., Song C.-H., Kim J.-I., Kim J.-H. // J. Nanoparticle Res. 2002. V. 4. № 1–2. P. 53.
- Копылов А.С., Каплин В.C., Глаголев Н.Н., Соловьева А.Б. // Сверхкритические флюиды: теория и практика. 2019. №4. С.3.
- Kaplin V.S., Glagolev N.N., Shashkova V.T., Matveeva I.A., Shershnev I.V., Zarkhina T.S., Minaev N.V., Aksenova N.A., Shavkuta B.S., Bezrukov E.A., Kopylov A.S., Kuznetsova D.S., Shpichka A.I., Timashev P.S., Solovieva A.B. // Polymers. 2020. V. 12. P. 2525.
- Минкин В.И., Симкин Б.Я., Миняев Р.М. Квантовая химия органических соединений. Механизмы реакций. М.,1986.
- Von Gilchrist T.L., Storr R.C. Organic Reactions and Orbital Symmetry. Cambridge: CUP Publ., 1972.
- Догонадзе P.P., Ульструп Е., Харкац Ю.И. // Докл. АН СССР. 1972. Т. 207. № 3. С. 640.
- Haddon R.C., Chow S.-Y. // Pure Appl. Chem. 1999. V. 71. № 2. P. 289.
- Einstein A., Podolsky B., Rosen N. // Phys. Rev. 1935. V. 47. P. 777.
- Hoffman M.M., Conradi M.S. // J. Am. Chem. Soc. 1997. V. 119. P. 3811.
- Федоров А.К., Киктенко Е.О., Хабарова К.Ю., Колачевский Н.Н. //Успехи физ. наук. 2023. Т. 193. С. 1162.
- Aspect A., Grangier P., Roger J. // Phys. Rev. Lett. 1981. V. 47. P.460.
- Aspect A., Grangier P., Roger G. // Phys. Rev. Lett. 1982. V. 49. P. 91.
- Hensen B., Kalb N. , Blok M.S., Dréau A.E., Reiserer A., Vermeulen R.F.L., Schouten R.N., Markham M., Twitchen D.J., Goodenough K., Elkouss D., Wehner S., Taminiau T.H., Hanson R. // Nature. 2015. V. 526. P. 682.
- Тимашев. С.Ф. // Журн. физ. химии. 2022. Т. 96. № 8. С. 1093.
- Кадомцев Б.Б.// Успехи физ. наук. 1994.Т.164. №5. С. 449.
- Puthoff H.E., Piestrup M.A. // arXiv:physics/0408114, [2004].
- Zhitenev N.B., Brodsky M., Ashoori R.C., Pfeiffer L.N., West K.W. // Science. 1999. V. 285. № 5428. P. 715.
- Mesayets G.A., Proskurovsky D.I. Pulsed Electrical Discharge in Vacuum. New York: Springer-Verlag, 1989.
- Lapkiewicz R., Li P., Schaeff C., Langford N.K., Ramelow S., Wieśniak M., Zeilinger A. // Nature. 2011. V. 474. P. 490.
- Cabello A. // Nature. 2011. V. 474. P. 456.
补充文件