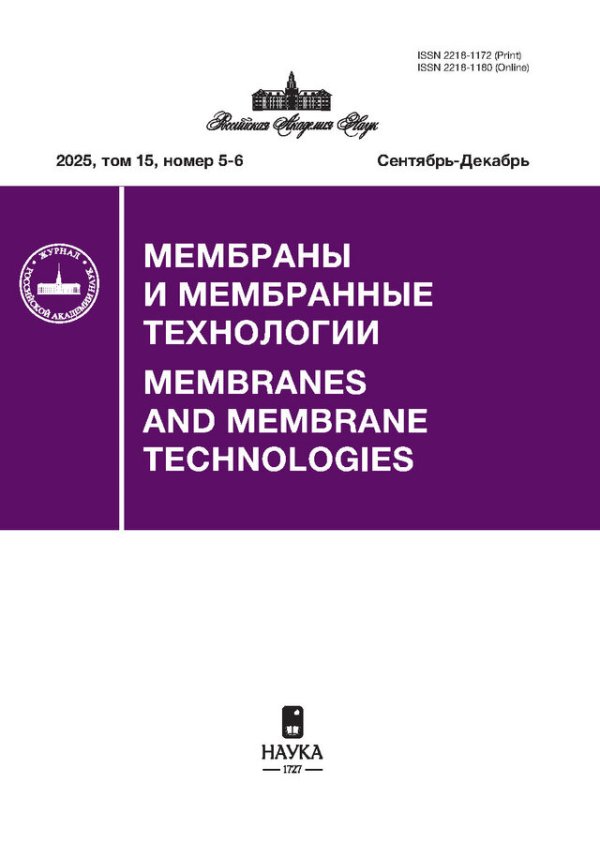Prospects for the development of hydrogen energy. Polymer membranes for fuel cells and electrolysers
- Authors: Stenina I.A.1, Yaroslavtsev A.B.1
-
Affiliations:
- Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry RAS
- Issue: Vol 14, No 1 (2024)
- Pages: 19-32
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/2218-1172/article/view/260765
- DOI: https://doi.org/10.31857/S2218117224010039
- EDN: https://elibrary.ru/OKTNJZ
- ID: 260765
Cite item
Full Text
Abstract
Due to increased attention to hydrogen energy and the fact that many countries adopted the programs of its development the question of the prospects for this area becomes relevant. Initially, Russian hydrogen energy development program was focused on producing hydrogen from natural gas. However, owing to the changed international situation and the declared course to the use of “green” hydrogen, the production of which is not associated with the emission of carbon oxides, special attention should obviously be paid to the development of fuel cells (FC) and electrolysers. In this review, the main advantages and disadvantages of fuel cells of various types are considered. Today, the most developed industry is low-temperature fuel cells based on proton-exchange membrane. At the same time, fuel cells based on anion-exchange membranes with OH--ion conductivity are also promising. Their key advantage is the possibility of using significantly cheaper non-perfluorinated membranes and platinum-free catalysts. Considerable attention in the review is paid to fuel cells operating at elevated temperatures.
The second part of this review discusses in detail the membranes currently used in these devices and promising materials that can replace them in the near future.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Последнее десятилетие отмечено резким ростом интереса мирового сообщества к водородной энергетике. В эти годы рядом стран приняты программы ее развития, предусматривающие серьезные ассигнования в эту развивающуюся индустрию [1–6]. В первую очередь этот интерес основан на повышении внимания к проблемам экологии, которое инициировано в первую очередь теорией глобального потепления. Многие исследователи пишут, что изменение климата определяется выбросами парниковых газов в результате активной хозяйственной деятельности человечества [7–9]. Для преодоления этой проблемы научным сообществом ведется обширная работа по декарбонизации экономики [10–15]. Основное количество антропогенных выбросов диоксида углерода связано с производством энергии, включая ее генерацию транспортными средствами, что определяет глобальные тенденции к энергосбережению и развитию возобновляемой энергетики [16]. Однако предлагаемые работы по декарбонизации сами по себе требуют огромных энергозатрат [17, 18] и очевидно, что в настоящее время их эффективность существенно уступает углеродному циклу, основанному на фотосинтезе растений.
Интенсивное развитие водородной энергетики является одним из наглядных проявлений перехода к возобновляемой энергетике. Однако водород не существует на Земле в чистом виде. Изначально в плане мероприятий по развитию водородной энергетики в РФ основное внимание уделялось как раз производству водорода. Предполагалось, что Россия может стать одним из основных и наиболее стабильных его поставщиков на мировой рынок [19]. Это во многом определялось интересами ПАО “Газпром”, поскольку наиболее дешевым и доступным методом получения водорода является паровая конверсия природного газа [20–22]. Однако стоит заметить, что данный процесс связан со значительным уровнем выбросов оксидов углерода и в этом плане более негативные последствия дает лишь газификация угля, которая в основном использовалась Китаем. Однако, согласно провозглашенному курсу, страны Евросоюза намерены потреблять так называемый “зеленый” водород, полученный без выбросов СО2, и правительство Китая в настоящее время также провозгласило курс на декарбонизацию [23].
С точки зрения минимизации углеродных выбросов есть два наиболее перспективных способа получения водорода, включающих переработку биомассы и электролиз [24–27]. Электролиз воды с использованием возобновляемых источников энергии является полностью экологически чистым методом получения водорода. Однако в настоящее время водород, полученный электролизом, в 2–4 раза дороже полученного из природного газа [28]. Тем не менее именно на водород, полученный электролизом с использованием энергии возобновляемых источников (солнечные батареи, ветрогенераторы и др.), делают акцент страны Евросоюза. Так, в “дорожной карте” Евросоюза предполагается в 2020–2024 гг. запустить электролизеры на 6 ГВт, предназначенные для производства водорода с привлечением возобновляемых источников энергии. К 2030 г. мощность электролизных установок будет увеличена до 40 ГВт. Наконец, к 2050 г. четверть возобновляемой электроэнергии будет использоваться для производства чистого водорода [1].
Возвращаясь к перспективам водородной энергетики в России, стоит отметить, что при реализации курса на продажу водорода нужно делать основную ставку на способы получения водорода, не дающие углеродного следа, для чего следует обратить основное внимание на разработку электролизеров. Еще более перспективным подходом может стать полноценное развитие водородной энергетики в России, что представляется наиболее вероятным сценарием. Для его реализации критическим фактором является разработка высокоэффективных устройств, предназначенных для выработки электроэнергии из водорода, – топливных элементов (ТЭ).
С учетом конкуренции с прочно вошедшими в нашу жизнь литий-ионными аккумуляторами уместно поднять вопрос о том, в каких областях будет наиболее целесообразным применение водородной энергетики. ТЭ потенциально имеют огромный диапазон возможных приложений – от стационарных источников энергии до энергоснабжения мобильных устройств и большегрузного транспорта. Большое внимание уделяется использованию топливных элементов в автомобильном транспорте. Так, например, согласно принятой в Китае концепции, к 2025 г. количество автомобилей на водороде должно было превысить 100 000. Однако в 2016–2020 гг. среднегодовой объем производства и продаж автомобилей на топливных элементах в Китае составлял около 1500 единиц, а затем из-за пандемии короновируса и вовсе сократился [29, 30].
Согласно проведенным исследованиям, более экономически целесообразным является использование ТЭ в грузовых автомобилях и автобусах [1, 31]. Уделяется существенное внимание использованию ТЭ в пассажирских самолетах во время их нахождения в пределах аэропорта (руление, взлет и посадка). В странах Евросоюза в 2025–2030 гг. предполагается сделать акцент на производство водорода для водородных сетей и теплоснабжения жилых и коммерческих зданий. Можно полагать, что во многом это будет сводиться к аккумулированию энергии в виде водорода, производимого, например, солнечными батареями. Очевидно, что для погашения суточных колебаний производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников более предпочтительно использовать литий-ионные аккумуляторы, характеризующиеся крайне высоким КПД. Однако для погашения сезонных колебаний использование водородного цикла более предпочтительно из-за высокого саморазряда литий-ионных аккумуляторов [4]. Для России, две трети территории которой не имеют центрального электроснабжения, этот подход становится еще более привлекательным.
В связи с этим в данном кратком обзоре будут рассмотрены основные преимущества и недостатки различных типов ТЭ, электролизеров и используемых в них мембранных материалов.
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТЭ И ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ
В литературе встречаются разные классификации топливных элементов. Изначально их разделяли по температуре работы на низкотепературные (до 130°С), высокотемпературные (выше 600°С) и среднетемпературные. Более распространенной является классификация, основанная на типе используемой мембраны (электролита). С этой точки зрения обычно выделяли твердополимерные, щелочные, фосфорнокислотные, расплавленные карбонатные и твердооксидные топливные элементы. Однако в мировой литературе первые из них в последнее время не очень удачно стали называть ТЭ на протонообменных мембранах. Щелочные ТЭ, по сути, трансформировались в ТЭ на анионообменных мембранах, но это понятие не очень подходит для установок, в которых используют пористые мембраны, пропитанные раствором щелочи. Фосфорнокислотные ТЭ в настоящее время практически полностью сводятся к установкам на основе полибензимидазода, допированного фосфорной кислотой (которые часто называют высокотемпературными полимерными). Наконец, от твердооксидных ТЭ отделились еще два типа устройств на основе среднетемпературных мембран на безводных кислых фосфатах и/или сульфатах и набирающие популярность высокотемпературные на основе оксидов с протонной (или смешанной протонной и кислородной проводимостью). Одновременно с этим существуют и другие классификации по типу используемого топлива, по принципу теплоотвода, фрагмента ТЭ, на котором основывается конструкция твердоокидных ТЭ и др. В связи с этим мы разделили ТЭ по типу используемой мембраны (см. табл. 1).
Таблица 1. Некоторые характеристики топливных элементов на основе разных типов мембран
Мембрана | Протонпроводящая | Анионпроводящая | Полибензимидазол | Кислородпроводящая керамика | Протонпроводящая керамика |
Параметры топливных элементов | |||||
Топливо | H2/метанол | H2 | H2/метанол | H2/ синтез-газ | H2 |
Окислитель | кислород/ воздух | кислород | кислород/ воздух | кислород/ воздух | кислород/ воздух |
Температура, °С | 20–100 | 20–100 | 140–200 | 700–900 | 500–700 |
Недостатки | Высокая стоимость, необходимость увлажнения газов, требование низкой концентрации СО | Необходимость увлажнения газов, требование низкой концентрации СО2 | Вымывание Н3РО4, высокие требования по коррозионной стойкости материалов | Длительность выхода на рабочий режим, требования к помещению, высокие габариты | Длительность выхода на рабочий режим, требования к помещению, высокие габариты |
Носитель электричества/среда | Н+/H2O | OН-/H2O | Н+/H3PO4 | О2-/керамика | Н+/керамика |
Катодная реакция | O2 + 4H+ + 4e- = 2H2O | O2 + 2H2O + 4e- = 4ОH- | O2 + 4H+ + 4e- = 2H2O | O2 + 2e- = O22- | O2 + 4H+ + 4e- = 2H2O |
Анодная реакция | Н2 = 2H+ + 2e- | Н2 + 2ОH- =2H2O + 2e- | Н2 = 2H+ + 2e- | 2Н2 + O22- = 2H2O + 2e | Н2 = 2H+ + 2e- |
Устройство как типичного ТЭ, так и электролизера весьма сходно и представлено на рис. 1 на примере низкотемпературных ТЭ на основе протонпроводящих мембран. Основой ТЭ является протонпроводящая мембрана, через которую осуществляется направленный перенос протонов. Через пористый газодиффузионный слой топливо (водород или спирты) подается на катализатор, на котором водород диссоциативно сорбируется (реакция 1). Далее протоны мигрируют к катодному катализатору, на котором протекает процесс электровосстановления кислорода с образованием воды (реакция 2) [32].
Рис. 1. Схема водород-кислородного ТЭ на основе протонпроводящих мембран. Протонпроводящая мембрана (1), катализатор (2), газодиффузионный слой (3), биполярные пластины (4).
В случае электролизера описанные выше процессы протекают в обратном направлении, в результате чего из воды генерируется водород и кислород [33]. Однако их образование изначально протекает через формирование радикалов, в результате чего работа электролизера обычно сопряжена с высоким перенапряжением [34]. Использование катализаторов понижает его значение, но в любом случае это существенно снижает КПД электролиза [35].
(1)
(2)
Топливные элементы представляются почти идеальным источником питания, поскольку они отличаются низким уровнем шума, высокой надежностью, их КПД в режиме с малой нагрузкой может достигать 70–80%, а при использовании в качестве топлива водорода единственным продуктом их работы является вода. Наиболее распространенными являются водородно-воздушные ТЭ на основе полимерных протонпроводящих мембран, которые на сегодняшний день занимают порядка 90% рынка продаж. Невысокая рабочая температура (порядка 80°С) позволяет проводить быстрые запуск и отключение, а для ряда приложений обойтись без использования систем охлаждения. В силу этого они лучше всего подходят для питания различных видов транспорта (автомобилей, автобусов, грузовиков).
Первые продажи легковых “водородных” автомобилей компании Honda прошли в 2008 г. А еще через 10 лет компания Gumpert Aiways Automobile GmbH презентовала автомобиль, питающийся от батареи аккумуляторов и ТЭ, водород для которого получается паровой конверсией метанола. Его преимуществами являются компактность хранения топлива и быстрая (за 3 мин) заправка, в результате чего дальность пробега такого автомобиля на одной заправке может достигать 1200 км. Стоит отметить, что суммарные значения КПД таких систем могут достигать 50%. Уже сейчас есть достаточно успешные проекты городских автобусов на водородном топливе, поскольку в крупных населенных пунктах общественный транспорт производит существенную долю выбросов. Такие автобусы могут проходить 7000 ч без ремонта и проезжать на одной заправке порядка 250–300 км при расходе водорода порядка 1,2 кг/10 км [36].
Стоит отметить, что метанол может и напрямую использоваться в ТЭ на основе протонпроводящих мембран (Direct-Methanol Fuel Cell) [37, 38] с той же рабочей температурой. Достоинством таких ТЭ при использовании в транспортных средствах является более быстрый процесс заправки и компактность хранения топлива. Однако, поскольку продукты переработки метанола содержат фрагменты СО, преимущественно сорбирующиеся на платиновых катализаторах, эффективность окисления топлива на катализаторе оказывается невысокой, что определяет низкую мощность таких систем [39].
В начале XXI в. преимуществом ТЭ на основе анионообменных мембран в основном считалась новизна данного подхода [40], хотя стоит отметить, что первые топливные элементы, работавшие на космических кораблях СССР, фактически были во многом их прототипами. Большим достоинством таких ТЭ является более низкая коррозионная активность среды, в которой концентрация ионов водорода очень низка. Это позволяет рассчитывать на то, что в них могут быть использованы неперфторированные мембраны и катализаторы на основе никеля, кобальта и ряда других металлов [41–43]. Исключение дорогостоящих компонентов позволяет рассчитывать на понижение стоимости как самих ТЭ, так и вырабатываемой с их использованием электроэнергии. В связи с этим в последние годы возрос интерес к этому направлению, что привело к существенному улучшению пиковой мощности таких ТЭ, которая по данным некоторых работ достигает 1–2 Вт/см2 [44–49]. Основными проблемами ТЭ на анионообменных мембранах являются низкая скорость окисления водорода и резкое падение проводимости мембран за счет сорбции углекислого газа, поэтому для их питания можно использовать лишь глубоко очищенные от СО2 газы, обычно кислород и водород [50] (табл. 1). Стоит отметить, что использование новых конструкционных решений и катализаторов, по некоторым данным, позволяет преодолеть проблемы, связанные с поглощением углекислого газа и нарушением водного баланса [51–53].
Большинство мембран, используемых в описанных ТЭ, при температурах выше 90°С теряют воду, а вместе с ней и резко понижается их ионная проводимость. Это не позволяет использовать их при более высоких температурах. Однако при низких температурах платиновые катализаторы предпочтительно сорбируют молекулы СО, что приводит к резкому понижению мощности ТЭ и делает невозможным использование сравнительно дешевого водорода, получаемого с использованием конверсии угля, газа или даже биомассы без глубокой очистки [54]. В связи с этим весьма актуальными считаются исследования, направленные на повышение температуры работы топливных элементов, позволяющие повысить их толерантность к примесям СО. Это становится возможным лишь при использовании новых типов мембран, примером которых являются полибензимидазолы [55, 56]. ТЭ на основе полибензимидазолов, допированных фосфорной кислотой, могут работать не только при наличии в водороде примесей СО, но и при использовании в качестве топлива метанола, а также при низкой влажности [56, 57]. В то же время недостатком ТЭ на основе полибензимидазолов является вымывание фосфорной кислоты парами воды, формирующейся в процессе работы, что определяет повышенную коррозию материалов, используемых в их конструкции (табл. 1).
В этой же области температур работают существенно менее распространенные ТЭ на основе кислых сульфатов или фосфатов щелочных металлов MnHm(XO4)p [58]. Для облегчения их запуска при более низких температурах или получения материалов с улучшенными механическими свойствами можно использовать их композиты с наноразмерными оксидами или полимерными материалами [59, 60].
Еще более кардинальным решением является переход к высокотемпературным топливным элементам на основе кислородпроводящей керамики, достаточно высокая проводимость которой может достигаться лишь при температурах ≥700оС [61]. Несомненными преимуществами таких ТЭ является использование гораздо более дешевых катализаторов и электролитов. Кроме того, часто пишут, что для их питания можно использовать даже углеводородное топливо. Однако реально эффективность работы ТЭ при этом оказывается очень низкой, и обычно для повышения производительности углеводороды предварительно конвертируют в синтез-газ [62]. Кроме того, их запуск требует постепенного нагревания в течение нескольких часов для достижения высоких рабочих температур. Это ограничивает область применения твердооксидных ТЭ постоянно действующими стационарными устройствами. В связи с этим предпринимаются попытки понизить температуру работы твердооксидных ТЭ и повысить их эффективность [63]. Так, например, описано использование тонкопленочных материалов, позволяющих уменьшить омические потери и температуру работы твердооксидных топливных элементов [64, 65].
Вместе с тем рассматриваются и другие возможности снижения температуры работы ТЭ с керамической мембраной, среди которых можно выделить использование протонпроводящих оксидов. Более низкая температура их функционирования обусловлена меньшей энергией активации ионного транспорта за счет меньшего заряда протона. Такие ТЭ еще не получили широкого распространения, однако ведется интенсивный поиск материалов для их конструирования [66–69].
Среди электролизеров воды можно выделить три основные разновидности, различающиеся типом используемого электролита [70, 71]. Наиболее распространенной технологией является щелочной электролиз, в котором могут использоваться катализаторы на основе неблагородных металлов и более дешевые неперфторированные мембраны [72]. Однако щелочные электролизеры, как правило, содержат коррозионно-активный жидкий электролит и характеризуются достаточно низкой плотностью тока [73]. Кроме того, скорость электровосстановления водорода в щелочных средах обычно на 2–3 порядка меньше, чем в кислых средах [74].
С этой точки зрения существенные преимущества имеют электролизеры на протонпроводящих мембранах, которые характеризуются компактностью, более высокой производительностью и безопасностью [28, 75]. Устройство такого электролизера подобно схеме низкотемпературного ТЭ, приведенной на рис. 1. Точно так же, как и для ТЭ, недостатком таких электролизеров является высокая стоимость, поскольку в них используются те же перфторированные мембраны и катализаторы с высоким содержанием благородных металлов (Pt, Ir, Ru) [35]. Кроме того, следует помнить и о высокой стоимости электроэнергии, из-за чего водород, полученный электролизом, как отмечалось выше, обычно значительно дороже, чем водород, полученный из природного газа [26, 76].
В этой связи стоит отметить зарождающееся в настоящее время направление, основанное на использовании микробных электролизеров. В этом случае значительные энергопотери, связанные с электролитическим выделением кислорода, можно понизить за счет окисления на аноде органических веществ, например глюкозы или других органических веществ, присутствующих в биомассе или пищевых отходах [77, 78]. Электрохимически активные бактерии в них окисляют органические вещества с образованием на аноде углекислого газа. За счет этого образование водорода происходит при сравнительно низкой разности потенциалов, которая может достигать 0,2 В [79]. В то же время использование микроорганизмов принуждает использовать растворы с нейтральными значениями рН и низкой концентрацией солей. Это определяет низкую электропроводность и снижает эффективность производства водорода, поэтому рассчитывать на практическое применение таких электролизеров сложно [79].
Перспективным может считаться и высокотемпературный электролиз с использованием твердооксидных электролизеров [80, 81]. Однако он характеризуется высокими энергозатратами из-за высоких рабочих температур и давлений [82]. Повысить его эффективность можно за счет использования пара при повышенных температурах [83, 84]. Особенно эффективным он может стать при наличии дешевых источников тепла и электроэнергии, как, например, при его осуществлении на атомных электростанциях.
ИОНПРОВОДЯЩИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ ТЭ И ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ
В данном разделе мы рассмотрим полимерные мембраны, используемые для создания ТЭ и электролизеров, поскольку именно они в настоящее время доминируют на рынке и именно ими в первую очередь определяется эффективность работы этих устройств. Ионный перенос в такого рода мембранах протекает по системе пор и каналов, формирующихся в результате сорбции воды кластерами из ионообменных групп, локализованных в полимерной матрице, образованной перфторированными или углеводородными цепочками [85, 86]. Схема строения этой системы на примере катионообменных мембран в водородной форме приведена на рис. 2. Размер пор, заполненных водным раствором, содержащим протоны, формирующиеся при диссоциации –SO3Н групп, составляет 4–5 нм [87, 88]. Одновременно с ними образуются фиксированные ионы –, которые локализуются на стенках пор и совместно с притягивающимися к ним за счет электростатического взаимодействия катионами формируют двойной электрический (Дебаевский) слой с характерной толщиной порядка 1 нм. Именно по нему преимущественно происходит перенос протонов. В центре пор находится так называемый электронейтральный раствор, который в случае мембран в ТЭ представляет собой практически чистую воду [88, 89].
Рис. 2. Схема строения пор и каналов в ионообменных мембранах. Подвижные катионы (противоионы) (1), фиксированные ионы (2), электронейтральный раствор (3), полимерная матрица (4).
Отметим, что приведенная модель строения мембран, несомненно, является несколько идеализированной. Сложно предполагать, что все поры и каналы имеют один и тот же фиксированный размер и форму. С этой точки зрения можно упомянуть альтернативную модель структуры пор и каналов, предложенную российскими авторами и более известное ее развитие, предложенное Креуером [90, 91]. В работе [92] предложено использовать сходную модель с учетом неравномерности системы каналов, что меняет скорость процессов переноса. Однако далее мы будем использовать исходную модель Гирке, наиболее часто используемую мембранным сообществом, поскольку ее модификация не вносит значимых изменений в суть излагаемого материала.
Неполярные молекулы водорода и кислорода, попадающие в мембрану, преимущественно переносятся через этот раствор, в связи с чем доля его объема определяет селективность процессов переноса в мембранах [93]. Основным негативным процессом для низкотемпературных топливных элементов является кроссовер – неселективный сквозной перенос питающих их реагентов (кислород, водород или метанол) в виде нейтральных молекул, не приводящий к генерации энергии [94, 95]. В результате этого эффективность работы топливных элементов и электролизеров определяется соотношением ионной проводимости и селективности.
В свою очередь, проводимость мембран лимитируется размером пор, соединяющих каналы. Поэтому повысить проводимость можно за счет увеличения их размера, повышая степень гидратации мембран. Однако объем пор при этом растет в первую очередь за счет повышения объема электронейтрального раствора. Отсюда следует своеобразное противоборство между проводимостью и селективностью. Повышая проводимость, мы понижаем селективность, и, наоборот, повышение селективности приводит к падению проводимости [96, 97].
Полимерные мембраны, применяющиеся в ТЭ и электролизерах, должны отличаться высокой протонной (или ОН-) проводимостью, низкими газопроницаемостью (высокой селективностью) и электронной проводимостью, высокой химической и термической стабильностью. На сегодняшний день в большинстве электрохимических приложений доминируют более дешевые гетерогенные мембраны. Однако, несмотря на это, они не выдержали конкуренции в топливных элементах и электролизерах в связи с двумя главными недостатками. Из-за специфики способов их производства эти мембраны содержат дополнительную систему пор – между частицами составляющих их материалов (гранулами ионита и пластификатора (связующего)). Размер этих пор обычно порядка 1 микрометра, а их стенки не несут заряда или он сравнительно низок. Все это делает перенос через них неизбирательным, а сами мембраны характеризуются низкой селективностью [98, 99]. Второй, не менее важной причиной оказывается низкая стабильность за счет наличия большого количества С–Н связей. Кроме того, гетерогенные мембраны обычно имеют большую толщину, что неизбежно приводит к высоким омическим потерям. Предпринимаются попытки производства более тонких гетерогенных мембран (так называемой мембранной фольги, в составе которой обычно отсутствует армирующая сетка [99]). Однако это приводит к потере селективности и механической прочности мембран.
Наилучшими свойствами для применения в ТЭ и электролизерах обладают перфторированные сульфокатионитные мембраны типа Nafion. Их основная полимерная цепь содержит боковые ответвления –OCF2CF(CF3)C2F4SO3H [100]. Наличие перфторированной полимерной цепи обусловливает не только высокую химическую стабильность [101], но и повышенную кислотность функциональных групп. Сегментальная подвижность боковых цепей и их сравнительно большой размер затрудняет кристаллизацию полимера [102], облегчает формирование кластеров из сульфогрупп и оптимальной структуры пор и каналов [54, 101].
Несмотря на то что наличие длинных боковых цепей кажется вполне обоснованным и предпочтительным, в последние годы большое внимание уделяется перфторированным мембранам с короткой боковой цепью (–OC2F4SO3H). В литературе есть сведения об их повышенной термостабильности [103, 104]. Однако, на наш взгляд, более важным фактором является повышение ионообменной емкости. Очевидно, что наблюдающееся при этом увеличение концентрации носителей должно привести к росту протонной проводимости [105]. Вместе с тем повышается и влагосодержание мембран, а дополнительная вода повышает объем пор и каналов и служит пластификатором. Все это приводит и к повышению подвижности протонов. В результате в ряду перфторированных мембран с ростом ионообменной емкости от 0.66 до 1.35 мг-экв/г протонная проводимость растет на 2–3 порядка в зависимости от влажности [106]. Кроме того, проводимость мембран с высокой ионообменной емкостью существенно меньше зависит от влажности. Однако, как отмечено выше, с ростом влагосодержания понижается селективность мембран [106]. Менее высокие темпы роста газопроницаемости при увеличении ионообменной емкости обусловлены тем, что перенос молекул газа протекает не только по системе пор и каналов, но и через перфторированную матрицу [107]. Поэтому определенное преимущество от перехода к мембранам с короткими боковыми цепями определенно существует.
Некоторые свойства мембран можно улучшить за счет изменения структуры системы пор и каналов, например, путем внедрения в них наночастиц различных материалов [108, 109]. Такую модификацию мембран часто проводят путем введения наночастиц в раствор полимера, из которого формируют мембрану. Эта стадия сравнительно легко встраивается в технологическую цепочку получения мембран [110–112], однако ее существенным недостатком является агломерация наночастиц, приводящая к неравномерности их распределения, что понижает эффективность данного подхода. Агломераты можно разрушать ультразвуковой обработкой раствора [113, 114], однако такая обработка может приводить и к изменению микроструктуры, влагосодержания и транспортных свойств получаемых материалов, а также их механических свойств [115-117]. Кроме того, в любом случае размер частиц, полученных в ходе химического синтеза, обычно оказывается не слишком малым, что существенно понижает эффективность такой модификации, а агломераты даже при воздействии ультразвука разрушаются не полностью. В связи с этим более эффективным является синтез наночастиц в матрице мембран (in situ), в котором поры мембран используются в качестве своеобразных нанореакторов, ограничивая размер частиц размерами пор и предотвращая агрегацию [118].
В качестве допантов часто используют гидратированные оксиды поливалентных элементов (кремния, циркония и др.) [119–121] или их производные с модифицированной поверхностью [122]. Путем гидрофилизации поверхности допанта можно повысить влагосодержание мембран и их протонную проводимость, что особенно важно и при пониженной влажности. Основной причиной повышения проводимости является увеличение размера пор и соединяющих их каналов при внедрении в них наночастиц [86]. Дополнительно повысить проводимость можно путем внедрения в матрицу мембран наночастиц с поверхностью, содержащей протонодонорные группы [123]. Есть сведения о снижении газопроницаемости и проницаемости метанола при использовании допантов с поверхностью, имеющей кислотные свойства [113, 114, 124]. На основе таких мембран, работающих при пониженной влажности, созданы ТЭ, мощность которых выше, чем для ТЭ с мембранами Nafion при высокой влажности [125]. В то же время в работе [126] показано, что более распространенным вариантом является падение селективности гибридных мембран при введении в поры мембран оксидов с кислотной поверхностью, в то время как повышения селективности можно добиться при допировании мембран основными оксидами, хотя при этом понижается проводимость. Появляются и работы, в которых свойства ТЭ улучшаются при использовании мембран с включениями полимерных наночастиц, таких, например, как поли(3,4-этилендиокситиофен) [127–129].
Как отмечалось выше, в последние годы увеличился поток работ, связанных с получением ТЭ на основе анионообменных мембран [48, 130]. В связи с этим были синтезированы анионообменные мембраны с высокой проводимостью и стабильностью работы в ТЭ, в том числе и с повышенной рабочей температурой [131–136]. Стоит заметить также, что в щелочных электролизерах часто используются дешевые пористые мембраны из асбеста или на полимерной основе, пропитанные раствором щелочи [137]. В последние годы активно развивается новый подход, связанный с использованием полимерных анионообменных мембран.
То, что главенствующую роль в современных ТЭ играют перфторированные сульфокатионитные мембраны, вовсе не обозначает, что поиск альтернативных мембранных материалов остановлен. Еще в начале этого столетия в ТЭ испытывались гетерогенные мембраны, мембраны на основе сульфированных полиэфир(эфир)кетонов и ряда других полимеров. Однако они не выдержали конкуренции с перфторированными материалами по сочетанию проводимости, селективности и стабильности. Можно надеяться, что синтез материалов, пусть даже не столь стабильных, как перфторированные, но зато обладающих высокой проводимостью и селективностью может обеспечить замену в тех ТЭ, которые предназначены для устройств одноразового использования или для работы в течение ограниченного времени. С другой стороны, нельзя исключать возможности получения достаточно стабильных мембран среди других классов полимерных материалов.
Очевидно, что такой поиск надо вести среди мембран, не содержащих системы макропор, которые могут проявлять высокую селективность. С другой стороны, желательно, чтобы мембраны были достаточно дешевыми. Для создания селективных мембран используют различные подходы, такие, например, как синтез блок-сополимеров [136, 138, 139]. Привлекает внимание и возможность получения сравнительно дешевых мембран на основе существующих полимерных пленок типа полиэтилена, полипропилена, поливинилиденфторида и др. В качестве одного из подходов, позволяющих получать мембраны из пористых пленок, может использоваться метод, который основан на внедрении раствора полимера или мономера, из которого этот полимер может быть получен, в матрицу пористой мембраны (метод заполнения пор). Авторы [140, 141] синтезировали анионо- и катионообменные мембраны на основе полиэтиленовой матрицы путем заполнения пор акриловыми мономерами с последующей фотополимеризацией и функциолизацией. Более высокой химической стабильностью отличаются ароматические или перфторированные полимеры, включая полистирол, полиэфирсульфон, перфторированные полисульфокислоты [142–146].
В ряде случаев полимерная основа используется для упрочнения ионообменных полимеров или ограничения размера пор, поскольку чрезмерное набухание мембран в водных растворах приводит к существенному понижению их прочности и селективности. Интересно, что этот подход использовали в том числе и для улучшения свойств мембран Nafion [147, 148]. Известным примером является материал Gore-Select® на основе пористого тефлона, заполненного Nafion. Можно отметить, что такой подход согласно данным [149] позволяет получать пленки малой толщины и повысить время их службы.
Еще одним перспективным методом является прививочная полимеризация, которая позволяет придать совершенно новые свойства полученному сополимеру. Наиболее часто для получения ионообменных мембран в качестве матрицы используют беспористые полиэтиленовые и полипропиленовые пленки [150]. Более стабильные пленки можно получить на основе фторсодержащих полимеров. Для прививочной полимеризации используются как мономеры, содержащие функциональные группы, примером которых может являться акриловая кислота [151], так и не содержащие их, с последующей функционализацией полученных непроводящих привитых сополимерных пленок. Примером последнего подхода является полимеризация стирола в гидрофобных пленках с последующим сульфированием [138, 152]. Полученные этим методом мембраны с высокой ионообменной емкостью обычно сильно набухают, что приводит к повышению проводимости с одновременной потерей селективности. Для решения этой проблемы часто применяют сшивку, например, дивинилбензолом, препятствующую чрезмерному набуханию мембран [153–155]. Наиболее часто для генерации радикалов в полимерной матрице используют высокоэнергетическое облучение, включая гамма-радиацию или обработку ускоренными ионами [156]. В то же время можно использовать и более мягкое облучение ультрафиолетом. Однако такая активация возможна лишь при наличии достаточно активных центров, например третичных атомов углерода, как в полиметилпентене [99, 157, 158]. Этот подход, безусловно, технологически является более привлекательным, однако в силу наличия активных центров такие полимеры должны быть подвержены деградации. И хотя полученные мембраны неплохо зарекомендовали себя при тестировании в ТЭ в течении нескольких дней [159], вряд ли они будут оставаться стабильными при длительных ресурсных испытаниях.
Другим важным направлением работ является синтез и исследование мембран с повышенной рабочей температурой, среди которых в первую очередь можно отметить полибензимидазолы, которые сами по себе не имеют достаточной ионной проводимости. Добиться ее появления позволяет допирование фосфорной кислотой, которую они интенсивно поглощают за счет наличия азотсодержащих групп. По сути, фосфорная кислота в таких мембранах не только выступает в качестве источника протонов (носителей электричества), но и создает среду для их переноса, аналогично воде в обычных ионообменных мембранах. Мембраны на основе полибензимидазолов, допированных фосфорной кислотой, при температурах 160–200°С характеризуются низкой проницаемостью по метанолу и высокой протонной проводимостью, осуществляющейся по цепочке водородных связей между молекулами H3PO4 [160–166]. Одним из существенных недостатков таких мембран является значительное ухудшение механических свойств при высоких температурах. Для их стабилизации используется сшивка цепей базового полимера, введение полимеров, способных образовывать солевые мостики с основными атомами азота имидазольного кольца [167, 168], а также введение силанов [167, 168] и других соединений, способных к нуклеофильному замещению протона NH-группы полибензимидазолов [169].
Существенной проблемой является и легкое вымывание фосфорной кислоты, в частности, за счет воздействия влаги, образующейся при работе ТЭ (табл. 1). Улучшению удержания фосфорной кислоты, а в ряде случаев и повышению проводимости способствует модификация полибензимидазола наночастицами некоторых неорганических оксидов [170–173]. Для этого можно использовать наночастицы с функционализированной поверхностью [174, 175]. Использование таких мембран в ТЭ приводит к повышению их мощности [172, 176]. В качестве еще одного направления можно рассматривать прививку к полибензимидазолу функциональных групп, способных генерировать носители электричества или повышающих сорбцию фосфорной кислоты [177, 178]. Однако чаще всего это приводит к понижению термостабильности полученных материалов.
В заключение рассмотрения полимерных мембран стоит отметить, что логичным продолжением подхода, связанного с повышением их рабочей температуры, может быть использование твердооксидных ТЭ. Такие ТЭ рассматриваются в качестве перспективных источников тока для стационарных применений [177, 178]. Основным типом электролитов для них до сих пор остается допированный оксид циркония [179]. В качестве перспективной замены могут рассматриваться материалы на основе допированных галлата лантана и оксида церия [180, 181]. В то же время существенное внимание уделяется поиску твердых керамических электролитов с протонной проводимостью. Первыми из них стали оксиды на основе церата и цирконата бария или стронция допированные трехвалентными элементами [182–186]. Гетеровалентное замещение приводит к формированию в их структуре множества кислородных вакансий, которые во влажной атмосфере сорбируют кислород воды, высвобождая подвижные протоны. Использование этих материалов несколько смягчает, но не отменяет недостатки, присущие высокотемпературным ТЭ. Кроме того, перечисленные оксиды быстро деградируют в присутствии влаги и СО2. Поскольку это определяется наличием в них щелочноземельных металлов, ведется активный поиск материалов, не содержащих таких катионов [187].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2020 г. Россия, как и многие другие страны, приняла программу развития водородной энергетики. В этом динамично развивающемся направлении за короткие сроки произошло смещение акцентов, которое требует повышенного внимания к разработке ТЭ и электролизеров. Сегодня на рынке продаж безраздельно господствуют низкотемпературные ТЭ на протонпроводящих мембранах, в которых используются перфторированные сульфокатионитные мембраны типа Нафион. В последние годы повышенное внимание уделяется их аналогам с короткой боковой цепью (Аквивион), которые за счет большей ионообменной емкости отличаются повышенной проводимостью, хотя несколько уступают мембранам Нафион по газопроницаемости. Основным недостатком перфторированных ионообменных мембран является их высокая стоимость, что определяет рост интереса к синтезу более дешевых неперфторированных мембран с высокой протонной проводимостью и селективностью процессов переноса, в частности методами заполнения пор и радиационной прививки. Перспективными являются и ТЭ на анионообменных мембранах с проводимостью по ОН- ионам. Преимуществом этих ТЭ является возможность использования более дешевых мембран и бесплатиновых катализаторов, что в перспективе может существенно снизить себестоимость производимой с их помощью энергии.
В то же время крайне привлекательным, особенно при применении на внутреннем рынке, может быть использование более дешевых сортов водорода, содержащих примеси угарного газа. Для этого необходимо повысить температуру работы ТЭ, что позволит повысить толерантность используемых в ТЭ катализаторов к СО. Проблемой высокотемпературных ТЭ на основе кислородпроводящей керамики, напротив, является слишком высокая температура их работы, что обусловливает крайне большое время запуска и отключения и делает целесообразным их применение преимущественно в стационарных постоянно действующих источниках тока. Поэтому перспективными считаются ТЭ, работающие в промежуточной области температур, к которым можно отнести полибензимидазолы и протонпроводящую керамику.
About the authors
I. A. Stenina
Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry RAS
Email: yaroslav@igic.ras.ru
Russian Federation, 119991, Moscow, Leninsky prosp., 31
A. B. Yaroslavtsev
Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry RAS
Author for correspondence.
Email: yaroslav@igic.ras.ru
Russian Federation, 119991, Moscow, Leninsky prosp., 31
References
- Cuevas F., Zhang J., Latroche M // Engineering 2021. V. 7. P. 715.
- Yue M., Lambert H., Pahon E., Roche R., Jemei S., Hissel D. // Renew. Sustain. Energy Rev. 2021. V. 146. 111180.
- Maestre V.M., Ortiz A., Ortiz I. // Renew. Sustain. Energy Rev. 2021. V. 152. 111628.
- Filippov S.P., Yaroslavtsev A.B. // Rus. Chem. Rev. 2021. V.90. P. 627.
- Abánades A. // Energies 2023. V. 16, 437.
- Abdin Z., Al Khafaf N., McGrath B., Catchpole K., Gray E. // Sustain. Energy Fuels 2023. V. 7. P.2042.
- Harris N.L., Gibbs D.A., Baccini A., Birdsey R.A., de Bruin S., Farina M., Fatoyinbo L., Hansen M.C., Herold M., Houghton R.A., Potapov P.V., Suarez D.R., Roman-Cuesta R.M., Saatchi S.S., Slay C.M., Turubanova S.A., Tyukavina A. // Nat. Clim. Chang. 2021. V. 11. P. 234.
- Abbass K., Qasim M.Z., Song H., Murshed M., Mahmood H., Younis I. // Environ Sci Pollut. Res. 2022. V. 29. P. 42539.
- Scheuing H., Kamm J. // Renew. Energy Law Policy Rev. 2022. V. 10. P. 4.
- Williamson P. // Nature 2016. V. 530. P. 153.
- Rissman J., Bataille C., Masanet E., Aden N., Morrow W.R., Zhou N., Elliott N., Dell R., Heeren N., Huckestein B., Cresko J., Miller S.A., Roy J., Fennell P., Cremmins B., Blank T.K., Hone D., Williams E.D., de la Rue du Can S., Sisson B., Williams M., Katzenberger J., Burtraw D., Sethi G., Ping H., Danielson D., Lu T. Lorber H., Dinkel J., Helseth J. // Applied Energy. 2020. V. 266. 114848.
- Wilberforce T., Olabi A.G., Sayed E.T., Elsaid K., Abdelkareem M.A. // Sci. Total Environment. 2021. V. 761. 143203.
- Alent’ev A.Yu., Volkov A.V., Vorotyntsev I.V., Maksimov A.L., Yaroslavtsev A.B. // Membr. Membr. Technol. 2021. V. 3. P. 255.
- Beccarello M., Di Foggia G. // Energies 2023. V. 16. P. 1345.
- Johnson M.P., Rötzel T.S., Frank B. // Manag. Rev. Quarterly 2023. V. 73, P. 921.
- Pearre N., Swan L. // Energy 2020. V. 203. 117917.
- de Vasconcelos B.R., Lavoie J.-M. // Frontiers Chem. 2019. V. 7. 392.
- Parfenov V.E., Nikitchenko N.V., Pimenov A.A., Kuz’min A.E., Kulikova M.V., Chupichev O.B., Maksimov A.L. // Russ. J. Appl. Chem. 2020. V. 93. P. 625.
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-09062020-n-1523-r/energeticheskaia-strategiia-rossiiskoi-federatsii-na/iv/1_2/vodorodnaia-energetika/.
- Chen L., Qi Z., Zhang S., Su J., Somorjai G.A. // Catalysts. 2020. V. 10. 858.
- Jokar S., Farokhnia M.A., Tavakolian M., Pejman M., Parvasi P., Javanmardi J., Zare F., Gonçalves M.C., Basile A. // Int. J. Hydrogen Energy. 2023. V. 48. P. 6451.
- Stenina I., Yaroslavtsev A. // Processes. 2023. V. 11. 56.
- Tu H. // Engineering. 2021. V. 7. P. 703.
- Grigoriev S.A., Bessarabov D.G., Fateev V.N. // Russ. J. Electrochem. 2017. V. 53. P. 318.
- Pandey B., Prajapati Y.K., Sheth P.N. // Int. J. Hydrogen Energy. 2019. V. 44. P. 25384.
- El-Shafie M., Kambara S., Hayakawa Y. // J. Power Energy Eng. 2019. V. 7. P. 107.
- Shu R., Zhou L., Zhu Z., Luo B., You H., Zhong Z., He Y. // Int. J. Hydrogen Energy. 2022. V. 47. P. 41564.
- Kumar S.S., Himabindu V. // Mater. Sci. Energy Technol. 2019. V. 2. P. 442.
- Automotives statistics of China Association of Automobile Manufacturers. Beijing: China Association of Automobile Manufacturers. 2020. http://www.auto-stats.org.cn/. Chinese.
- Zhang X. // Engineering. 2021. V. 7. P. 719.
- Tan X., Chen W., Pan F. // Engineering. 2021. V. 7. P. 728.
- Cheng W., Sun L., He X., Tian L. // Dalton Trans. 2022. V. 51. P. 7763.
- Shiva Kumar S., Himabindu V. // Mater. Sci. Energy Technol. 2019. V.2. P. 442.
- Suen N.-T., Hung S.-F., Quan Q., Zhang N., Xu Y.-J., Chen H.M. // Chem. Soc. Rev. 2017. V. 46. P. 337.
- Liu L., Wang Y., Zhao Y., Wang Y., Zhang Z., Wu T., Qin W., Liu S., Jia B., Wu H., et al. // Adv. Funct. Mater. 2022. V. 32. P. 2112207.
- Clean Hydrogen in European Cities. Grant agreement No: 256848. Final Report. 2017. 237 p.
- Mekhilef S., Saidur R., Safari A. // Renew. Sustain. Energy Rev. 2012. V. 16. P. 981.
- Moura A.S., Fajín J.L.C., Mandado M., Cordeiro M.N.D.S. // Catalysts. 2017. V. 7, 47.
- Zuo Y., Sheng W., Tao W., Li Z. // J. Mater. Sci. Technol. 2022. V. 114. P. 29.
- Varcoe J.R., Slade R.C.T. // Fuel cells. 2005. V. 5. 187.
- Miller H.A., Vizza F., Marelli M., Zadick A., Zadick A., Dubau L., Chatenet M., Geiger S., Cherevko S., Doan H., Pavlicek R.K., Mukerjee S., Dekel D.R. // Nano Energy. 2017. V. 33. 293.
- Zhang J., Zhu W., Huang T., Zheng C., Pei Y., Shen G., Nie Z., Xiao D., Yin Y., Guiver M.D. // Adv. Sci. 2021. V. 8. 2100284.
- Teppor P., Jager R., Paalo M., Adamson A., Harmas M., Volobujeva O., Aruvali J., Palm R., Lust E. // Int. J. Hydrogen Energy. 2022. V. 47. P. 16908.
- Omasta T.J., Park A.M., LaManna J.M., Zhang Y., Peng X., Wang L., Jacobson D.L., Varcoe J.R., Hussey D.S., Pivovar B.S., Mustain W.E. // Energy Environ. Sci. 2018. V. 11. 551.
- Wang L., Bellini M., Miller H.A., Varcoe J.R. // J. Mater. Chem. A. 2018. V. 6, 15404.
- Peng X., Omasta T.J., Magliocca E., Wang L., Varcoe J.R., Mustain W.E. // Angew. Chem. 2019. V. 131. 1058.
- Huang G., Mandal M., Peng X., Yang-Neyerlin A.C., Pivovar B.S., Mustain W.E., Kohl P.A. // J. Electrochem. Soc. 2019. V. 166. F637.
- Douglin J.C., Varcoe J.R., Dekel D.R. // J. Power Sources Adv. 2020. V. 5. 100023.
- Douglin J.C., Singh R.K., Haj-Bsoul S., Li S., Biemolt J., Yan N., Varcoe J.R., Rothenberg G., Dekel D.R. // Chem. Eng. J. Adv. 2021. V. 8.100153.
- Bellini M., Pagliaro M.V., Lenarda A., Fornasiero P., Marelli M., Evangelisti C., Innocenti M., Jia Q., Mukerjee S., Jankovic J., Wang L., Varcoe J.R., Krishnamurthy C.B., Grinberg I., Davydova E., Dekel D.R., Miller H.A., Vizza F. // ACS Appl. Energy Mater. 2019. V. 2. P. 4999.
- Zheng Y., Omasta T.J., Peng X., Wang L., Varcoe J.R., Pivovar B.S., Mustain W.E. // Energy Environmental Sci. 2019. V. 12. P. 2806.
- Zheng Y., Huang G., Wang L., Varcoe J.R., Kohl P.A., Mustain W.E. // J. Power Sources. 2020. V. 467. P. 228350.
- Zheng Y., Mustain W. // ECS Meet. Abstr. 2021. V. MA2021-02. 1132.
- Stenina I.A., Yaroslavtsev A.B. // Pure Appl. Chem. 2017. V. 89. P. 1185.
- Vijayakumar V., Kim K., Nam S.Y. // Appl. Chem. Eng. 2019, 30, 643.
- Kalathil A., A. Raghavan, Kandasubramanian B. // Polymer-Plastics Technol. Mater. 2019. V. 58. P. 465.
- Haque M.A., Sulong, Loh K.S., Majlan E.H., Rosli R.E. // Int. J. Hydrogen Energy. 2017. V. 42. P. 9156.
- Makarova I.P. // Phys. Solid State. 2015. V. 57. P. 442.
- Lavrova G.V., Ponomareva V.G., Ponomarenko I.V., Kirik S.D., Uvarov N.F. // Russ. J. Electrochem. 2014. V. 50: P. 603.
- Bagryantseva I.N., Ponomareva V.G., Khusnutdinov V.R. // J. Mater. Sci. 2021. V. 56. P. 14196.
- Hosokawa M., Nogi K., Naito M., Yokoyama T. // Nanoparticle Technology Handbook. Elsevier. Oxford. Amsterdam. 2007. 622 p.
- Агаркова Е.А., Агарков Д.А., Бурмистров И.Н., Задорожная О.Ю., Яловенко Д.В., Непочатов Ю.К., Бредихин С.И. // Электрохимия. 2020. Т. 56. С. 141.
- Li W., Guan B., Yang T., Zhang N., Zhang X., Liu X. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2017. V. 19. 23218.
- Kim H.J., Kim M., Neoh K.C., Han G.D., Bae K., Shin J.M., Kim G.-T., Shim J.H. // J. Power Sources. 2016. V. 327. P. 401.
- Abdalla A.M., Hossain S., Azad A.T., Petra P.M.I., Begum F., Eriksson S.G., Azad A.K. // Renew. Sustain. Energy Rev. 2018. V. 82. P. 353.
- Duan C., Tong J., Shang M., Nikodemski S., Sanders M., Ricote S., Almansoori A., O’Hayre R. // Science. 2015. V. 349. P. 1321.
- H. Ding, Wu W., Jiang C., Ding Y., Bian W., Hu B., Singh P., Orme C.J., Wang L., Zhang Y., Din D. // Nat. Commun. 2020. V. 11. P. 1907.
- Mather G.C., Muñoz-Gil D., Zamudio-García J., Porras-Vázquez J.M., Marrero-López D., Pérez-Coll D. // Appl. Sci. 2021. V. 11. 5363.
- Khan K., Babar Z.u.D., Qayyum S., Hanif M.B., Rauf S., Sultan A., Mosiałek M., Motola M., Lin B. // Ceramics Int. 2023. V. 49. P. 16826.
- Rashid M.M., Al Mesfer M.K., Naseem H., Danis M. // Int. J. Eng. Adv. Technol. 2015. V. 4. 80
- Park J.-S. // Hydrogen-Based Energy Conversion. Hydrogen-Based Energy Conversion. MDPI – Multidisciplinary Digital Publishing Institute. 2021. 128 P.
- Hu C., Zhang L., Gong J. // Energy Environ. Sci. 2019. V. 12. P. 2620.
- Grigoriev S.A., Porembsky V.I., Fateev V.N. // Int. J. Hydrogen Energy. 2006. V. 31. P. 171.
- Du N., Roy C., Peach R., Turnbull M., Thiele S., Bock C. // Chem. Rev. 2022. V. 122. P. 11830.
- Lee B., Heo J., Kim S., Sung C., Moon C., Moon S., Lima H. // Energy Convers. Manage. 2018. V. 162. P. 139.
- Kayfeci M., Kecebas A., Bayat M. // Hydrogen production. In Solar Hydrogen Production: Processes, Systems and Technologies, 1st ed.; Calise, F., D’Accadia, M.D., Santarelli, M., Lanzini, A., Ferrero, D., Eds.; Academic Press: London, UK. 2019. P. 45–83.
- Kadier A., Sahaid Kalil M., Abdeshahian P., Chandrasekha K., Mohamed A., Farhana Azman N., Logroño W., Simayi Y., Abdul Hamid A. // Renew. Sustain. Energy Rev. 2016. V. 61. P. 501.
- Kadier A., Simayi Y., Abdeshahian P., Azman N.F., Chandrasekhar K., SahaidKalil M. // Alex. Engin. J. 2016. V. 55. P. 427.
- Abanades S. // Chem. Eng. 2019. V. 3. P. 63.
- Xu H., Ni M. High-temperature electrolysis and co-electrolysis. Power to Fuel. How to Speed Up a Hydrogen Economy. 2021. P. 51.
- Fallah Vostakola M., Ozcan H., El-Emam R.S., Amini Horri B. // Energies 2023. V. 16. P. 3327
- Laguna-Bercero M.A. // J. Power Source. 2012. V. 203. P. 4.
- Nechache A., Hody S. // Renew. Sustain. Energy Rev. 2021. V. 149. P. 111322.
- Song Y., Zhang X., Xie K., Wang G., Bao X. // Adv. Mater. 2019. V. 31. P. 1902033.
- Mondal S., Griffiths I.M., Ramon G.Z. // J. Membr. Sci. 2019. V. 588. P.117166.
- Stenina I.A., Yaroslavtsev A.B. // Membranes. 2021. V. 11. 198.
- Nikonenko V.V., Yaroslavtsev A.B., Pourcelly G. // Ion transfer in and through charged membranes. Structure, properties, theory. Chapter 9 in Ionic Interactions in Natural and Synthetic Macromolecules, edited by A. Ciferri and A. Perico, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, Canada. 2012. P. 267.
- Fernandez Bordín S.P., Andrada H.E., Carreras A.C., Castellano G.E., Oliveira R.G., Galván Josa V.M. // Polymer. 2018. V. 155 P. 58.
- Tian H., Wang Y., Pei Y., Crittenden J.C. // Appl. Energy. 2020. V. 262. P. 114482.
- Rebrov A.V., Ozerin A.N., Svergun D.I., Bobrova L.P., Bakeyev N.F. // Polymer Science U.S.S.R. 1990. V. 32. P. 1515.
- Kreuer K.D. // J. Memb. Sci. 2001. V. 185, P. 29.
- Волков В.И., Слесаренко Н.А., Черняк А.В., Забродин В.А., Голубенко Д.В., Тверской В.А., Ярославцев А.Б. // Мембраны и мембранные технологии. 2022. Т. 12. № 3. С. 214.
- Yaroslavtsev A.B., Stenina I.A., Golubenko D.V. // Pure Appl. Chem. 2020. V. 92. P. 1147.
- Pourcelly G., Nikonenko V.V., Pismenskaya N.D., Yaroslavtsev A.B. Applications of charged membranes in separation, fuel cells and emerging processes. in Ionic Interactions in Natural and Synthetic Macromolecules 2012. P. 761–815.
- Chakraborty U. // Appl. Energy. 2016. V. 163, P. 60.
- Geise M., Hickner M.A., Logan B.E. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2013. V. 5 P. 10294.
- Golubenko D.V., Pourcelly G., Yaroslavtsev A.B. // Sep. Purif. Technol. 2018. V. 207. P. 329.
- Kononenko N., Nikonenko V., Grande D., Larchet C., Dammak L., Fomenko M., Volfkovich Yu. // Adv. Colloid Interface Sci. 2017. V. 246. P. 196.
- Ečer J., Kinčl J., Čurda L. // Desalination Water Treatment. 2015. V. 56. P.3273.
- Sengupta S., Lyulin A.V. // J. Phys. Chem. B. 2019. V. 123. P. 6882.
- Cognard G., Ozouf G., Beauger C., Dubau L., López-Haro M., Chatenet M., Maillard F. // Electrochim. Acta 2017. V. 245. P. 993.
- Yampolskii Yu.P., Belov N.A., Alent’ev A.Y. // Russ. Chem. Rev. 2019. V. 88. P. 387.
- Luo X., Holdcroft S. // J. Memb. Sci. 2016. V. 520. 155.
- Kusoglu A., Weber A.Z. // Chem. Rev. 2017. V. 117. P. 987.
- Safronova E.Y., Osipov A.K., Yaroslavtsev A.B. // Pet. Chem. 2018. V. 58. P. 130.
- Prikhno I.A., Safronova E.Y., Stenina I.A., Yurova P.A., Yaroslavtsev A.B. // Membr. Membr. Technol. 2020. V. 2. P. 265.
- Volkov A.O., Golubenko D.V., Yaroslavtsev A.B. // Sep. Purif. Technol. 2021. V. 254. 117562.
- Zakil F.A., Kamarudin S.K., Basri S. // Renew. Sustain. Energy Rev. 2016. V. 65. P. 841.
- Wong C.Y., Wong W.Y., Ramya K., Khalid M., Loh K.S., Daud W.R.W., Lim K.L., Walvekar R., Kadhum A.A.H. // Int. J. Hydrogen Energy 2019. V. 44. P. 6116.
- Safronova E.Y., Yaroslavtsev A.B. // Pet. Chem. 2016. V. 56. P. 281.
- Gebreeyessus G.D. // Appl. Water Sci. 2019. V. 9. P. 135.
- Karthikeyan P., Meenakshi S. // J. Environ. Chem. Eng. 2020. V. 8. 103717.
- Balwani A., Davis E.M. // ACS Appl. Polym. Mater. 2020 V. 2. P. 40.
- Safronova E.Y., Lysova A.A., Voropaeva D.Y., Yaroslavtsev A.B. // Membranes 2023. V. 13. P. 721.
- Safronova E.Y., Stenina I.A., Yaroslavtsev A.B. // Pet. Chem. 2017. V. 57. P. 299.
- Adamski M., Peressin N., Holdcroft S., Pollet B.G. // Ultrason. Sonochem. 2020. V. 60. 104758.
- Safronova E.Yu., Pourcelly G., Yaroslavtsev A.B. // Polymer Degradation Stability. 2020. V.178. 109229.
- Yaroslavtsev A.B., Stenina I.A., Voropaeva E.Yu., Ilyina A.A. // Polym. Adv. Technol. 2009. V. 20. P. 566.
- Safronova E.Yu., Stenina I.A., Yaroslavtsev A.B. // Russ. J. Inorg. Chem. 2010. V. 55. P.13.
- Ketpang K., Oh K., Lim S.-C. Shanmugam S. // J. Power Sources 2016. V. 329. P. 441.
- Ercelik M., Ozden A., Devrim Y., Colpan C.O. // Int. J. Hydrogen Energy. 2017. V. 42. P. 2658.
- Xu G., Wei Z., Li S., Li J., Yang Z., Grigoriev S.A. // Int. J. Hydrogen Energy. 2019. V. 44. 29711.
- Martínez-Morlanes M.J., Martos A.M., Várez A., Levenfeld B. // J. Memb. Sci. 2015. V. 492. P. 371.
- Li J., Xu G., Luo X., Xiong J., Liu Z., Cai W. // Applied Energy. 2018. V. 213. P. 408.
- Gerasimova E., Safronova E., Ukshe A., Dobrovolskii Yu., Yaroslavtsev A. // Chem. Eng. J. 2016. V. 305. P.121.
- Golubenko D.V., Shaydullin R.R., Yaroslavtsev A.B. // Colloid Polymer Science. 2019. V. 297. P. 741.
- da Silva Marques J.L., Zanatta A.P.S., Hattenberger M., de Camargo Forte M.M. // Polímeros. 2018. V. 28. P. 293.
- Ghosh S., Das S., Mosquera M.E.G. // Polymers. 2020. V. 12. 2993.
- Stenina I.A., Yurova P.A., Titova T.S., Polovkova M.A., Korchagin O.V., Bogdanovskaya V.A., Yaroslavtsev A.B. // J. Appl. Polymer Sci. 2021. V. 138. 50644.
- Xu F., Su Y., Lin B. // Front. Mater. 2020. V. 7. 4.
- Wang L., Brink J.J., Liu Y., Herring A.M., Ponce-González J., Whelligan D.K., Varcoe J.R. // Energy Environ. Sci. 2017. V. 10. P. 2154.
- Hou J., Liu Y., Ge Q., Yang Z., Wu L., Xu T. // J. Power Sources 2018. V. 375. P. 404.
- Wang Y., Zhang D., Liang X., Shehzad M.A., Xiao X., Zhu Y., Ge X., Zhang J., Ge Z., Wu L., Xu T. // J. Memb. Sci. 2020. V. 595. 117483.
- Meek K.M., Reed C.M., Pivovar B., Kreuer K.D., Varcoe J.R., Bance-Soualhi R. // RSC Adv. 2020. V. 10. P. 36467.
- Mandal M. // ChemElectroChem 2021. V. 8. P.36.
- Aggarwal K., Gjineci N., Kaushansky A., Bsoul S., Douglin J.C., Li S., Salam I., Aharonovich S., Varcoe J.R., Dekel D.R., Diesendruck C.E. // ACS Mater. 2022. V. 2. P. 367.
- Shiva Kumar S., Ramakrishna S.U.B., Srinivasulu Reddy D., Bhagawan D., Himabindu V. // Int. J. Chem. Eng. Process Technol. 2017. V. 3. P. 1035.
- Wu T., Liu Y., Zhu G., Li Z., Yi Z., Liu L., Gao C. // Polymer. 2019. V. 185. 121949.
- Wu I., Park R.J., Ghosh R., Kuo M.-C., Seifert S., Coughlin E.B., Herring A.M. // J. Memb. Sci. 2022. V. 647. 120295.
- Yang S.C., Choi Y.-W., Choi J., Jeong N., Kim H., Jeong H., Byeon S.Y., Yoon H., Kim Y.H. // J. Memb. Sci. 2019. V. 584. P. 181.
- Yang S.C., Choi Y.-W., Choi J., Jeong N., Kim H., Nam J.-Y., Jeong H. // ACS Sustain Chem. Eng. 2019. V. 7. P. 12200.
- Yang S.C., Choi Y.-W., Choi J., Jeong N., Kim H., Jeong H., Byeon S.Y., Yoon H., Kim Y.H. // Electrochim. Acta. 2016. V. 222. P. 212.
- Mong A. Le, Yang S., Kim D. // J. Memb. Sci. 2017. V. 543. P. 133.
- Kim D.H., Kang M.S. // Macromol Res. 2020. V. 28. P. 1268.
- Xiao X., Shahzad M.A., Aqsa Y., Zhang Z., Liang X., Ge L., Zhang J., Wu L., Xu T. // J. Membr. Sci. 2020. V. 597. 117776.
- Golubenko D.V., Yurova P.A., Desyatov A.V., Stenina I.A., Kosarev S.A., Yaroslavtsev A.B. // Membr. Membr. Technol. 2022. V. 4. P. 398.
- Lin H.L., Yu T.L., Huang L.-N., Chen L.-C., Shen K.-S., Jung G.-B. // J. Power Sources. 2005. V. 150, P. 11.
- Gloukhovski R., Freger V., Tsur Y. // Rev. Chem. Engineering. 2018. V. 34. P. 455.
- Savadogo O. // J. Power Sources 2004. V. 127. P. 135.
- Nasef M. // Prog. Polym. Sci. 2004. V. 29. P. 499.
- Clochard M.C., Bègue J., Lafon A., Caldemaison D., Bittencourt C., Pireaux J.-J., Betz N. // Polymer. 2004. V. 45. P. 8683.
- Lim K.L., Wong C.Y., Wong W.Y., Loh K.S., Selambakkannu S., Othman N.A.F., Yang H. // Membranes. 2021. V. 11. 397.
- Safronova E.Y., Golubenko D.V., Shevlyakova N.V., D’yakova M.G., Tverskoi V.A., Dammak L., Grande D., Yaroslavtsev A.B. //J. Memb. Sci. 2016. V. 515. P. 196.
- Sadeghi S., Işıkel Şanlı L., Güler E., Gürsel S.A. // Solid State Ionics. 2018. V. 314. P. 66.
- Hasegawa S., Sawada S., Azami S., Hagiwara T., Hiroki A., Maekawa Y. // Quantum Beam Sci. 2020. V. 4. 23.
- Sproll V., Schmidt T.J., Gubler L. // Polym Int. 2016. V. 65. P. 174.
- Dong L., Liu X.D., Xiong Z.R., Sheng D.-K., Zhou Y., Yang Y.-M. // Chin. J. Polymer Sci. 2019. V. 37. P. 493.
- Golubenko D.V., Van der Bruggen B., Yaroslav_tsev A.B. // J. Appl. Polymer Sci. 2020. V. 137. 48656.
- Golubenko D.V., Gerasimova E.V., Yaroslavtsev A.B. // Int. J. Hydrogen Energy. 2021. V. 46. P.16999.
- Mader J., Xiao L., Schmidt T.J., Benicewicz B.C. // Polybenzimidazole/Acid Complexes as High-Temperature Membranes. In: Scherer, G.G. (eds) Fuel Cells II. Advances in Polymer Science. 2008. V. 216. Springer, Berlin, Heidelberg.
- Chen H., Wang S., Liu F., Wang D., Li J., Mao T., Liu G., Wang X., Xu J., Wang Z. // J. Membr. Sci. 2020. V. 596. 11772.
- Ponomarev I.I., Razorenov D.Y., Ponomarev I.I., Volkova Yu.A., Skupov K.M., Lysova A.A., Yaroslavtsev A.B., Modestov A.D., Buzin M.I., Klemenkova Z.S. // Eur. Polymer J. 2021. V. 156. 110613.
- Kwon S.H., Kang H., Sohn Y.J., Lee J., Shim S., Lee S.G. // Sci. Rep. 2021. V. 11. P. 1.
- Haider R., Wen Y., Ma Z.-F., Wilkinson D.P., Zhang L., Yuan X., Song S., Zhang J. // Chem. Soc. Rev. 2021. V. 50. P. 1138.
- Ponomarev I.I., Volkova Y.A., Ponomarev I.I., Razorenov D.Y., Skupov K.M., Nikiforov R.Y., Chirkov S.V., Ryzhikh V.E., Belov N.A., Alentiev A.Y. // Polymer 2022. V. 238. 124396.
- Maiti T.K., Singh J., Majhi J., Ahuja A., Maiti S., Dixit P., Bhushan S., Bandyopadhyay A., Chattopadhyay S. // Polymer 2022. V. 255. 125151.
- Krishnan N.N., Joseph D., Duong N.M.H., Konovalova A., Jang J.H., Kim H.-J., Nam S.W., Henkensmeier D. // J. Membr. Sci. 2017. V. 544. V. 416.
- Harilal, Nayak R., Ghosh P.C., Jana T. // ACS Appl. Polymer Mater. 2020. V. 2. P. 3161.
- Krishnan N.N., Lee S., Ghorpade R.V., Konovalova A., Jang J.H., Kim H.J., Han J., Henkensmeier D., Han H. // J. Membr. Sci. 2018. V. 560. P. 11.
- Lysova A.A., Ponomarev I.I., Yaroslavtsev A.B. // Solid State Ionics. 2011. V. 188. P. 132.
- Özdemir Y., Üregen N., Devrim Y. // J. Hydrogen Energy. 2017. V. 42. P. 2648.
- Cheng Y., Zhang J., Lu S., Kuang H., Bradley J., De Marco R., Aili D., Li Q., Cui C.Q., Jiang S.P. // Int. J. Hydrogen Energy. 2018. V. 43. P. 22487.
- Sun X., Simonsen S.C., Norby T., Chatzitakis A. // Membranes. 2019. V.9. 83.
- Kumar S., Sana B., Mathew D., Unnikrishnan G., Jana T., Kumar K.S.S. // Polymer. 2018. V. 145. P. 434.
- Lysova A.A., Stenina I.A., Volkov A.O., Ponomarev I.I., Yaroslavtsev A.B. // Solid State Ionics. 2019. V. 329, P. 25.
- Rosli R.E., Sulong A.B., Daud W.R.W., Zulkifley M.A., Husaini T., Rosli M.I., Majlan E.H., Haque M.A. // Int. J. Hydr. Energy. 2017. V. 42. P. 9293.
- Sana B., Jana T. // Eur.Polymer J. 2016. V. 84. P. 421.
- Lysova A.A., Ponomarev Iv.I., Volkova Yu.A., Ponomarev I.I., Yaroslavtsev A.B. // Pet. Chem. 2018. V. 58. P. 958.
- Golkhatmi S.Z., Asghar M.I., Lund P.D. // Renew. Sustain. Energy Rev. 2022. V. 161. 112339.
- Xu Q., Guo Z., Xia L., He Q., Li Z., Bello I.T., Zheng K., Ni M. // Energy Conversion Manag. 2022. V. 253. 115175.
- Agarkov D.A., Burmistrov I.N., Eliseeva G.M., Tartakovskii I.I., Bredikhin S.I., Ionov I.V., Rabotkin S.V., Semenov V.A., Solovyev A.A. // Solid State Ionics. 2020. V. 344. P. 115091.
- Mathur L., Namgung Y., Kim H., Song S.-J. // J. Kor. Ceram. Soc. 2023. V. 60. P. 614.
- Hussain S., Yangping L. // Energy Transitions. 2020. V. 4. P. 113.
- Loureiro F.J.A., Nasani N., Reddy G.S., Munirathnam N.R., Fagg D.P. // J. Power Sources. 2019. V. 438. 226991.
- Vera C.Y.R., Ding H., Peterson D., Gibbons W.T., Zhou M., Ding D. // J. Phys. Energy. 2021. V. 3 032019.
- Hossain M.K., Yamamoto T., Hashizume K. // Ceramics Intern. 2021. V. 47. P. 27177.
- Tarutin A.P., Gorshkov M.Y., Bainov I.N., Vdovin G.K., Vylkov A.I., Lyagaeva J.G., Medvedev D.A. // Ceramics Int. 2020. V. 46. P. 24355.
Supplementary files