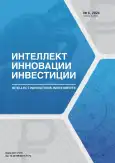Space exploration: preliminary calculation of resources
- Authors: Pogorelskaia E.Y.1, Chernov L.S.2
-
Affiliations:
- Humanitarian University
- Ural State Mining University
- Issue: No 6 (2024)
- Pages: 150-159
- Section: Philosophical Sciences
- URL: https://bakhtiniada.ru/2077-7175/article/view/278879
- DOI: https://doi.org/10.25198/2077-7175-2024-6-150
- ID: 278879
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the consideration of the phenomenon of scientific and technical space, which is relevant for the modern civilization, striving to «go too far». The work uses a structuralist methodology that allows us to identify semantic layers in a single, but multifaceted process of space exploration. The physical (objectivist) approach to the study of space is supported by the transcendental (gnoseological) idea of the conditions for comprehension of space, which forms a fairly coherent natural-technical picture in which man and the things of the world are in diverse and familiar connections. The work makes a metaphysical calculation of resources / modes that support the spatial-technical picture of the world and concludes: based on the presented conditions-foundations, it is impossible to explain the development of space. The main hypothesis is that space is tied not only to materiality in any of its variations, but also to the transcendental world. The idea of the transcendental version of space can be traced in the ancient teachings of Plato, Aristotle, who bring the divine and the ideal accompanying it to a separate area. The blindness of modern scientific and technical civilization manifests itself in fundamental materialism and the postulation of the split of the world into the area of the sensory and the supersensory. Moreover, the supersensory, the ideal is given the position of a «conflict of interpretations», «antinomies of reason», while the sensory, the practical has a reliable status of verifiability and is associated with the truth. If «time» in the tradition of the European mentality is rooted in the idea of eternity, then «space» rests on itself, is explained through itself. However, it is noticeable that the creative initiative of people to arrange the world, captures not only material environments, but also an ever-expanding virtual area, which indicates that humanity is spatially in a rugged terrain of sensory and fantasy environments. Space is increasingly dematerialized, thinning. Since the fact of scientific creativity is considered indisputable, the idea arises that the expansion of space spreads towards the intelligible spheres of being.
Full Text
Введение: онтолого-антропологические проблемы пространства
Человек живет в пространственно-временной реальности, находится в ограничениях и барьерах, которые пространство и время ставят. Отсюда такое пристальное внимание вопросам пространства и времени. И если проблема времени в современной философии рассмотрена достаточно подробно, то проблеме пространства уделено меньше внимания. Возможно, это связано с тем, что пространство на практике осваивается значительно успешнее, чем время. Опыт многообразного освоения пространства встроен в повседневную жизнь людей и зачастую не проблематизируется. Свидетельством этому служит создание современной цивилизацией глобальной техносферы, аналогичной по мощности и влиянию любой естественной оболочке Земли. Метафора техносферы коррелирует с проектом ноосферы В. И. Вернадского, согласно которому научный разум в силу своего деятельного характера, воплощается в создании технических продуктов и отношений. «Ход научной мысли, например, в создании машин, совершенно аналогичен ходу размножения организмов» [7, с. 316], – пишет Вернадский, тем самым утверждая, что научно-техническая мысль есть воплощение самой жизни и рассматривается как особая геологическая сила. Учитывая развитие виртуального направления пути цивилизации, можно сказать, что научно-техническая мысль не только геологическая сила, она выступает как энергия порождения новых структур, в том числе пространственных, меняющих соотношение и дислокацию естественных событий и потоков. Следовательно, проблема освоения пространства связана с вопросами фундаментальной онтологии и антропологии.
Условия освоения пространства
Когда говорят о пространстве, имеют в виду два подхода к рассмотрению этой темы. Первый подход, физический, предполагает, что пространство – это объективная, независимая от человека реальность, заполненная различными материальными объектами, в ведении которой находятся протяженности, дистанции и расстояния. А поскольку возникает запрос в преодолении этих расстояний, то сразу ставятся вопросы об условиях осуществления таких задач. Исходя из представления о пространстве как физической величине, цивилизация строит технические средства различной мощности и стремится одолеть то, что доступно, расширить горизонт, который на любой момент является пределом видимости и понимания. В истории человеческих решений можно выделить два хронологически принципиальных вектора, работающих на разработку данного запроса: эпоха освоения новых земель и эпоха освоения космоса. Что толкает человечество на расширение своего присутствия в мире? Спрашивается – какая тяга активизируется внутри склонного к безопасности, прагматичного и расчётливого индивида, в общем-то привязанного к своему дому, культуре, времени жизни?
Второй подход к проблеме освоения пространства, трансцендентальный, идет от Канта, который рассматривает пространство как априорное условие чувственного опыта. «Пространство не есть эмпирическое понятие, выводимое из внешнего опыта. В самом деле, представление о пространстве должно уже заранее быть дано для того, чтобы те или иные ощущения были относимы к чему-то вне меня» [9, с. 51], – пишет И. Кант в «Критике чистого разума». Пространство укоренено в субъекте и отвечает за восприятие порядка внешних вещей. Благодаря врожденному представлению о пространстве мы можем отличать форму предметов и разные направления действий во внешнем мире. Это имеет принципиальное значение, поскольку никто на головах не ходит: есть врожденный опыт тела, который позволяет нам ловить мяч или стрелять из лука, не прибегая при этом к рациональным расчётам и анализу. Человеческое тело укоренено в мире трех измерений, в природу человеческого существа встроен пространственный сенсор и задачи направления пути или действия появляются только в его активизации. Пространственное чувствование нельзя объяснить. В этом заключается трансцендентальная априорность пространства. «Только с точки зрения человека можем мы говорить о пространстве, о протяженности и т. п.» [9, с. 53], – полагает Кант. Это означает, что наше понимание пространства как трехмерного вместилища предметов является исключительно нашим способом восприятия расположения предметов, но к свойствам самих вещей отношения не имеет. Мир может позволить себе быть любым, но в нашем распоряжении находится только трехмерное восприятие предметов и их соотношений, и мы вынуждены довольствоваться этим. Однако человек настолько находится в лоне естественной установки, что его нисколько не напрягает такая сенсорная ограниченность, напротив, он хронически слеп в отношении этого факта. Проявить способность к пространственной ориентации в мире обычно означает достаточно ловкое управление своим телом или движущимися предметами, здесь ощущения трех измерений пространства достаточно – не обязательно проходить сквозь стены – достаточно в нужном месте сделать дверь. Люди, у которых врожденный потенциал пространства развит до уровня таланта, могут стать выдающимися спортсменами или пилотировать сложнейшие машины. Но если человек физически слаб, это еще не аргумент в пользу того, что опыт пространства ему недоступен. На помощь приходит техника, с ее способностями усиливать обертоны человеческой сенсорики. Но Кант прав в том, что пространственно мы будем там, куда приведут нас наши тела. Тело – это первичная реальность, подходящая для осуществления пространственных действий. А как человек попадает на Луну – достигнет ее при помощи телескопа, автоматической межпланетной станции, пилотируемого космического корабля или компьютерной программы – это вопрос заинтересованности и ресурсов разного уровня.
Максимальной скоростью во Вселенной на данный момент является скорость света, и, хотя ведутся разговоры о разных скоростях движения фотонов, тем не менее на данный момент скорость света рассматривается как константа и одновременно как горизонт событий, за который заглянуть пока невозможно. Также как скорость света при физическом представлении о пространстве является определенным пределом для понимания мира, так и трехмерное врожденное восприятие пространства является мерой, внутри которой человек вынужден жить и реализовывать свои чувственные способности. Оба этих подхода ставят перед человечеством вопросы о пределе.
Однако наука изначально, со времен античной Греции до состояния современной техно-научной версии нацелена на то, чтобы всякий предел убрать. Уже у Аристотеля возникает рассмотрение бытия как действия, акта, по сути не ограниченного ничем, поскольку в своем абсолютном состоянии бытие совпадает с благом. Бог, в понимании Аристотеля, как вечный двигатель и учредитель порядка является воплощенным актом/бытием как таковым. Бог (нус, ум), находящийся вне времени, организует всякое движение в космосе, и всякая вещь находится в непреодолимой тяге к бесконечному благу, носителем и воплощением которого является вечный бог. Всякая природная вещь движется к своему естественному месту. Кроме естественных движений существуют насильственные, они связаны непосредственно с деятельностью, мастерством (techne) человека. Человек, как и бог, согласно Аристотелю, наделен умной душой, которая позволяет перемещать вещи в пространстве, менять их место по-своему усмотрению, изменять природы вещей. «Вообще искусство в одних случаях завершает то, что природа не в состоянии произвести, в других же подражает ей» [3, с. 98], – пишет Аристотель в «Физике».
Чем располагает техно-наука для реализации себя как действия?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо для начала посмотреть на то, чем подготовлено научное действие, его арсенал. Основной методологией в решении данного вопроса будет «метафизическая бухгалтерия» или ресурс-ориентированный подход как процесс сбора и систематизации информации по наличию средств для освоения пространства. Для этого мы вводим понятие режима – как определенного рабочего состояния, имеющего соответствующий своей природе потенциал, подчиненный определенным правилам.
Режим 1 – технический habitus
Понятие habitus можно найти в поздней схоластической философии у Франсиско Суареса в «Метафизических размышлениях» (1597 г.) и означает оно механический навык, который формируется в результате повторений определенных мыслительных или волевых операций. Суарес пишет, что «habitus понимается как обозначение формы, которая придает легкость в действии и готовность к нему» [19]. Конечно, habitus связан с опытом, он управляет привычным автоматическим поведением и архивами памяти. Познавательная деятельность при выполнении сходных задач обрастает определенными привычными реакциями и выражается в типичных алгоритмизированных решениях. Причем, сознательность, рефлексия в этом процессе никуда не девается, она присутствует и человек, встречаясь со знакомой ситуаций или сложностью, готовый к ней, чаще всего действует по заранее отработанному мыслительному шаблону или технологии.
Механический навык можно уподобить руслу, проделанному водой/рекой для своего свободного движения. Habitus – некий фарватер движения мысли или проведения воли, который позволяет совершать определённые экономии в мышлении и поступках, «не изобретать велосипед», а двигаться свободно и уверенно, дальше, «по разрешенным орбитам». Habitus – это проложенные пути, протоптанные тропинки, известные освоенные маршруты, возводящие исследователя в разряд «местного», то есть хорошо ориентирующегося в определенных условиях человека. Habitus приобретается тренировкой, повторением, бесконечными репетициями, выводящими в итоге новичка до уровня мастера, таким образом, на примере habitus реализуется одно из основных свойств техники – облегчение выполнения действия или экономия ресурсов.
Техническому пространству принадлежат расстояния. В нем обитают вещи и отношения между ними, подчиненные проблемам протяженности и интервалов. «Ближайшим к пространству элементом мира является вещь» [13, с. 178], – пишет Владимир Молчанов.
В метафизическом смысле – техническая вещь – это коллективный навык, вынесенный на материальный носитель. Навык (habitus) здесь понимается как множество успешных и не очень умозрительных и практических действий, связанных между собой в большинстве случаев общим целеполаганием, но включающим в себя, также ряд случайных сопутствующих факторов, придающих определенные индивидуальные оттенки и повороты в формировании судьбы технического продукта. Техническая вещь – это овеществленная деятельность. Когда что-то создается помимо самого процесса, вся мощь сосредоточена внутри созданной вещи. Всякая техническая вещь – это скрученный след творческих познавательных действий, в ней оседает коллективный технический навык, сформированный повторением, сериями, циклами. Технический habitus формируют люди, имеющие сходный интерес, усиливающие во взаимодействии способности друг друга, вследствие чего формируется единый фарватер, внутри которого произойдет сплавление разных необходимых ресурсов в единое техническое изделие. Совокупность технических изделий и отношений создают технологическое пространство.
Внутри технического habitus заложено стремление к самосовершенствованию. В природу технического habitus встроена любовь к решению проблем. У вас есть проблема? Давайте создадим инструмент/машину/технологию, который позволит ее решить. Хотя люди, «вклеенные своими способностями» в технический habitus не всегда понимают, с чем и где нужно работать, с кем и когда имеет смысл договариваться, где лучше найти поддержку, протекцию, необходимые средства. Но в любом случае инженерное мастерство и вещи, которые возникают в его лоне, имеет прагматическую ориентацию.
Технический habitus нацелен на реализацию идей, ему обязательно надо воплотиться как практичное решение проблемы. Здесь живет хроническая нетерпимость к неэффективным инструментам или неоптимальному решению задач. Оптимальное решение – решение с наименьшими затратами ресурсов, любых – временных, денежных, человеческих, энергетических, информационных и т. д. Раздражает любая неэффективность. Это здесь количество превращается в качество. Именно здесь воплощаются самые экзотические идеи.
Точкой доступа к технической реальности является сформированный навык. Именно выработанный навык позволит разделить людей на знающих и незнающих, тех, кто умеет пользоваться техническим предметом или нет, или, как в случае с ковчегом Ноя – разделить на праведников и грешников. Удивительно, что именно техническая вещь – Ноев ковчег – была первичным средством по спасению праведников. Уметь пользоваться технической вещью – отдельное искусство. Мы говорим, например, что человек прекрасно водит автомобиль или замечательно настраивает рояли, понимая, что в любом деле, связанным с использованием технических вещей и алгоритмов, предполагается то самое techne, талант мастера, который так завораживал древних греков: любовь к своему делу.
Также как человек не возникает один, а как совокупность человеческих отношений, как общество, так и любая техническая вещь возникает как техно-отношение, со своими законами, принципами, допущениями и специализацией. Всякая техническая вещь создается сразу вместе с техно-средой или техно-пространством, провоцируя собственным существованием вторую природу второй природы – дополнительный мир для себя, под себя. Она рождается в технических агломерациях мастерских, лабораторий, фабрик, промышленных зон. Всякая техническая вещь возникает как сообщество вещей, как вид. Здесь индивидуальные черты технического предмета не ломают коллективный образец, однако, если таковое случается, то вещь/инструмент приобретает имя, например, скрипка Страдивари, и здесь грань между техникой и искусством неуловима, точнее ее нет. Здесь техника возвращается в свое лоно, к своему корню techne.
Технический habitus, понимая свою «железную» сущность, стремится облачиться в эстетическую форму, привлекая к себе и в себя вынесенной на обозрение мощью и благом – таковыми являются, например, высокотехнологичные аэропорты и «умные» пространства футуристических зданий.
Технический habitus накладывается на этнические и национальные традиции и в этом смысле технический habitus – отдельная самобытная среда со своими условиями и принципами существования, которые, тем не менее, достаточно комплементарные, то есть согласны встраиваться в различные культуры с их национальными и религиозными допущениям. Современные цифровые ландшафты, сформированные новыми формами технического habitus особенно дружелюбны и расположены к открытому взаимодействию, в них «активный пользователь интернета оставляет множество информационных следов: куда ходил, что ел, кого обнимал» [14, с. 107], – иронизирует Р. В. Пеннер, тем самым демонстрируя, что цифровое пространство со своими логиками существования, интегрируется в пространство физическое.
Режим 2 – техносфера: многообразие технических вещей в открытых связях
Бруно Латур называет готовые технические вещи «черными ящиками», то есть объектами, сложность которых запрятана во внешне привлекательную оболочку привычной технической вещи, например, миксера или микроволновки. Для обычного потребителя наружу выставляется удобный интерфейс, позволяющий управлять технической вещью, не имея никаких, даже элементарных инженерных знаний. «Чтобы люди не боялись фотографировать, объект должен быть дешевым и простым…Вы нажимаете кнопку, а мы делаем все остальное, или как говорим мы, французы: Clic, clac, merci Kodak» [11, с. 189]», – объясняет Латур. Пространство, которое порождается такого рода вещами и технологическими отношениями – пространство контроля. Латур уверен, что логика развития техно-науки имеет целью создание «черных ящиков»: фактов или машин, это имплицитно содержится, например, в его работах «Наука в действии» [11] и «Политики природы» [12].
Если исходить только из основания целесообразности, то каждое научное открытие должно оканчиваться произведением нового технического предмета. Можно согласиться с Латуром и сказать, что техно-наука изначально формируется и проявляет себя как сетевое образование, стремящееся в идеале нивелировать в своих техно-плодах человека как ненадежное и потенциально слабое звено. Вопросы закрытых специализированных технических вещей решаются, по мнению Латура, созданием протяженных сетей, их обслуживающих. Всякая техническая вещь встроена в технологический поток. Технологическая поточность проявлена историческими убываниями технических вещей, будь то устаревание, износ, утилизация, а также требованием сервисного обслуживания, наличием специалистов нужной квалификации, наличием деталей-копий, аналогов, в случае вынужденного ремонта или модернизации. Вроде все логично, но если мы имеем в перспективе конечные цели создания «черных ящиков», то рост научного знания объяснить нельзя. Наука в таком описании похожа на недовольную мировую волю Артура Шопенгауэра, производящую нечто, что сразу же устаревает и подвергается остракизму.
Моральное устаревание технических предметов укоренено в маркетинговых стратегиях, однако, при этом, в технологических ландшафтах городов мирно уживаются, включаясь в реальные социо-инженерные связи, технические образцы из разных временных эпох. Интернет-сети, несмотря на свой «передовой снобизм», до сих пор нуждаются в электросетях. Структурно это напоминает ситуацию с коннотативным уровнем языка, который существует на базе денотативного [4]. С другой стороны, характер информационных сетей показывает, что информация сопоставима с веществом и энергией – замечает в своей работе Н. В. Бряник: «информация существует наряду с вещественными и энергетическими параметрами объектов и представляет собой меру порядка» [6, с. 325].
Мы полагаем, что универсализация технических вещей проявляется не через их стерильную закрытость, а через их текучесть или склонность вступать в диалог как между собой, так и с природами естественного происхождения [18]. Для таких вещей необходимо открытое пространство, не имеющее горизонта и предела действия или мысли. Машины и механизмы любого уровня, которые встраиваются на диалоговых основаниях в этот мир, уподобляются домашним животным, к которым привыкают, которых любят и хотят о них заботиться. Не все решается автоматическим типом связи, техническое бытие сплавляется с культурными традициями и политическими идеологиями, создавая техно-культурные симбиозы. Например, самый распространенный и востребованный технический предмет сейчас – смартфон – удивительный инструмент современных взаимодействий, за который увлеченные потребители готовы выложить порой очень крупную сумму денег. Смартфоны встроены в повседневный опыт миллионов людей, но каждый человек, покупая смартфон, приобретает определенную техническую заготовку, техническую зону, которую будет обустраивать по-своему, наполняя ее индивидуально выбранными приложениями. Хотя внешне смартфоны выглядят как универсальные технические средства коммуникации, на самом деле они имеют в том числе политические и программные условия: смартфоны работают либо на Apple iOS, либо на Android, а это системы корпоративные, каждая из которых имеет свою техническую конституцию. «Телефон предстает перед нами в истинном свете: как разъем в сети тесно переплетенных технических, финансовых, юридических и операционных структур, которые и образуют современную экосистему устройств и сервисов» [8, с. 32], – пишет Адам Гринфилд.
Совокупность технических вещей, связанных между собой и человеком системой отношений, включенных в обще-космический, энергетический и информационный обмены, с разными степенями зависимости и влияния, называется техносферой. Происхождение термина «техносфера» связывают с именем Питера Хаффа, хотя, конечно, влияние научно-технического прогресса на биосферные процессы было рассмотрено значительно раньше, например, Э. Зюссом и В. И. Вернадским. Определенность и постоянное развитие техносферы свидетельствует не только о прагматическом характере индивидов, ее населяющих, но и о романтической приверженности человечества техническим утопиям, каковыми являются панацея, философский камень, вечный двигатель, машина времени и т. д.
Режим 3 – маршруты и мечты
Плоская онтология не поднимет ракеты в небо. Всегда надо искать то, что вдохновляет.
Первичная гипотеза такая: пространство не имеет отношение только к материальному миру. Пространство начинает осваиваться внутри человека, когда сознание увлечено высокой целью, а, следовательно, не детерминировано только априорными основаниями трехмерного восприятия, а включено в единый интеллектуально-чувственный процесс. Пространство – синтетическое образование.
Целевая причина определяет направление любого движения. Согласно Аристотелю, всякое движение/изменение тела есть способность занять лучшее место согласно своей природе, но на самом деле всякое движение/перемещение/изменение связано со стремлением к богу как совершенному существу. Античная онтология с необходимостью предполагает вертикаль, связывающую мир совершенных сущностей с судьбой любой конкретной индивидуальности. Античное tehne (умение, мастерство) всегда есть выход к трансцендентному миру, techne осуществляет связь трансцендентного уровня бытия с природами естественных вещей, которые представляют собой определенные условия или допущения для последующих манипуляций с вещью. Техника имеет в своем основании корень techne, роднящий ее с любыми видами искусств [16], выводящих напрямую, через метафору к истине.
Мы полагаем, что стоит обратить внимание на то, что в любой научной и инженерной деятельности изначально присутствует обращенность в иные нематериальные миры. По-другому не определить творческие всполохи. За всяким актом научного творения находится сопротивление смерти. «Научная мысль – научное творчество – и научное знание идут в гуще жизни, с которой они неразрывно связаны, и самим существованием своим они возбуждают в среде жизни активные проявления» [7, с. 352], – пишет В. И. Вернадский. Творение – это всегда высвобождение жизни. Изначальная творческая интенция, порождающая техническую вещь, есть techne, талант, дар. Это некая специфическая сила желания и способности произвести на свет новую сущность в обход естественному рождению или природной логике. Творческий труд – один из самых трудных, реализация человеческих талантов не происходит автоматически, существует внутреннее сопротивление, инерция души, которую в творческом процессе необходимо преодолеть, порождая новые формы существований и связей, раздвигая горизонт. Джорджо Агамбен пишет: «Если бы творение было только способностью-к-, которая может слепо переходить в акт, искусство деградировало бы до простого исполнения» [2, с. 40].
Техника не только решает прагматичные вопросы, но связана с антропологической особенностью человека – находиться пространственно на границе миров, быть порталом в иное измерение. Свидетельством этой идеи можно рассматривать озабоченность человека киберпространством, выводящим ограниченного телесно индивида в области воображения и фантазий.
Блаженный Августин в своем труде «О граде Божьем» рассуждает о том, что человек есть животное субботы, он создан для рая, «где будет нескончаемый досуг, где не будет труда, вызываемого какой-либо нуждою» [1, с. 317]. Радость человеческая связана так или иначе с благом, с бездеятельностью, но не той, что свойственна тунеядцам, ведь человек создан творцом. Человек не должен быть занят тяжелым трудом. Не всякий труд облагораживает и это прекрасно показано в произведениях Андрея Платонова [15].
Подлинное бытие всегда зовет, утверждает Хайдеггер, но зов этот не может быть обращен к тому, что не может его воспринять, например, не способно его слышать животное, находящееся в кольце своих инстинктов. И дело здесь не только в человеческом интеллекте, животные тоже достаточно умны, умеют хитрить. Человек единственное существо, которое способно воспринять зов бытия, вероятно здесь Хайдеггер имеет ввиду пограничное состояние человека: между земным и небесным (трансцендентным) [17]. Хайдеггера очень беспокоила могила целесообразности западноевропейской технонауки.
Кант во введении к «Критике чистого разума» ставит вопрос: «как возможна чистая математика, как возможно теоретическое естествознание?» [9], тем самым показывая на стороне какого «правительства» он находится. Кант – квинтэссенция научно-технического отношения к миру, где положение «знание – сила» обосновывает свою легитимность на уровне априори, апеллируя к природе человеческого устройства. Самое надежное законодательство – конституция законов природы.
Кант считает пространство объективным: априорность и геометрическая трехмерная определенность пространства проявляет себя всегда одинаково и соответствует парадигмальному представлению о перспективе. Практика линейной перспективы возникает в эпоху Ренессанса и отчасти связана с возникновением camera-obscura [10], которая позволяла создавать светотеневые копии трехмерных искривленных предметов, которые впоследствии художники могли просто обрисовать рукой на стенке ящика или комнаты, куда осуществлялась проекция. Сложные предметы превращались в двумерные плоские картинки. Так возникает технически видимое пространство, оно объективно, поскольку возникает в объективе технически организованного взгляда. И этот «технический взгляд» – всегда привилегированное положение, то что синхронно в языке называется «точка зрения». Кант считает, что всякое выхождение за пределы такого объективного представления о пространстве, структурирующего трехмерной геометрией, с необходимостью «забрасывает» познающего субъекта в антиномии. Ужас диалектических сред антиномий проявляется для Канта в том, что трансцендентальный путник теряет чувство реальности, отрывается от сенсорных определенностей и выходит в лабиринты рассудка, способного обосновать логически любую мысль. Возникают всякого рода иллюзии или видимости, которые доверчивый человек может принять за реальность. Для Канта «реальность в пространстве – это материя» [9, с. 245]. Если взять одну из классических кантовских антиномий: мир конечен в пространстве и во времени – мир бесконечен в пространстве и во времени, то на данный момент техно-наука полагает, что мир имеет начало во времени – 13,8 миллиарда лет, но бесконечен в пространстве. Таким образом, положения – тезис и антитезис кантовской антиномии – одинаково верны и являются взаимодополнительными.
Трехмерное априорно-конструируемое пространство – это геоцентрическая система сознания, конституирующая предметы внешнего мира/вещи, отношения зафиксированными врожденными способами восприятия. Но технические возможности такую систему восприятия начинают расшатывать.
С возникновением новых оптических приборов представление о пространстве рассеивается в вариациях и условиях, а восприятие меняется, распадаясь на множественные центры. Появление новых технических средств позволяет ощутить, что априорность трехмерного восприятия имеет расширения, а, следовательно, на выходы в иные дополнительные малые пространства. Приборы позволят воспринимать один и тот же предмет вообще в противоречивых конструкциях – примером тому служат объекты квантового мира [5], демонстрирующие, что целостность их восприятия возможна только интеллектуально. Значит – не хватает единого взгляда, момента, для восприятия ситуации. Пространство квантовых объектов не априорно – пространство становится синтетической конструкцией.
Заключение
Проблема освоения пространства связана с вопросами фундаментальной онтологии и антропологии. Рассматривая пространство с физической точки зрения или, изучая априорные условия восприятия внешнего мира, с трансцендентальной позиции, мы приходим к выводу, что есть некие основания или режимы, которые включаются, когда мы ставим себе целью освоение пространства, то есть когда осуществляется переход в область научно-технических решений. Одним из режимов освоения пространства является технический habitus, который воплощает взаимодействие технических навыков индивидов с внешней средой. Результатом этого взаимодействия является появление совокупности технических вещей и связей, что формирует еще один вариант режима освоения пространства – техносферу. Техносфера рассматривается как сообщество людей, технических вещей и технологических магистралей, охвативших планетарные оболочки Земли с тенденцией экстраполяции на значительные расстояния в космические дали. Еще одним важнейшим режимом, позволяющим выйти за пределы естественных сред, является метафизическая устремлённость творческих интенций научно-технической мысли, мотивированной расширением горизонтов возможного понимания мира и влияния на него. Поскольку в итогах научно-технического отношения возникают новые уровни порядка, новые уровни организованности, мы можем говорить о том, что научно-техническое сознание занято формированием новых синтетических структур, в том числе пространственных структур.
Практическая значимость данной работы укладывается в традицию рассмотрения философских оснований предметов исследования, таких как пространство, время, techne, и выражается в понимании целостности хода онто-гносеологического процесса освоения мира.
About the authors
Elena Y. Pogorelskaia
Humanitarian University
Author for correspondence.
Email: schreibigus@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9723-465X
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the Department of Social and Cultural Service and Tourism
Russian Federation, YekaterinburgLeonid S. Chernov
Ural State Mining University
Email: leon-chernov@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-2277-2899
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the Department of Philosophy and Cultural Studies
Russian Federation, YekaterinburgReferences
- Avgustin, A. (2016) O Grade Bozhiem [About the city of God]: Moscow; Berlin: Direkt-Media, Book 4, pp. 19–22. – 334 p. (In Russ.).
- Agamben, D. (2021) Tvorenie i anarkhiya. Proizvedenie v epokhu kapitalisticheskoi religii [Creation and anarchy. The work in the era of capitalist religion]. M.: Gileya, 160 p.
- Aristotel’ (1981) Sochineniya. V 4-kh t. T.3 [Essays. In 4 vols. 3]. M.: Thought, 613 p.
- Bart, R. (1989) Izbrannye raboty: Semiotika: Poetika [Selected works: Semiotics: Poetics]. M.: Progress, 616 p.
- Bryanik, N. V. (2023) [Criteria of scientific character and their evolution as a problem of philosophy of science]. Intellekt. Innovacii. Investicii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol.6, pp. 126–133. – https://doi.org/10.25198/2077-7175-2023-6-126. – EDN: ZPIEYQ. (In Russ.).
- Bryanik, N. V. (2021) Ot klassiki k postneklassike: etapy razvitiya nauki sovremennogo tipa (Filosofskii analiz klassicheskoi, neklassicheskoi i postneklassicheskoi nauki) [From classics to postnonclassics: stages of the development of modern science (Philosophical analysis of classical, non-classical and postnonclassical science)]. M.: Academic project, 373 p.
- Vernadskii, V. I. Biosfera i noosfera [Biosphere and noosphere]. M.: Publishing house. AST. 640 p.
- Grinfild, A. (2019) Radikal’nye tekhnologii: ustroistvo povsednevnoi zhizni [Radical technologies: the device of everyday life]. M.: Publishing house «Business» RANKhiGS, 424 p.
- Kant, I. (2020) Kritika chistogo razuma [Criticism of pure reason]. M.: Academic project, 567 p. (In Russ., transl. from German).
- Kittler, F. (2009) Opticheskie media. Berlinskie lektsii 1999 g. [Optical media. Berlin lectures 1999]. M.: Publish.house Logos; Gnozis, 272 p. (In Russ., transl. from German).
- Latur, B. (2013) Nauka v deistvii: sleduya za uchenymi i inzhenerami vnutri obshchestva [Science in Action: Following Scientists and Engineers Inside Society]. SPb.: Publishing House of the European University at St. Petersburg, 414 p. (In Russ., transl. from Eng.).
- Latur, B. (2018) Politiki prirody [Politics of nature] M.: Ad Marginem Press, 336 p.
- Molchanov, V. (2015) Fenomen prostranstva i proiskhozhdenie vremeni [The phenomenon of space and the origin of time]. M.: Academic project, 277 p.
- Penner, R. V. (2024) [Digital identity: theory and methodology]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7. Filosofiya. [Bulletin of Moscow University. Series 7. Philosophy]. Vol. 48. No. 2, pp. 98–113. (In Russ.).
- Platonov, A. P. Gosudarstvennyi zhitel’: Proza, rannie soch., pis’ma [State Resident: Prose, Early Works, Letters. Minsk: Mastatskaya Litatatura]. Minsk: Mastatskaya litatatura, 1990. – 702p. (In Russ.).
- Pogorel’skaya, E. Yu. Chernov, L. S. (2021) [Philosophy of mastery (on the example of the legacy of PP Bazhov)]. Socium i vlastʹ [Society and Power]. Vol. 4 (90), pp. 107–119. – https://doi.org/10.22394/1996-0522-2021-4-107-119. (In Russ.).
- Khaidegger, M. (1993) Vremya i bytie: Stat’i i vystupleniya [Time and Being: Articles and Speeches]. M.: Republic, 447 p.
- Chernov, L. S., Pogorelskaia, E. Iu. (2017) Experiment the Problem of Interference. Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. – Vol. 10, No. 4. – pp. 456–466. – https://doi.org/10.17516/1997-1370-0054. – EDN: YLIBEV.
- Suarez Francisco de (1597) Disputationes metaphysicae. Available at: http://homepage..ruhr-uni-bochum.de/Michael.Renemann/suarez/ (accessed: 08.05.2024).
Supplementary files