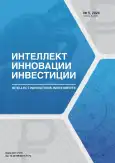Philosophical experience of searching for anthropological strategies in the context of religious philosophy and Christian anthropology
- Authors: Malakhova O.N.1
-
Affiliations:
- Udmurt State Agricultural University
- Issue: No 5 (2024)
- Pages: 126-135
- Section: Philosophical Sciences
- URL: https://bakhtiniada.ru/2077-7175/article/view/278098
- DOI: https://doi.org/10.25198/2077-7175-2024-5-126
- ID: 278098
Cite item
Full Text
Abstract
The article discusses the topic of perspective for philosophical-anthropological research. Three directions of a possible philosophical-anthropological strategy are presented: anthroposocioecological, cultural-immunological, post-humanistic. These different directions are united by posing the question of a person in the aspect of his personality’s development. For all their advantages, a significant drawback is that they do not use the capabilities and traditions of the Russian religious and philosophical heritage to solve this problem. Therefore, the methodology of our research is based on an existential-anthropological approach: it allows to consider the object of study through the prism of the essential foundations of human existence and includes the methodology of Russian religious philosophy. To solve research problems, a complex of general scientific methods were used: description, analysis, comparison, synthesis, deduction, induction.
As a result of the research, we come to the conclusion that the question of man in the philosophical thought of the last century was resolved in the context of removing methodological contradictions in the classical research tradition, based on the principles of subject-object dichotomy, anthropocentrism and rationalism, since it is not resolved the contradiction between the world of essential human values and the world of everyday life: they remain unharmonized. This characterizes the projects of the last century, as well as most modern ones. It is argued that the discrepancy between scientific approaches and principles of studying man in its entirety has become the main reason for the research crisis. The solution is seen in turning to the idea of man as an holistic, complexly organized and developing system, presenting man as the «likeness of God» in building research within the framework of moral-ontological and dialogue approaches, and using the method of dialectics, the principles of integrity, theocentricity and dynamism. It is believed that the development of anthropological discourse is possible through an appeal to religious philosophy in its domestic tradition, synergetic anthropology, and the tradition of Orthodox Christian thought about man.
Full Text
Введение
На протяжении многовековой истории философской мысли вопросы о человеке, о его месте в мироздании и предназначении, о возможности и границах познания себя и мира были одними из ключевых, а их осмысление во многом обусловливалось философской традицией и методологией. Не последнюю роль играло своеобразие исторической эпохи: она всегда задавала и характеризовала вектор мысли.
Современная цивилизация такова, что, ориентированная на конструирование нового – цифрового – мира, необходимо вовлекает человека в стремительный ритм повседневной жизни. Складывается впечатление, что по причине быстроты изменений, в том числе самого человека, глубоко и основательно осмыслить происходящее практически невозможно. Тем не менее, сегодня в философской антропологии насчитывается немалое количество научных разработок. В них, однако, все чаще о человеке говорится в аспекте его отчужденности от собственно человеческого бытия и исследовательского кризиса. Это является своеобразным вызовом для философов и актуализирует анализ ряда вопросов, ответы на которые позволяют открыть не только панораму освящения темы человека и его бытия, но и определить ее будущее. Последнее обстоятельство не вызывает сомнений относительно своей значимости, поскольку речь идет о судьбе целой области философского знания.
В рамках каких подходов и традиций, аспектов и методологии разрабатываются философско-антропологические проекты? Каковы преимущества и ограниченность используемых в них методологий? Каковы перспективы исследований, в которых человек предстает во всей полноте, самобытности и уникальности своего бытия? Ответы на данные вопросы подаются и анализируются в работе как философский опыт искания антропологических стратегий, имеющий свое оформление в антропологических проектах недавнего прошлого, настоящего, а также в будущих проектах: их построение в рамках взаимодополняющих традиций и методологий отечественной религиозной философии и христианской антропологии представляется одним из достойных ответов на вызов, связанный с кризисом антропологического дискурса в современной философской мысли.
Целью исследования является определение теоретико-методологических перспектив развития философско-антропологической стратегии, позволяющей представить человека как «сложное целое» в аспекте становления личности и с учетом метафизических принципов бытия.
Общая характеристика научной литературы по теме
В плане наших исследований можно выделить два основных полюса источников, в которых сегодня освещается тема человека: в одних речь идет о причинах ее актуализации, необходимости разработки новых антропологических стратегий и концептов. В других предпринимаются попытки реанимировать идею человека, представленную в русской религиозной философской традиции. Для того, чтобы прояснить особенность текущего философско-антропологического исследовательского поля, руководствуясь при этом авторским видением выборки исследований, остановимся на некоторых из них.
Ряд авторов высказывает озабоченность относительно состояния и перспектив культурно-цивилизационных процессов, а также их антропологических и ценностных оснований. В этой связи исследовательский интерес направлен на «изучение процессов трансформации понимания человека в условиях взаимодействия человека и техники». Отмечается, что среди последствий и сопутствующих факторов цифровизации культуры можно назвать «превращение человека в ресурс для принятия технологических решений, псевдоэкономический позитивизм, формирование модели личности шизоидного типа, доминирование нейронаучных объяснений природы человека» [20, c. 123]. Один из вариантов теоретико-методологического решения вопроса предлагает переосмыслить концепт «природа–человек–социум–индивид», философию культуры В. С. Степина и идею «мировоззренческих универсалий культуры» [25] с точки зрения антропосоциоэкологического подхода, в котором на первый план выходит философско-этическая компонента. Речь идет о мировоззренческих и этических универсалиях, среди которых значатся «всечеловеческие жизненные ценности». Прежде всего, это «достоинство человека, начиная с добродетели чувства собственного субъективного психологически переживаемого достоинства до осознанного признания государственно-национального и всечеловеческого достоинства» [13, с. 64].
В проекте культурной иммунологии Б. В. Маркова акценты расставляются иначе: ценностные основания развития конкретной культуры – установки, нормы, традиции – определяются как влияющие на проектирование научных теорий, а взаимопроникновение разных культур трактуется как благоприятный процесс в смысле их обновления [18, с. 2]. По мысли ученого, в вопросах, связанных с темами «чужой», «Другой», «взаимоотношение с другим» (например, человек, культура, традиции, техника и т. д.), «речь должна идти о признании и освоении другого с пользой для себя» [18, с. 11]. Культурная и аксиологическая коннотации изучения человека присутствуют в проекте философской и визуальной антропологии Д. Ю. Дорофеева: в нем выявляются «специфические особенности визуальной автопрезентации, коммуникации и интерсубъективности» [10, с. 48]. Философ различает понятия «человеческий образ» и «визуальное изображение», раскрывает и обосновывает суверенное, самостоятельное и центральное значение визуального образа человека в современных исследованиях. В проекте он трактуется как «Я в качестве спонтанной, осуществляющейся в основном на дорефлексивном уровне манифестации человеческого бытия в феноменальной эстетической форме» [10, с. 48].
Имеет место продолжение и развитие традиции инверсионной антропологии. Так, в сингулярной философии Ф. Н. Гиренка разворачивается мысль о двойственности человека, а именно: как несовпадение с самим собой. Человек понимается как сингулярное событие – взрыв галлюцинаций – внутри которого он презентует себя, то есть становится человеком [5]. Мысль о двойственной природе человека присутствует во многих проектах, например, в проекте мессианской антропологии Б. В. Маркова. Философ дает следующее объяснение происхождению идеи двойственности человека: «поскольку в процессе секуляризации место Бога занял человек, в антропологии сохранилась та же самая двойственность, что и в теологии» [17, с. 28]. В проекте центральное место отводится идее веры человека в Спасителя, благодаря которому двойственная природа человека получает возможность быть преобразованной в единое целое. Не случайно Мессия трактуется как нечто непостижимое и непроницаемое, но возможное для проживания человеком как очень близкое и родное.
Тема становления человека в вере, в аспекте его «подлинного бытия» представлена в контексте нравственной парадигмы русской философии. Так, в проекте В. В. Варавы, например, предлагается понятие «совестливая вера» как «минимальная антропологическая единица», «нравственное ядро личности», которое «конституирует человеческую исключительность» [1, с. 48]. В исследовании Д. Ю. Дорофеева подлинным считается тот образ жизни человека, в котором он раскрывает личностность как свое «самое само» через открытость Другому для того, «чтобы быть преображенным его энергиями», в чем выражается обращение к православной антропологии личности, основанной на принципах исихазма [9, с. 127].
Идея человека как «энергийного образа» – его проекции в план энергии, измерение бытия-действия – нашла свое отражение в проекте С. С. Хоружего. Антропологическая стратегия Духовной практики, которая понимается как «холистическая практика себя в своих энергиях; практика аутотрансформации, в которой человек меняет всего себя (холизм)» подается как антропологическая модель третьего тысячелетия. Полагаем, что потенциал синергийной антропологии очень перспективен: в проекте человек рассматривается как сложный, способный к постоянному развитию духовно-телесный организм, а по словам самого автора проекта, «как совокупность всех физических, психических, умственных движений и импульсов» – как целостная динамическая система [32, с. 23].
Вызывает интерес работа, в которой предпринимается попытка осмысления причин разноликости в теоретическом и методологическом плане стратегий и подходов исследования человека в современной отечественной и зарубежной науке. Высказывается предположение, что «ключевой вопрос скрывается в глубине сущностных онтологических и экзистенциальных оснований человеческого/постчеловеческого бытия». Проводится мысль, что «лелеемая трансгуманистами мечта о замещении «ущербной» человеческой экзистенции (со всем сонмом экзистенц-проблем) на новое тело/ сущность неразрывно связана с «негативными» экзистенциалами – страхом, смертью и одиночеством» [3, с. 9]. Авторы полагают, «что постчеловек, лишенный «мерно-человеческого мира», через череду планируемых сторонниками сингулярности новых форм человека, приближающих его к пост– и надчеловеку, неизбежно теряет субъектность» [3, с. 9]. Доминирование идеи «расчеловечивания человека», вокруг которой не умолкают научные дискуссии, а также многосторонность их теоретико-методологической базы являются, таким образом, главными причинами поиска альтернативных, методологически конструктивных стратегий философско-антропологических исследований.
Знаковые философско-антропологические проекты
Действительно, идея «смерти человека» особенно интенсифицировалась с развитием новой повседневности – цифрового общества: оно оказывает свое специфическое влияние на развитие человека, а также задает свой контекст его осмысления. Констатируя факт вступления в постчеловеческую, постгуманистическую фазу развития человечества, Б. В. Марков, например, отмечает, что новые технологии имеют свою специфику и это выражается в том, что «…они требуют соответствующих компетенций и способностей людей» [16, с. 88]. В данном факте мыслитель видит причину своеобразия современных исследований человека во всей науке: «философы призывают гуманизировать науку и технику, а ученые, наоборот, призывают к постчеловескому будущему и отрицают человеческую исключительность» [16, с. 88]. В словах ученого звучит заботливая тревога за судьбу человека и перспективу гуманитарного дискурса о нем: «Технологии биологического совершенствования стали основой еще одного выхода за пределы «человеческого». Понятия и метафоры новых наук применяются в политологии и культурологии, трансформируя или даже элиминируя философию и этику» [16, с. 88]. Констатация факта не вызывает сомнений: несмотря на текущую многоликость и многоаспектность философско-антропологической мысли, стремящейся выйти из постгуманистического дискурса или, как минимум, констатирующей его как деструктивный, он продолжает стремительно развиваться. Возникает вопрос «почему»?
Суть постгуманистического дискурса «состоит в признании онтологического равенства человека и мира (природы, вещей, объектов, техники и проч.)» [22, с. 12]. Он сводится к идеям «эмоциональной изоляции, возрастания степеней свободы, освобождения от тела» [22, с. 37], а идея человека – к новому его пониманию: «как имманентно воплощенной и встроенной реляционной сущности, которая мыслит через многочисленные связи с другими, как человеческими и нечеловеческими, органическими и неорганическими другими» [33, с. 12]. В параллельно с постгуманизмом разворачивающимся дискурсом трансгуманизма видится одна из стратегий постгуманистического мышления о человеке, поскольку он «стирает грань между человеческим и нечеловеческим», работает «с идеей совершенствования человека» в смысле «совершенствования нечеловеческих качеств», «физиологических и интеллектуальных характеристик», человеческого организма, техническими средствами [22, с. 18–23].
Действительно, в дискурсе постгуманизма, являющегося следствием развития мысли о человеке, представленных в работах Э. Фромма, А. Кожева, Ж. Бодрийара, М. Бланшо, Ж.–Ф. Лиотара, К. Леви–Стросса, Ж. Делеза, Ж.–П. Сартра, М. Хайдеггера, Ж.–Л. Нанси, П. Слотердайка, Ж. Деррида и др., а также в текстах Р. Брайдотти, С. Л. Зоргнер, Ф. Феррандо, отвергается идея антропоцентризма. Но антропологический дискурс, так стремительно разворачивающийся со 2-й половины XX века, складывался в рамках парадигмы, которая, в свою очередь, начала формироваться еще в начале прошлого столетия и, как известно, была связана с именами М. Шелера, Г. Плеснера, Г. Гелена. «Человек сегодня не знает, что он есть, но он знает, что он этого не знает», – писал М. Шелер [29, с. 32]. Данный проект предполагал «переориентацию базовых линий человеческого бытия, возвращение первоначальных бытийных оснований антропологии и заполнение онтологии человека подлинным антропологическим содержанием» [23]. Результатом явилось появление философских стратегий осмысления человека, разворачивающихся в рамках тем языка и коммуникации и использующих неклассический подход.
Так, Л. Витгейнштейн, например, указал на то, что экзистенциальные проблемы человека скрыты в языке, а их выражение осуществляется в музыке, поэзии, философии [2, с. 73]. В феноменологическом проекте обращается внимание на мир переживаний человека, который рассматривается в категориях «восприятия», «понимания», «признания», «видение Другого» [6]. В герменевтическом проекте коммуникация ориентирована на понимание, предполагающее «предпонимание» [4]. В психоанализе человек предстает как страдающее от угроз со стороны внешнего мира, либидо «Оно» и суровости «Сверх-Я» существо [27]. В проекте Ю. Хабермаса проясняется роль социокультурного «жизненного мира» человека в протекании социальных процессов: он связан с интерсубъективным пониманием и признанием «Другого» [30, с. 199]. М. Хайдеггер отмечает значение способности человека ощущать тона и звуки языка того, кто говорит для понимания и взаимопонимания. «Прислушивание к… – пишет он, – есть экзистенциальная открытость присутствия как событие для других» [31, с. 163].
Важно отметить существенную особенность указанных проектов: они предполагают ту или иную форму принуждения. Одним из объяснений может быть тот факт, что мыслители всегда испытывали влияние социальных норм своей эпохи. По этому поводу Б. В. Марков, например, писал: «Философия как форма гуманитарного знания концептуально выражает ценности, цели, намерения, ожидания, настроения людей той или иной эпохи» [18, с. 7]. Это справедливо и в отношении постмодернистских проектов [28].
Еще одна особенность философских проектов прошлого столетия – отрицание человеческой исключительности в смысле самобытности его сознания в отношении познания себя, мира и Бога, что характерно также и для большинства текущих. Это порождает предельные вопросы, например, «имеет ли вообще смысл философская постановка вопроса о человеке как идеи?», а также вопрос о «благоприятной перспективе развития философской антропологии». По этому поводу, отмечая «сложный и неоднозначный путь развития философско-антропологического знания на протяжении XX в.», Д. Ю. Дорофеев, например, писал, что «для дальнейшего продуктивного развития философской антропологии признается необходимость ее критической проблематизации» [8, с. 16]. Полагаем, что, прежде всего, это относится к вопросу идеи человека, а также «раскрытия сознания человека как целое» [26, с. 39].
Идея «человека как целое» представлена в разных направлениях отечественной философской, научной, а также в художественной и религиозной мысли: трудах В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, М. М. Бахтина, А. А. Мейера, А. А. Ухтомского, Л. С. Выготского, Д. И. Чижевского, Б. Л. Яворского, Б. Л. Пастернака, О. Э. Мандельштама и других. И это не случайно. В ней, по мысли В. Ю. Даренского, присутствует «духовно-нравственный императив», поскольку сопровождается особым типом размышления о человеке – этот тип философствования «изначально направленный на преображение целостного человека и социума» [7, с. 4]; он предполагает преображение разума человечества как целого, человеческой жизни. Полагаем, что как «генетическое, смысловое и стилистическое «ядро» русской философской традиции» парадигма преображения разума человека может быть принята за основу в качестве альтернативы пост- и трансгуманистической парадигмам: в ней разрешены противоречия и преодолена невозможность согласования разума и сердца, стихии т.н. «внутреннего мира» человека и мира «внешнего».
Синергийная и философско-религиозная методологии как средство выражения холизма человека и мира
В чем именно особенность и недостаточность методологического инструментария в обозначенных выше проектах? Полагаем, что ответ на него отчасти дан в работе Ф. Н. Поносова «Гносеологический ряд – форма взаимосвязи истины и заблуждения в познании» [21]. Так, рассматривая историю постижения истины, ученый отмечает, что «познание – это бесконечный процесс приближения мышления к познаваемому предмету, движения мысли от незнания к знанию, от знания неполного, несовершенного к знанию более полному, более совершенному» [21, с. 4]. В этом смысле все проекты человека, а также используемые в них подходы и методологии являют собой «гносеологический ряд» познавательной деятельности человека – единый, системный и упорядоченный целостный процесс, в котором «в качестве основных системообразующих выступают три субстратных (1 – объект познания, 2 – субъективированный образ познаваемого, носителем которого является познающий субъект, и 3 – объективированный образ познаваемого объекта)» [21, с. 14]. По мысли философа, «акцент на каком-либо из этих элементов приводит к появлению тех или иных философских концепций», в чем, собственно, и проявляется их особенность и ограниченность, а диалектический метод познания определяется как ключевой в любом исследовании [21, с. 280].
Действительно, диалектический метод представляется универсальным уже потому, что он основан на принципе целостности. Как самый оптимальный он воспринимался в русской религиозной философской традиции, но с условием: важен тот, кто использует метод, т. е. конкретный исследователь. В этой связи христианский мыслитель П. А. Флоренский, например, утверждал, что «рассуждать не диалектически – это значит давать такие формулы и определения, которые по замыслу дающего их имеют значение не только в данном контексте времени и пространства, но и вне всякого контекста, т. е. такие, которые осмыслены сами в себе. Это значило бы притязать на абсолютные формулы, на абсолютное суждение, на абсолютную истинность своих высказываний». И далее: «Но это стремление глубоко противохристианское. Следовательно, единственный христианский – смиренный – путь рассуждений – диалектика: я говорю то, что сейчас, в данной комбинации суждений, в данном контексте речи и отношений истинно, но ни на что больше не притязаю» [26, с. 151]. Философ аргументирует свою мысль и добавляет, что «если пытаться брать его высказывания как безотносительные к лицу, которому они высказываются, к месту и времени, где и когда они высказываются, к цели, ради которой высказываются, то покажется, что он все время противоречит себе. Но если понимать его речи изнутри, то окажется глубочайшее жизненное единство всех высказываний» [26, с. 151].
Исследовательская мысль относительна мыслящего: она несет отпечаток его мировоззрения, способность видеть в проблеме то или иное, иными словами, обусловлена исследовательской оптикой – «точкой зрения». В то же время, будучи вовлеченным в конкретное историко-культурное время, как было отмечено выше, философ выражает в мысли его дух, что вполне объяснимо и очень «по-человечески». В этой связи П. А. Флоренский писал: «За свежей штукатуркой и лоснящейся краской самоновейших научных схем всё-таки стоит воплощение человеческих замыслов» [26, с. 153]. Полагаем, что предварительно и в самом общем смысле здесь можно говорить о субъектности, в отношении смысла понятия которого сегодня пишется много. В рамках данного исследования ограничимся его истолкованием, данной в работе Е. В. Косиловой «Парадигмы субъектности» [14], а именно: в смысле субстанциональности. В своей работе автор отмечает, что понятие «субъектность» имеет многовековую историю в научной и философской традиции осмысления процессов, явлений и объектов мира «в связке субъект-объект» [14, с. 6]. Исследователь уточняет: «В 20 веке многие философы строили учения так, что субъект у них не имел субстанциальности, а представлял собой только лишь совокупность отношений. Мы будем говорить об отношениях субъекта, но при этом мы не ограничимся таким рассмотрением субъекта. Чтобы о нем говорить, надо иметь в виду под этим некое понятие, и, по сути, за этим понятием предполагать некую сущность. Мы можем говорить, что в этом смысле субъект субстанционален» [14, с. 6–7].
Субъектность ученого и изучаемого им объекта, например, человека, отсылающие к т. н. «внутреннему миру» того и другого, трудно поддаются изучению и описанию. Можно сказать, что это является своеобразным «камнем преткновения» всех, когда-либо существовавших и большинства существующих сегодня философских методологий и подходов к осмыслению бытия человека. Ученые всегда чувствовали или понимали «неуловимость» подлинного человеческого бытия, отсылающего к метафизическим, онтологическим ценностным основаниям, в том числе своего. Не случайно в отношении антропологических изысканий П. А. Флоренский высказывает мысль о том, что «антропология не есть самодовлеемость уединенного сознания, но есть сгущенное, представительное бытие, отражающее собою бытие расширенно-целокупное: микрокосм есть малый образ макрокосма, а не просто что-то само в себе» [26, с. 34]. Как возможно такое исследование?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо отметить, что между философской антропологией и теологией существует прямая связь: как наука она начала зарождаться в XVI–XVII в. недрах теологии вокруг таких христианских идей как «творение человека по образу и подобию Бога, история об Адаме и Еве, грехопадение» и др. [17, с. 32]. Идея человека как образа и подобия Бога особенно ярко и самобытно получила свое развитие в русской отечественной религиозной философской традиции, уходящей своими корнями в традицию восточного христианства, православия. Более того, в ней философия не мыслима без включенности самого мыслителя в непосредственные отношения с Ним.
Действительно, в традиции отечественного любомудрия есть один важный аспект научной рефлексии, на который обратил особенное внимание И. А. Ильин: мировоззренческие основы мыслителя. Так, рассуждая о качестве и глубине научных изысканий и трактуя их как «внутреннее делание», он акцентирует важность наличия у исследователя ценностных мировоззренческих основ, отсылающих к его духу и связи с Богом: «…требования теоретической совести и вытекающее из них чувство ответственности должны лежать в основании всякого научного творчества», – пишет он [11, с. 15–16]. Мыслитель также утверждает, что «в основе философии лежит систематическая практика духовного опыта» [11, с. 49]. Он выделяет две аксиомы методологии философских изысканий: первая – «неиспытанное содержание – не познано; неиспытуемое содержание – непознаваемо» и вторая: «философия творится нечувственным опытом» [11, с. 39]. Так, религиозный философ указывает на благородные и утонченные источники гносеологического опыта – духовные умения. Выход из исследовательского кризиса он видит в том, чтобы «вернуться к этим благородным и чистым источникам духовного опыта, пробудить их и творчески зажить ими» [11, с. 109]. Полагаем, что именно основой этого опыта является «субъектность» в смысле субстанциональности человека – жизнь его духа.
Таким образом, русская религиозная философская традиция имеет в своем арсенале понимание, что посредством духовного опыта, предполагающего аскетику и молитвенное делание, становится возможной иная «оптика» восприятия объектов земного мира, иная перспектива мысли о человеке: в свете христианской любви, правильного намерения, без самоуверенного эго, в парадигме заботы мысли об исполнении заповедей. Это иной, отличный от философских европейских систем, тип разумности и рациональности: он не притязает на высшую силу познавания и тем самым не ограничивает, как писал И. В. Киреевский, «истину только той стороной познаваемости, которая доступна этому отвлеченно-рациональному способу мышления» [12, с. 325]. В нем явно прослеживаются апостольские призывы к христианам о важности стремления всегда иметь Бога в разуме: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что́ есть воля Божья, благая, угодная и совершенная» (Рим 12. 2). Стоит добавить, что согласно православной святоотеческой традиции, это возможно благодаря такой аскетической практике, как чтение Священного Писания – одного из необходимых этапов молитвенного делания, освящения и просвещения ума в исихазме [15].
В трудах представителей отечественной религиозной философии духовный опыт молитвенного делания не представлен в качестве самостоятельного концепта. Тем не менее, поиск «универсального синтеза науки, философии и религии» был характерен для представителей этой традиции. Например, у В. С. Соловьева он осмысливался в контексте решения вопроса выхода из духовного, интеллектуального, общественного и политического кризиса [24, с. 122]. А один из последователей его идеи, священник Павел Флоренский, например, пришел к выводу о невозможности преодоления этого кризиса и осуществления теургии как богочеловеческого процесса вне Православной Церкви [19, с. 78]. Полагая, что причины кризиса во многом обусловлены движениями внутреннего хаоса в человеке, а упорядочивание души возможно, как отмечал исследователь его творческого наследия Н. Н. Павлюченков, «в религиозном культе, который…высшей своей эффективности достиг с приходом Христа» [19, с. 92].
Заключение
На основании проведенного исследования можно заключить, что одной из перспективных стратегией выхода из философского кризиса в осмыслении человека, выражающегося в отсутствии возможности гармонизации взаимоотношений человека и мира, реализаций его творческого потенциала и самой человеческой сущности, является стратегия, в которой согласуются разум и сердце – мышление и созерцание, обязательно учитывающая особенности современного информационного общества. Исходя из результатов наших исследований, мы обращаем внимание читателя на то, что обнаружилась ещё одна немаловажная проблема: в условиях цифровизации усиливается степень отчуждённости человека от человека, Одного от Другого. Это ведёт к снижению уровня взаимопонимания и суггестивности. На наш взгляд, решение данной проблемы в теоретико-методологическом плане возможно в традиции отечественной религиозной философии, синергийной антропологии и традиции мысли христианского гуманизма, разворачивающейся вокруг идеи человека как образа непреложной онтологической ценности – Бога, как способного быть Ему открытым, вступать в непосредственное общение и быть преображенным.
About the authors
Olga N. Malakhova
Udmurt State Agricultural University
Author for correspondence.
Email: olgamlkhv19@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-9728-6564
Candidate of Philosophical Science, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian Disciplines
Russian Federation, IzhevskReferences
- Varava, V. V. (2023) [Temptation of ethics and trial of conscience: features of Russian moral philosophy]. Filosofskie nauki [Philosophical Sciences]. Vol. 66. No 2, pp. 48–61. – https://doi.org/10.30727/0235-1188-2022-66-2-48-61. (In Russ.).
- Wittgenstein, L. (1994) Filosofskie raboty v 2 c [Philosophical works in 2 parts]. Vol. 1. M.: Ggnosis, 612 p. (In Russ., transl. from German).
- Gagarin, A. S., Novopashin, S. A. (2022) [The posthuman concept: the problem of subjectivity and existential foundations of human being]. Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarnye issledovanija [Bulletin of Omsk State Pedagogical University. Humanities studies]. Vol. 2 (35), pp. 9–14. (In Russ.).
- Gadamer, G.–G. (1988) Istina i metod. Osnovy filosofskoj germenevtiki [Truth and Method. Fundamentals of philosophical hermeneutics]. M.: Progress, 704 p. (In Russ., transl. from German).
- Girenok, F. I. (2023) [Homo hallucinatas: the idea of double inversion in the study of man]. Filosofskie nauki [Philosophical Sciences]. Vol. 66. No 2, pp. 7–25. – https://doi.org/10.30727/0235-1188-2022-66-2-7-25. (In Russ.).
- Husserl, E. (1998) Kartezianskie razmyshlenija [Cartesian reflections]. SPb.: Science, 315 p. (In Russ., transl. from German).
- Darensky, V. Yu. (2018) Paradigma preobrazhenija cheloveka v russkoj filosofii XX veka [Paradigm of transformation in Russian philosophy of the 20th century]. SPb.: Aleteya, 328 p. (In Russ.).
- Dorofeev, D. Y. (2019) [Problematization of modern philosophical anthropology and prospects for its development]. Diskurs [Discourse]. Vol. 5. No 6, pp. 16–28. – https://doi.org/10.32603/2412-8562-2019-5-6-16-28. (In Russ.).
- Dorofeev, D. Y. (2022) [Philosophical anthropology of authentic and non–authentic: modern problematization of human person and way of life]. Filosofija. Zhurnal Vysshej shkoly jekonomiki. [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]. Vol. 6. No 3, pp. 127–154. – https://doi.org/10.17323/2587-8719-2022-3-127-154. (In Russ.).
- Dorofeev, D. Y. (2023) [Man as a visual message: semiotics and aesthetics of the human image]. Praksema. Problemy vizual’noj semiotiki [Praxema. Problems of visual semiotics]. Vol. 1 (35), pp. 48–77. – https://doi.org/10.23951/2312-7899-2023-1-48-77. (In Russ.).
- Ilyin, I. A. (1998) Put’ k ochevidnosti: Sochinenija [The path to obviousness: Essays]. M.: EKSMO–press, 192 p. (In Russ.).
- Kireevsky, I. V. (1979) Kritika i jestetika [Criticism and aesthetics]. M.: Art, 439 p. (In Russ.).
- Kolomiets, G. G., Parusimova Ya. V. (2023) [On the relevance of antroposocioecological approach in philosophical anthropology and philosophy of civilizational process]. Intellekt. Innovacii. Investicii [Intelligent. Innovation. Investments]. Vol. 1, pp. 64–72. – https://doi.org/10.25198/2077-7175-2023-1-64. (In Russ.).
- Kosilova, E. V. (2019) [Paradigms of subjectivity on the topic center-periphery]. Voprosy filosofii [Questions of philosophy]. Vol. 10, pp. 110–121. – https://doi.org/10.31857/S004287440007167-8. (In Russ.).
- Mar Ishaq of Nineveh (Saint Isaac the Syrian) (2016) Kniga o voshozhdenii inoka: Pervoe sobranie (traktaty I–VI) [The book about the rise of a monk: First collection (memre I–VI)]. M.: YASK, 584 p. (In Russ., transl. from Syriac, Arabic, Greek).
- Markov, B. V. (2023) [Anthropological risks of biosocial technologies]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 7: Filosofija [Bulletin of Moscow University. Episode 7: Philosophy]. Vol. 47. No 2, pp. 88–105. – https://doi.org/10.55959/MSU0201-7385-7-2023-2-88-105. (In Russ.).
- Markov, B. V. (2023) [Messianic anthropology]. Filosofskie nauki [Philosophical Sciences]. Vol. 66. No 2, pp. 26–47. – https://doi.org/10.30727/0235-1188-2022-66-2-26-47. (In Russ.).
- Markov, B. V. (2023) Politicheskaja immunologija [Political immunology]. M.: Avenue, 144 p. – https://doi.org/10.31085/9785392329038-2021-144. (In Russ.).
- Pavliuchenkov, N. N. (2019) [The conception of crisis and ways to overcoming it in P. A. Florensky`s works]. Vestnik Pravoslavnogo Svjato–Tihonovskogo gumanitarnogo universiteta. Serija 1: Bogoslovie. Filosofija. Religiovedenie [Bulletin of the Orthodox St. Tikhon’s Humanitarian University. Episode 1: Theology. Philosophy. Religious Studies.]. Vol. 84, pp. 77–93. – https://doi.org/10.15382/sturI201984.77-93. (In Russ.).
- Pluzhnikova, N. N. (2021) [Man and technology: a new anthropological turn in culture]. Intellekt. Innovacii. Investicii [Intelligent. Innovation. Investments]. Vol. 6, pp. 123–128. – https://doi.org/10.25198/2077-7175-2021-6-123. (In Russ.).
- Ponosov, F. N. (2010) Gnoseologicheskij rjad – forma vzaimosvjazi istiny i zabluzhdenija v poznanii [The gnoseological series – a form of the correlation between truth and delusion in the cognition]. Izhevsk: IzGSHA, 336 p. (In Russ.).
- Rostova, N. N. (2022) Mjagkaja sila postgumanizma. Chto nam meshaet myslit’ po–russki? [The soft power of posthumanism. What prevents us from thinking in Russian?]. M.: Avenue, 184 p. (In Russ.).
- Smirnov, S. A. (2017) [The anthropological turn: its meaning and lessons]. Filosofija i kul’tura [Philosophy and Сulture]. Vol. 2, pp. 23–35. (In Russ.).
- Solovyev, V. S. (1988) Krizis zapadnoi fi losofii v 2 t [Crisis of Western Philosophy in 2 volumes]. V. 2. M.: Thought, pp. 3–138. (In Russ.).
- Stepin, V. S. (2011) Civilizacija i kul’tura [Civilization and culture]. SPb.: St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions, 407 p. (In Russ.).
- Florensky, P. A. (1990) Sochinenija v dvukh tomakh. Tom 2. U vodorazdelov mysli [Essays. Volume 2. At the watershed of thought]. M.: Truth, 448 p. (In Russ.).
- Freud, Z. (2001) Po tu storonu principa udovol’stvija [Beyond the pleasure principle]. Kharkiv: Folio; M.: AST, 616 p. (In Russ.).
- Foucault, M. (1999) Nadzirat’ i nakazyvat’. Rozhdenie tjur’my [Discipline and punish: the birth of the prison]. M.: Ad Marginem, 478 p. (In Russ., transl. from French).
- Sheler, M. (1988) Problema cheloveka v zapadnoj filosofii [The problem of man in Western philosophy]. M.: Progress, pp. 31–95. (In Russ., transl. from English, German, French).
- Habermas, J. (2002) [Moral consciousness and communicative action]. SPb.: Science, 385 p. (In Russ., transl. from German).
- Heidegger, M. (2002) Bytie i vremja [Being and time]. 2nd ed., revised. SPb.: Science, 451 p. (In Russ., transl. from German).
- Khoruzhy, S. S. (2000) [On the anthropological model of the third millennium]. Vestnik Rossijskogo gumanitarnogo nauchnogo fonda [Bulletin of the Russian Humanitarian Scientific Foundation]. Vol. 3, pp. 18–36. (In Russ.).
- Ferrando, F. (2019) Philosophical Posthumanism. London: Blumsbury Academic, 296 p. (In Eng.).
Supplementary files