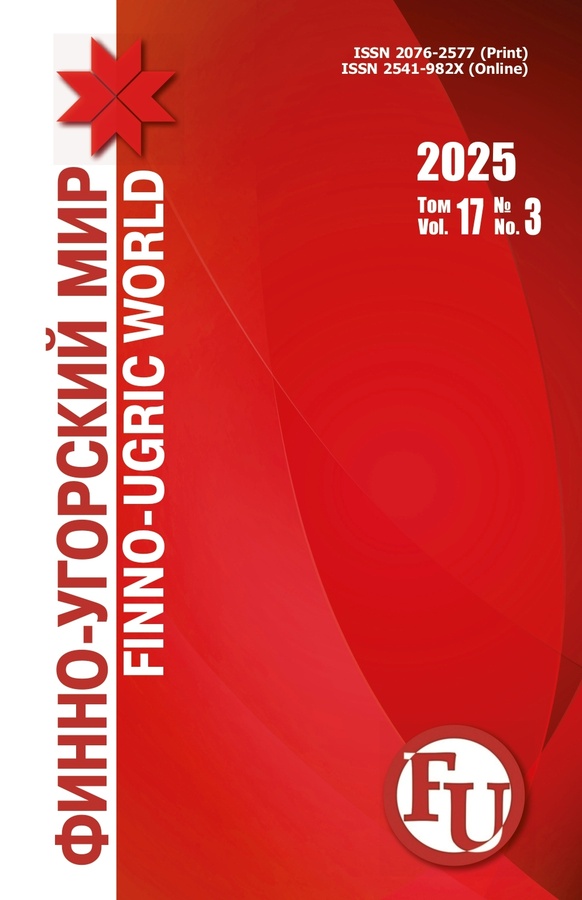Этнофутуризм и традиционные представления удмуртов о будущем
- Авторы: Анфиногенов Б.В.1
-
Учреждения:
- Научно-исследовательский институт национального образования
- Выпуск: Том 16, № 4 (2024)
- Страницы: 484-496
- Раздел: Культурология
- Статья получена: 26.08.2024
- Статья одобрена: 21.10.2024
- Статья опубликована: 23.12.2024
- URL: https://bakhtiniada.ru/2076-2577/article/view/262465
- DOI: https://doi.org/10.15507/2076-2577.016.2024.04.484-496
- EDN: https://elibrary.ru/nsnugl
- ID: 262465
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Введение. Проблема традиционных представлений удмуртского народа о времени, пространстве и отношении к будущему является значимой для современной науки. Несмотря на многочисленность публикаций по данной проблематике, практически отсутствуют исследования, рассматривающие преломление традиционных представлений удмуртов о будущем в движении удмуртских этнофутуристов, их видение в этом контексте будущего этнической культуры. Цель исследования – попытаться восполнить данный пробел, рассмотрев и проанализировав, какие именно традиционные представления существуют в удмуртской культуре и каким образом их используют в своем творчестве этнофутуристы.
Материалы и методы. Материалом исследования послужили работы, посвященные теме будущего в традиционной удмуртской культуре, а также источники (статьи в периодических изданиях, сборники, каталоги), в которых представлено видение будущего этнофутуристами. Исследование проводилось на основе сравнительно-сопоставительного анализа источников и описанных в них явлений. В ходе полевых исследований применялся метод интервью.
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование доказывает, что некоторые современные проявления и формы движения этнофутуристов связаны с образом будущего в традиционной культуре. Традиционная удмуртская модель светлого и идеального будущего представлена в концепциях этнофутуристических фестивалей и манифесте этнофутуристов. В традиционной культуре встречаются и примеры негативного (эсхатологического) сценария будущего, зафиксированного, например, в концовке удмуртского эпоса и некоторых преданиях. Близкая к ним рефлексия о будущем своего народа имеется в трудах поэтов и писателей, близких к движению этнофутуристов.
Заключение. Сделанные автором выводы вносят вклад в развитие современной этнологической науки в контексте изучения взаимосвязи новых культурных явлений в жизни удмуртского народа и его традиционной культуры и мировоззрения. Материалы статьи могут быть полезны этнологам, культурологам, искусствоведам, фольклористам, работникам социокультурной сферы, а также всем, кто интересуется современной удмуртской культурой.
Полный текст
Введение
Этнофутуризм, одно из направлений современного искусства и общественного движения, уже в своем названии заключает информацию о будущем народа («этнос» – народ, «футурум» – будущее). В первом этнофутуристическом манифесте (1994 г.) основатели движения говорили о нем как об «альтернативе на будущее» для малочисленных народов, не имеющих своей городской культуры1. Развиваясь преимущественно среди финно-угорских народов России, термин обретал разные формулировки, но неизменно авторы новых определений обращали внимание на его направленность в будущее: этнофутуризм должен был, по их мнению, обеспечить будущее этносу в условиях угроз глобализации. Исследователи отмечают, что при этом термин сознательно не связывался с другим похожим направлением модернистской культуры ‒ футуризмом (и его течениями: кубофутуризмом, эгофутуризмом, итальянским футуризмом и др.) [1]. Однако параллели между ними все же можно найти. Так, русские футуристы, художники и писатели, и прежде часто обращались к народной культуре и фольклору [2], а представители модернизма начала ХХ в. среди новой интеллигенции удмуртов и других финно-угорских народов считались этнофутуристами своего времени, как, например, Кузебай Герд и Элиас Леннрот2. Мы можем наблюдать нацеленность на будущее, работу с образом будущего в проектах и размышлениях о нем в среде этнофутуристов. Важно выявить, как и через какие творческие приемы воплощают образ будущего «футурум» именно представители данного направления.
В статье рассматривается видение будущего этнофутуристами в сравнении с его образом в традиционной культуре на основе данных истории, этнографии и фольклора. В традиционной культуре имелись свои представления о будущем, собственные попытки его предсказать, повлиять на ход событий с помощью определенных действий и практик (обрядов, молений, предписаний, запретов, приношений и др.). Традиционные образы будущего активно используются в творчестве этнофутуристов одновременно с образом будущего этноса или этнической культуры, которые они сами создают и прогнозируют. Исследователи отмечают, что «представления о будущем народа содержатся, прежде всего, в таких фольклорных жанрах, как народные утопические (социально-утопические) легенды, паремии, гадания и прогностические практики, волшебные сказки, исторические песни» [3, с. 243].
Цель исследования ‒ рассмотреть образ будущего в работах этнофутуристов, определить роль и отражение в них видения будущего, в том числе нашедшего воплощение в традиционной картине мира удмуртов.
Обзор литературы
Образ будущего в культуре разных народов привлекает внимание этнографов. Например, в сборнике «Аспекты будущего (по этнографическим и фольклорным материалам)» рассматриваются общие теоретические вопросы и конкретные явления и практики разных народов, связанные с пониманием и видением будущего3. Будущее становилось темой исследования в антропологии [4], изучении народной футурологии [3]. Важной для данного исследования является работа, в которой раскрывается осознание времени в традиционной удмуртской культуре [5]. Для более полного и ясного понимания особенностей восприятия удмуртами пространства и времени были важны работы этнографов и фольклористов. Фундаментальный труд В. Е. Владыкина, посвященный религиозно-мифологической картине мира удмуртов4, дает ценные сведения о мировоззрении людей в традиционном удмуртском обществе, в том числе и представлениях о будущем. Этнокультурному контексту представлений удмуртов о времени [6], феномену народного календаря в удмуртском социуме [7], удмуртскому фольклорному миротексту5 посвящены работы Т. Г. Владыкиной, Г. А. Глуховой, Т. И. Паниной. На основе обширных фольклорных материалов они приходят к важным выводам о наличии общей системы знаний о пространстве и времени у удмуртов, ее эволюции по мере взаимодействия с другими культурами, специфике годового обрядового календаря, обыденном и сакральном времени, природных циклах. Т. Г. Миннияхметова выявляет особенности ориентации во времени и пространстве на основе данных о языке и ритуальных практиках [8], отмечая важность определения границ в традиционной системе мира, нарушение которых может менять качества человека и пространства. И. М. Вельм рассматривает своеобразие мифологического мышления с точки зрения психологии и ментальности удмуртов, анализируя образы и архетипы [9]. Образ будущего в современной удмуртской литературе затрагивался в работах литературоведов. Например, А. А. Арзамазов анализирует художественные контексты будущего времени в стихотворениях одного из известных поэтов-этнофутуристов П. М. Захарова, рассматривая формы выражения темпоральности будущего [10]. Выявлению специфики трансформации архаического мифологического мышления в условиях постмодернизма в литературе этнофутуристов посвящены работы В. Л. Шибанова [11]. Движение удмуртских этнофутуристов изучалось искусствоведами, культурологами и литературоведами, но образ будущего в их произведениях не был предметом специального анализа.
Материалы и методы
В работе сравниваются данные об образе будущего в традиционной культуре удмуртов: молитвах-куриськон, предсказаниях, текстах о жрецах и предсказателях туно, которые исследовались этнографами, музыковедами, фольклористами. Воплощение традиционного представления о будущем в работах этнофутуристов рассматривалось на основе деятельности представителей движения, их статей в периодических изданиях, сборниках и каталогах, в полевых материалах автора в виде личных интервью с художниками, которые уточняют их собственные представления об идеальном будущем. О роли туно (ворожец, предсказатель) как «удмуртского шамана» писал представитель этнофутуристов, художник Юрий Лобанов. В перформансах художника встречается использование атрибутов жреца туно. Концепция создания и поиска идеального будущего этноса и мироустройства через обращение к удмуртской мифологии представлена в работах и текстах этнофутуристов, обзоре этнофутуристических фестивалей, специальных выпусках журнала «Инвожо» – все они использованы для анализа видения будущего и этнического будущего в картине мира этнофутуристов. Основными методами исследования являются сравнительно-сопоставительный анализ источников, метод беседы и интервью в полевых исследованиях, которые помогли получить новую ценную информацию по проблеме, расширить имеющиеся знания, обосновать предположения и гипотезы автора, провести анализ и определить взаимосвязь между представлениями о будущем удмуртов и современных удмуртских этнофутуристов.
Результаты исследования и их обсуждение
Исследователи отмечают, что «создаваемые образы будущего и конструируемые на их основании инновационные духовные и материальные формы в каждую конкретную историческую эпоху в значительной степени зиждутся на мировоззренческих основаниях соответствующих культур, а также на коллективном историческом опыте, протяженном и пережитом в социальном времени и пространстве» [4, с. 27]. У удмуртов образ будущего ‒ неотъемлемая часть традиционной и современной культуры. Безусловно, в разное время восприятие устройства мира, времени и пространства было иным: в традиционном обществе оно основано на мифологическом мышлении, объяснении с его помощью различных явлений, действий сверхъестественных сил и божеств; на понимания создания мира, его образа, устройства и миропорядка. Однако эта обширная тема уже активно рассматривалась исследователями, а в центре внимания данной статьи – образ будущего в работах этнофутуристов и отражение в нем традиционных представлений удмуртов о будущем.
Образ будущего тесно связан с пониманием времени в традиционной картине мира. Обратимся к тому, как понималось время в народной культуре. М. М. Бахтин, характеризуя фольклорный хронотоп, пришел к выводу, что «время это сплошь едино» и ему также свойственны коллективность, привязанность к явлениям природы, устремленность в будущее6. Бахтин утверждал: «Печать цикличности и, следовательно, цикличной повторимости лежит на всех событиях этого времени. Его направленность вперед ограничена циклом»7. Мифологическое мировоззрение и восприятие времени сохраняется и в обрядах народной религии удмуртов, несмотря на влияние православных традиций. На понимание пространства и времени повлияли и земледельческий уклад жизни, определивший народный календарь и обряды годового цикла. Время воспринималось как цикличное: смена одних и тех же этапов, периодов и сезонов. В некоторой мере это восприятие времени сохраняется в современных народных праздниках, отчасти совпадающих с православным календарем. Как пишет В. Е. Владыкин, для удмуртов «будущее (лыктӥсь аръёс, вуоно аръёс) мыслилось чем-то общим, нерасчлененным, чередой приходящих, грядущих лет»8.
Рассмотрим, каким представлялось будущее в традиционной картине мира удмуртов. А. А. Арзамазов писал: «удмуртский образ мира можно рассмотреть как некую систему, где временной аспект имеет созидательную функцию: прошлое определяет будущее, настоящее утрачивается в терпеливом ожидании. Реальность – действительное ощущение одного мгновения. По сути своей уподобляется или прошлому, или будущему»9. Литературовед отмечает, что есть особенности выражения будущего, которые прослеживаются в финно-угорских и тюркских языках: «В агглютинативных финно-угорских и тюркских языках значение будущего времени зачастую передается посредством настоящего, т. е. построение “идеального будущего” с языковой точки зрения отсутствует»10. Однако это суждение не находит доказательств в этнографических материалах, где, наоборот, изобилуют примеры об «идеальном мире».
Образ идеального будущего прежде всего представлен в удмуртских молитвах-куриськон, где наряду с благодарениями божествам высказывались просьбы на будущее (урожай, семейное и хозяйственное благополучие). Эти тексты подробно рассматривал В. Е. Владыкин, отмечая, что «...можно попытаться представить в какой-то мере историческую динамику взглядов удмуртов на то, что, по их понятиям, составляло идеальное устройство общества и его желаемое будущее»11. Не случайно одну из своих статей об этих молитвах В. Е. Владыкин поэтично называет «Удмуртское воспоминание о счастливом будущем»12. Тексты молитв дошли до нас в разных источниках, но все имеют выдержанную каноническую схему, состоят из обязательных частей, начинаются и завершаются уважительным обращением к главным удмуртским богам, чаще всего это Инмар, Кылдысин и Куазь. Центральная часть текстов содержит подробное перечисление просьб куриськонов (удм. курисько – «прошу») о благополучии в различных сферах крестьянской жизни и сельского сообщества. Например, указывается, какими по размеру должны вырасти злаки и колосья, насколько преумножится скот в предстоящем году, просят много рыбы в реках и пчел на пасеке, а средств столько, чтобы их хватило на уплату налога властям и т. д. Будущее описывается в таких текстах через определенные образы, цифры, размеры, имеющие также продуцирующую функцию. В. Е. Владыкин пишет: «Жрец-куриськись, произносящий заклинание, хотя и следовал освященному веками канону, но в то же время широко использовал свои импровизационные способности, что, несомненно, еще более усиливало восприятие заклинания, поскольку все происходящее воспринималось как непосредственное творчество и сам заклинатель осознавал себя творцом, созидателем идеального будущего людей, от имени которых он обращался к богам»13. Также он приходит к выводу, что ничего сверхъестественного или фантастического в этих прошениях к богам нет, все довольно скромно и реалистично14. Эти традиционные тексты с образом будущего также использовались в работах этнофутуристов. Как отмечал в интервью Ю. Н. Лобанов: «Удмуртский куриськон, переведенный по моей просьбе Очей Арзами (Алексей Арзамазов) на финно-угорский эсперанто, я лично использовал несколько раз в своих аутентичных перформансах» [ПМА15, 2024].
Этнофутуристы часто используют в творческих акциях традиционные формы и приемы прогнозирования будущего, которые практиковались предсказателями туно. У удмуртов способностью предопределять будущее наделяли некоторых людей и мифологических персонажей, предугадывали будущее и с помощью гаданий в определенные календарные периоды. Например, «звуки, услышанные на перекрестке дорог в полночь, предвещали будущее: если слышны звуки молотьбы – к урожаю, богатству...»16. Божество плодородия Кылдысин как представитель традиционного пантеона «предсказывал будущее и ведал судьбой каждого человека»17. Способностью предвидеть будущее наделяли и удмуртских богатырей батыр: «Богатыри – не только сильные физически люди, они обладают магическими способностями. Хозяева древнеудмуртских городищ Узякар и Иднакар имели дар пророчества: незадолго до своей гибели они предвещают приход на их земли другого народа и порабощение удмуртов»18. Однако самыми главными предсказателями будущего считались гадатели, ворожцы туно (удм. тунаны – «гадать, ворожить»). Фольклорист Т. Г. Владыкина пишет: «Туно – люди, наделенные сверхъестественными способностями. Жрецы, ворожеи/ворожцы, знатоки, знахари, колдуны… Разноречивые по смыслу термины, используемые в качестве синонимов в контексте института шаманства, самым ярким элементом которого в удмуртской традиционной культуре был феномен туно, по сути указывают не только и не столько на многообразие функций, сколько на его возможности и способы взаимодействия с иными мирами, а также на представления о нем окружающих»19. Н. И. Шутова отмечала: «Исследователи конца XIX – начала XX в. называли туно шаманом, ибо наиболее искусные из них входили в состояние измененного сознания с помощью молитв, особых слов, магических заклинаний, музыкального сопровождения, плясок и ритуальных действий по кругу, перетягивания в поясе полотном или кушаком, возможно, употребления галлюциногенных средств растительного происхождения. Пляска туно близка к шаманскому камланию, во время которого шаман впадал в экстаз, общался с духами-помощниками и совершал символические путешествия по “иным” мирам» [12, с. 74].
Именно образ туно выбрал в своем творчестве один из ярких представителей и лидеров этнофутуристического движения – удмуртский художник Ю. Н. Лобанов (псевдоним – Кучыран Юри). Он подробно изучил феномен туно и, выбрав этот образ, полагал, что удмуртами прежде мог практиковаться шаманизм, на что указывает роль предсказателя. Н. И. Шутова, например, отмечает, что у туно было много функций, в том числе предсказание будущего: «В конце XVIII – начале XX в. знающие туно/абызась имели высокий социальный статус в глазах сельского сообщества как носители сакрального знания, обладатели сверхъестественных способностей и дара пророчества. Их общественная значимость во многом определялась тем, что он решал вопросы, связанные с функционированием традиционных святилищ. К ним обращались за помощью в экстраординарных и окказиональных ситуациях. В процессе проведенных ритуалов гадатели, знающие получали нужную информацию, предсказывали, гадали, исцеляли, врачевали» [12, с. 74].
В статье «Удмуртский шаманизм: моя архаика и моя современность» Ю. Н. Лобанов описывает истоки и причины своего обращения к данному образу. В детстве на деревенских праздниках ему встречались люди, которые вели себя отлично от обычных участников, исполняли «странные» танцы: «Те деревенские праздники я воспринимаю сейчас как грандиозные перформансы, как действо для подражания… Будучи свидетелем тех ритуальных таинств – через театрализованные представления – я впитал живительные соки национального самосознания. Перформансы, которые я создаю, помогают мне полнее осознать себя в этом стремительно меняющемся мире»20. Используя в творчестве особую форму современного искусства, художник сознательно выбрал образ туно как ролевую модель своего творчества, с помощью которой можно гармонично наполнить перформанс этническим содержанием, передать и воссоздать сакральные смыслы ритуальных действий шамана в настоящее время, опираясь на взаимосвязь образа и роли предсказателя туно с народными представлениями.
Использование темы снов как творческой акции мы находим в серии перформансов Ю. Н. Лобанова под названием «Сны Кучырана», которые он проводил с 2005 по 2009 г. Среди его работ выделим диптих «Откровения туно» (2007 г.), где художник расписывает холст геометрическими фигурами с использованием ярко-оранжевого цвета. Художник так объясняет работу: «Широкие, но короткие мужские свитки-ӵушконы с деревянными реечками-креплениями, с шелковыми нитками для подвешивания в выставочном пространстве.
Эти психоделические работы выполнялись в состоянии транса. Я точно уже не могу все вспомнить. Помню, что там откровения новых путей и перекрестков Судьбы. И еще удмуртские знаки-тамга-пусы – своеобразные древние праформы языка. Эти свитки прикреплены к деревянным реечкам. И я, весь в оранжевом одеянии, выполняю танец-кружение с этими свитками, указываю ими дорогу, возношу до Небес, защищаю, предупреждаю, лелею. И все это – изображая в воздухе-пространстве тайные свои знаки этими свитками.
Вращение имеет вселенское значение – это способ передачи духовного Божьего дара людям. Это одна из древнейших форм медитации. Уже само кружение, а также вихрение огня, воды, воздуха выводит в параллельный мир. Вращаясь вокруг сердца, он охватывает все человечество, все живое с привязанностью и любовью. Это вращение человеческих душ вокруг Бога. Вращение стимулирует активность вихрей (чакр). Вселенская волна вращающихся вихрей, через которые входит ее энергия, оживляющая наше тело и душу. Энергия земли собирается в вихри, и там накапливается «особая энергия».
Имеет большое значение цвет. Желто-оранжевый с вкраплениями светло-голубого. Это соответствующая чакра (чакара, ӟакара), которая волнует художника-шамана» [ПМА 2024].
Художник при создании своих перформансов подробно изучает ранние этнографические источники, а затем, создавая свою собственную художественную систему, как бы заново с помощью фантазии и творчества воссоздает образ туно, придумывая и разрабатывая его костюм, атрибуты, выбирая пространство для перформансов-ритуалов, особые речитативы и песни.
В статье «Удмуртский шаманизм: моя архаика и моя современность» Ю. Н. Лобанов пишет о взаимосвязи образа туно и будущего, его способности перемещаться во времени: «Я считаю, его образ волновал, волнует и будет волновать не только творческих, но и простых людей. Своей таинственностью, мистицизмом, устремленностью в будущее, умением преодолевать временные рамки мироздания»21.
В творчестве художника помимо предсказателя будущего встречается еще и образ верховного бога Кылдысина, который также обладал способностью предопределять будущее. Эти народные представления о нем и его образ описаны в работе Лобанова «Превращения Кылдысина» (2008 г.) и в совместной выставке с художником Александром Пушиным (Жон-Жон Сандыр) «Ньыльдон кык» («Сорок два») (2022 г.). Концепция выставки построена на поиске утопического «Золотого века» божества Кылдысина, представленного в мифологических текстах, когда время было целостным, единым. Авторы выставки писали в официальном ее анонсе, что художники, «обращаясь к мифу-утопии о “Золотом веке” Кылдысина, воспевают гармоничное время, в котором было полное единение человека и природы, рассказывают о трехчастной картине мира удмуртов, при этом ратуя о возвращении к целостности мироздания»22. Название выставки «Ньыльдон кык» символично и выбрано художниками исходя из предания удмуртов о том, как они стали грешить, в результате чего утратили свой «Золотой век», их покинул бог Кылдысин. В ответ на попытку вернуть его Кылдысин сказал, что его тело обезображено и раздроблено на 42 части. Как символ этой раздробленности на выставке было представлено 42 арт-объекта, объединенных одним материалом – березой, которая в народных верованиях и мифологии считается деревом этого божества. На открытии выставки Александр Пушин сказал: «Мы решили отправиться в трансперсональное путешествие, чтобы найти все 42 части. Мы их сжигаем и делаем из них яйцо, оно у нас хранится в воршудном коробе» [ПМА, 2022]. Данная выставка – яркий пример воплощения концепции будущего в видении и стремлении удмуртских этнофутуристов, заключающемся в возвращении «золотого века» древних удмуртов, воссоздании равновесия и цельности мироздания.
Тенденция к воссозданию утраченного идеального времени как традиционной удмуртской утопии прослеживается уже в первых этнофутуристических фестивалях, проводимых с 1998 г. в Удмуртии. Это подчеркивает и название первой обзорной статьи Т. Г. Миннияхметовой «Представляя образ идеального Будущего» об этих фестивалях, где отмечается, что «каждый фестиваль должен был быть посвящен определенной теме и отражать традиционные мировоззрение и представления удмуртского народа, связанные с мифологией, историей, обычаями и т. д.»23.
Фестивали являются примером обращения этнофутуристов к представлениям о будущем с идеальным мироустройством в народном мировоззрении. Подтверждают эту концепцию программные тексты фестивалей.
В концепции фестиваля «Егит гондыр веме» («Дом молодого медведя», 1998 г.) – это посыл к идеальным взаимоотношениям, ностальгия о гармоничном прошлом и земном рае: «“Егит гондыр веме” – это помочи по созданию дома для молодого медведя, для молодого финно-угра, дома, где господствует взаимопонимание, взаимоуважение, любовь – извечное стремление к идеальному устройству в религиозно-мифологических представлениях удмуртов и других финно-угров, желание вернуться назад, прийти к своим идеальным истокам, ностальгия по утраченному земному раю и мечты о благополучном будущем»24.
Фестиваль «Калмез» («Рыба-человек», 1999 г.), посвященный рыболовству, реке и рыбе в культуре и мифологии удмуртов, также отсылает к идее идеального устройства мира и гармоничного взаимодействия человека и природы: «“Калмез” – это одно из двух больших делений удмуртов на две группы, восходящее к тотемным названиям. Калмез, Каламиес, Калмеес, Калембер, Калапаев – это богатейшая информация о традиционных представлениях как удмуртов, так и других финно-угров об идеальном устройстве мира: человек – общество – природа…»25.
Фестиваль «Мушому» («Земля пчел», 2000 г.) посвящен образу пчелы в культуре и жизни финно-угорских народов. В качестве главного примера идеального общественного устройства выступали пчелиные семьи: «Пчелы традиционно ассоциируются с трудолюбием, дружной жизнью, большим числом. Это напоминает образ идеально организованного общественного устройства – семьи. <…> Пчела – один из главных конструируемых элементов идеального жизнеустройства финно-угров…»
Фестиваль «Тангыра» («Удмуртский там-там», 2001 г.) ‒ о традиционных инструментах. Он несет в концепции идею создания идеального будущего под звуки традиционных инструментов: «Создадим образ идеально организованного мирового устройства под звуки вновь воссозданного удмуртского дымбыра, пу дымбыра, тангыры...»26.
Таким образом, мы видим, как концепции фестивалей и деятельность этнофутуристов отражают идею «футуризма» и будущего своего народа, стремление к иному восприятию времени, утраченному идеальному мироустройству, образ которого был в традиционной культуре. Стоит отметить, что трактовка времени не перекликается с современным его пониманием, где его необходимо заново открывать, стремясь разрушить «старый мир», порой даже искусственно создавая «новую реальность». Удмуртские и финно-угорские этнофутуристы на основе представлений о традиционной модели мира хотят в своем творчестве переосмыслить современное понимание будущего, времени и пространства с учетом когда-то существующей идеальной модели.
Эти подходы этнофутуристов анализируются искусствоведами. В. О. Гартиг пишет: «По представлениям человека традиционной культуры мир организован гармонично: все движется, живет и умирает по стройно выработанным законам природы. Каждое сказанное слово имеет известное влияние на окружающую среду. Человек может расстроить это гармоничное течение жизни особо сказанным словом, магическим действием, острым взглядом, а может и восстановить утраченное равновесие. Именно на гармонизацию окружающего мира и направлено творчество этнофутуристов, уловивших негативные нотки современности»27. Об обращении к цикличному времени в работах этнофутуристов упоминает музыковед М. Г. Ходырева: «… В моноспектаклях и перформансах Ю. Лобанова прослеживаются архаичные принципы драматургии обрядового цикла. Это ostinato – принцип повтора»28.
О цели этнофутуристов создать идеальное мироустройство (хотя бы для своей культуры) как главной идее этнофутуристического движения говорится и в тексте манифеста удмуртских этнофутуристов «Манифест трех» 2003 г.: «Дерево этнофутуризма обязательно наполнит весь мир своим благоуханием; оно расцветет множеством неповторимых соцветий – полифонией Веры, Надежды, Любви»29. Сторонники манифеста считали движение явлением, способным положительно повлиять на весь мир, наполнив его энергией добра и гармонии. Также в приведенной цитате прослеживается связь с архетипическим образом дерева – важным и близким символом для финно-угорской культуры. Согласно этому программному документу, этнофутуризм призван вести борьбу со злом, холодом и «лечить души».
В процессе интервью удмуртским этнофутуристам задавался вопрос, каким они, художники, видят идеальное будущее. Художник Ю. Н. Лобанов, ссылаясь на образ дерева, отметил: «Идеальное будущее мы видим в “Умпу Вапум” и в “Шудо Вапум”. Это в переводе на русский язык “Древо Сновидений в Золотом Веке Кылдысина”. В новой фантасмагорической трактовке этого Золотого века. Через стиль “пуан” и “этносталкинг” движемся по пути создания и постижения нашего психоделического эпоса “Умпу Вапум” как художественного проекта, построенного через сновидения» [ПМА, 2024].
«Умпу вапум» («Время дерева сновидений») назывался и прошедший в 2023 г. в деревне Варавай 6-й этнофутуристический симпозиум, и снятая во время него первая часть полнометражного фильма. Вторая часть ‒ «Шудо вапум» («счастливое время») ‒ была снята во время симпозиума в августе 2024 г. По словам Ю. Н. Лобанова, этот фильм можно считать визуализацией представления этнофутуристов об идеальном будущем. В основе сюжета лежит путешествие трех странников, ищущих себя. В ходе странствия они выходят на территорию удмуртского мольбища Булда, где совершают определенные действия и молитвы, записанные Ю. Н. Лобановым со слов своего отца. Оба понятия «умпу вапум» и «шудо вапум» не имеют аналогов в удмуртском языке и придуманы самим художником. Понятие «шудо вапум» олицетворяет собственно «золотой век», но в придуманном художником термине намеренно не используется дословный перевод слова зарни (золотой), поскольку применяется иносказание как распространенный в удмуртской традиции прием. Примечательно, что словом «умпу» (дерево сновидений) назван и финно-угорский «шаманский оркестр», состоящий из участников этнофутуристических симпозиумов. В концепции симпозиума «Умпу вапум» отражен образ идеального мира и мирового дерева как части культуры и мифологии финно-угорских народов: «Все деревья планеты соединены между собой невидимой информационной паутиной. Они постоянно общаются. И в этом общении нет негативных вибраций. Мы – дети Леса, Рек и Родников. И деревья в наших лесах – это наши братья и сестры.
Творческие люди из Ижевска, Кезского района Удмуртии, Курска, Владивостока, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга творили в удмуртской деревне Варавай Якшур-Бодьинского района, получали удмуртские имена посвящения и передавали сокровенные мысли и сакральные песнопения деревьям. А они разносили их по всей планете!»30
Таким образом, творческие приемы художников-этнофутуристов связаны с поиском идеального мира через «трансперсональное» путешествие и акции утопического «золотого века», который связывается с архетипическим образом дерева, а ключевую роль в этом поиске занимают сновидения. На важную роль сна как образа и приема этнофутуристов (или точнее ‒ «первосна») указывал еще в 2004 г. поэт-этнофутурист, литературовед В. Л. Шибанов в статье «Этнофутуризм как могильщик постмодернизма». Говоря о том, что этнофутуризм способен стать своеобразным выходом из постмодернистского тупика, В. Л. Шибанов отталкивался от психоаналитической теории культуры философа И. Смирнова и связывал понятие «первосон» (туманная психика еще не родившегося ребенка, но уже воспринимающего мир в сознании) с архаико-мифологическим сознанием: «…если развитие мирового искусства на самом деле напоминает развитие психики младенца, то следующей фазой развития литературы и искусства должен стать так называемый “первосон”, так или иначе соотносимый с этнофутуризмом»31.
Однако описание и стремление к идеальному мироустройству не является единственным возможным вариантом в удмуртской культуре. Встречается описание негативного эсхатологического сценария будущего, пример – финальная 10-я песнь «Будущие времена» удмуртского эпоса. Финал эпоса описывает измельчение и вырождение человечества в будущем, где на смену мифическим великанам зэрпалам придут люди, названные в эпосе «пыжиками»:
«Впереди еще мрачнее,
будет новая порода
с муравьев те люди ростом.
“Пыжики” их имя будет.
Приподнять с земли былинку
семеро с трудом возьмутся,
пыжась еле через силу.
Их конями мыши будут.
Морды пыжиков свиные,
с длинной пастью безобразной.
Так погибнет постепенно человечья вся порода»32.
Впервые текст этой песни был опубликован в 1994 г. в книге «Под тенью зэрпала», соавтором которой был поэт-этнофутурист В. Л. Шибанов33. Для произведений и героев писателей-этнофутуристов характерна тема неопределенности будущего, неприятия городского уклада, стремление уйти от реальности жизни и др. Этот взгляд на будущее отличает этнофутуристов-писателей от этнофутуристов-художников, хотя и те и другие опираются в творчестве на народную мифологию и постмодернизм. О подходе писателей к идее будущего литературовед А. А. Арзамазов пишет так: «Современную литературу можно рассматривать как систему этнического понимания перехода из прошлого в будущее посредством настоящего. Автор трансформирует и модернизирует миф (М. Федотов “Вӧсь”, В. Ар-Серги “Таяз ярдурын”, П. Захаров “Вож выж”). Мифический взгляд в будущее из прошлого – то, что объединяет этих поэтов и их книги»34. Снова обратимся к анализу работ В. Е. Владыкина, который также является и известным поэтом, всегда близко стоящим к движению этнофутуризма, оказавшему на него влияние:
«Будущее – таинственно-загадочное, одновременно далекое и близкое, но всегда дорогое. Удмуртское будущее – это мечта, окрыленная надеждой, доброе, греющее три зимы слово. Не идиллия, не сказка, но душевное спокойствие, вдохновенно талантливое умение жить. Однако иногда в сердце закрадывается чувство глубокой тревоги:
Мой народ все еще очень беден,
Но у него уже есть богатое прошлое.
А будущее?»35
Как мы видим, вопрос об «удмуртском будущем» остается открытым, актуальным и для творческих поисков этнофутуристов.
Заключение
В традиционной культуре удмуртов существовали разные представления о будущем и способы его прогнозирования посредством магических действий, обрядов, молитв-куриськон, утопических картин идеального мира в фольклорных произведениях и мифологии. Это отражало традиционное восприятие картины мира с моделью будущего и цикличным временем. Этнофутуристы в своем творчестве используют в основном эти отчасти утраченные народные представления, пытаются воссоздать их в работах, стремятся с помощью движения к созданию (воссозданию) идеального мироустройства в будущем, опираясь на его образ в фольклоре или представляя таким идеальным будущим возврат к традиционному удмуртскому обществу и культуре в противовес современности.
Художники-этнофутуристы позиционируют себя в роли туно – удмуртского шамана, способного предвидеть будущее. Концепции этнофутуристических фестивалей и выставок связываются с образом идеального мироустройства согласно удмуртской народной традиции: это гармония человека и природы, общественное и семейное устройство, утопия о «Золотом веке» Кылдысина. В перформансах также используются традиционные молитвы-куриськон. Отметим, что в своих манифестах этнофутуристы определяют идеальное будущее через образ дерева сновидений, возвращение к «Золотому веку» верховного бога и творца, к народным утопическим представлениям.
Однако кроме позитивного сценария и картины будущего существует и его негативный образ, который отражен в последней главе удмуртского эпоса, повествующей о конце света и вырождении человечества. В негативном ключе предстает иногда будущее в произведениях удмуртских писателей и поэтов-этнофутуристов, так выражается их рефлексия о судьбе народа и его культуры.
В ходе проведенного исследования удалось выявить различные примеры традиционных представлений удмуртов о будущем и проследить воплощение некоторых из них в деятельности современных удмуртских художников-этнофутуристов. Эта тема, по нашему мнению, открывает широкие перспективы для дальнейшего исследования смыслов и основ, причин возникновения, развития и актуальности этнофутуристического движения не только у удмуртов, но и у других финно-угорских народов.
[1] Пярл-Лыхмус Маарья, Каукси Юлле, Хейнапуу Андрес, Кивисильдник Свен. Этнофутуризм: образ мышления и альтернатива на будущее [Электронный ресурс]. URL: http://www.suri.ee/etnofutu/texts/obraz.html (дата обращения: 20.05.2024).
[2] Карпов С. О. Этнофутуризм до этнофутуризма // Современная культура и проблемы образования. Культурологические дебюты : сб. науч. ст. студентов / Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. СПб. : Центр научно-производственных технологий «Астерион», 2019. С. 21‒31. EDN: TMXPMS
[3] Аспекты будущего (по этнографическим и фольклорным материалам) : сб. науч. ст. СПб. : Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 2012. 356 с. EDN: QJBJVD
[4] Владыкин В. Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск : Удмуртия, 1994. 383 с.
[5] Владыкина Т. Г. Удмуртский фольклорный миротекст: образ, символ, ритуал. Ижевск : Монпоражён, 2018. 298 с. EDN: VYGGCY
[6] Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Вопросы литературы и эстетики. М. : Художественная литература, 1975. С. 242.
[8] Владыкин В. Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. С. 222.
[9] Арзамазов А. А. Эскизы. Ижевск : Инвожо, 2005. С. 30.
[11] Владыкин В. Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. С. 293.
[12] Владыкин В. Е. Удмуртские воспоминания о счастливом будущем // Удмурт оскон: вашкала куриськонъёс, вӧсяськонъёс, статьяос = Удмуртская вера: древние молитвы-заклинания, статьи. Ижевск : Удмуртия, 2010. С. 110–134.
[13] Владыкин В. Е. Удмуртские воспоминания о счастливом будущем. С. 115.
[15] ПМА – полевые материалы автора.
[16] Нуриева И. М. Музыкальный язык удмуртского ритуала: Время. Пространство. Ижевск : Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН, 2018. С. 32. EDN: UJQIZE
[17] Шутова Н. И. Женское божество плодородия в духовной жизни финно-угров Приуралья // Об этнической психологии удмуртов. Ижевск : Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, 1998. С. 31. EDN: VJOVYP
[18] Владыкина Т. Г. Удмуртский фольклорный миротекст: образ, символ, ритуал. С. 101. EDN: VYGGCY
[19] Владыкина Т. Г. Знающий (туно) в удмуртской традиционной культуре // Удмуртская мифология. Ижевск : Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, 2004. С. 97. EDN: SJNMSJ
[20] Лобанов Ю. Н. Удмуртский шаманизм: моя архаика и моя современность / Егит гондыр веме. Одомаа. Эрумаа. Калмез. Мушому. Тангыра. Идна. Ижевск, 2002. С. 108.
[21] Лобанов Ю. Н. Удмуртский шаманизм: моя архаика и моя современность. С. 110.
[22] Лобанов Ю. Н., Пушин А. В. Удому – внутренняя удмуртия. ньыльдон кык – сорок два. URL: https://vk.com/wall-212373059_18 (дата обращения: 20.05.2024).
[23] Миннияхметова Т. Г. Представляя образ идеального Будущего: этнофутуристические фестивали в Удмуртии // Инвожо. 2004. № 10. С. 93.
[24] Егит гондыр веме. Одомаа. Эрумаа. Калмез. Мушому. Тангыра. Идна. Ижевск : МарШак, 2002. С. 15.
[27] Гартиг В. О. Творчество Кучыран Юри / Кучыран Юри (изоиздание). Ижевск : Удмуртия, 2010. С. 15.
[28] Ходырева М. Г. Перформанс – это художественный акт / Кучыран Юри (изоиздание). Ижевск : Удмуртия, 2010. С. 77.
[29] Лобанов Ю. Н., Ходырева М. Г., Прокопьев А. Н. Манифест трех // Инвожо. 2003. № 6‒7. С. 32.
[30] Лобанов Ю. Н. Умпу вапум. URL: https://vk.com/wall479355603_2359 (дата обращения: 20.05.2024).
[31] Шибанов В. Л. Этнофутуризм как могильщик постмодернизма // Инвожо. 2004. № 10. С. 23. EDN: ZRXKHR
[32] Век Кылдысина = Кылдысинлэн даурез. Ижевск : Удмуртия, 2008. С. 103. EDN: SHJRFN
[33] Васильев С. Ф., Шибанов В. Л. Под тенью зэрпала (дискурсивность, самосознание и логика истории удмуртов). Ижевск : Изд-во Удм. ун-та, 1997. Т. 1. 304 с. EDN: ZROJYZ
[34] Арзамазов А. А. Эскизы. С. 44‒45.
Об авторах
Богдан Витальевич Анфиногенов
Научно-исследовательский институт национального образования
Автор, ответственный за переписку.
Email: bogdananf@mail.ru
ORCID iD: 0009-0000-0861-3504
SPIN-код: 2500-6460
младший научный сотрудник
Россия, 426051, г. Ижевск, ул. М. Горького, 73, каб. 409Список литературы
- Прохоренко И. М. Этнофутуризм и футуризм: к вопросу отсутствия преемственности между явлениями // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. № 63‒1. С. 264‒268. EDN: LTHAKR
- Алексеева Т. П. Фольклоризм в неопримитивизме русского авангарда первых десятилетий XX века // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2016. № 4 (24). С. 5‒25. https://doi.org/10.17223/22220836/24/1
- Савельева Т. В. Народная футурология: будущее в прошлом // Горизонты цивилизации. 2014. № 5. С. 242‒254. URL: https://clck.ru/3F3PNh (дата обращения: 07.07.2024).
- Гузенкова Т. С. Будущее как предмет антропологии // Исторические Исследования. Журнал Исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 2018. № 11. С. 17‒34. URL: https://clck.ru/3F3Q2J (дата обращения: 07.07.2024).
- Шведова И. В. Понимание времени в традиционной народной культуре и актуальных этнокультурных практиках (Опыт герменевтической реконструкции) // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2018. Т. 4, № 4. С. 67‒75. https://doi.org/10.18413/2408-932X-2018-4-4-0-6
- Владыкина Т. Г., Глухова Г. А. Этнокультурный контекст представлений удмуртов о времени // Традиционная культура. 2013. Т. 14, № 1. С. 110‒117. URL: https://clck.ru/3F3Rp6 (дата обращения: 07.07.2024).
- Владыкина Т. Г., Глухова Г. А., Панина Т. И. Удмуртский народный календарь и сельский социум // Научный диалог. 2017. № 10. С. 149‒169. https://doi.org/10.24224/2227-1295-2017-10-149-169
- Миннияхметова Т. Г. О некоторых особенностях ориентации во времени и пространстве // Ежегодник финно-угорских исследований. 2016. Т. 10, № 3. С. 56‒61. URL: https://clck.ru/3F3Vet (дата обращения: 22.06.2024).
- Вельм И. М. Миф и мифологическое мышление в структуре этнического менталитета (на примере удмуртского этноса) // Мир психологии. 2003. № 3 (35). С. 119‒131.
- Арзамазов А. А. Художественные контексты будущего времени в поэзии Петра Захарова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12, № 5. С. 42‒46. https://doi.org/10.30853/filnauki.2019.5.9
- Шибанов В. Л. Этнофутуризм: между архаическим мифом и европейским постмодернизмом // Вестник Удмуртского университета. Сер.: История и филология. 2007. № 1. С. 163‒168. EDN: IAPZYH
- Шутова Н. И. Удмуртские знающие/гадатели туно в конце XVIII‒XX веках: способности, функции, социальный статус // Традиционная культура. 2017. Т. 18, № 2. С. 67‒78. URL: https://clck.ru/3F3XXb (дата обращения: 22.06.2024).
Дополнительные файлы