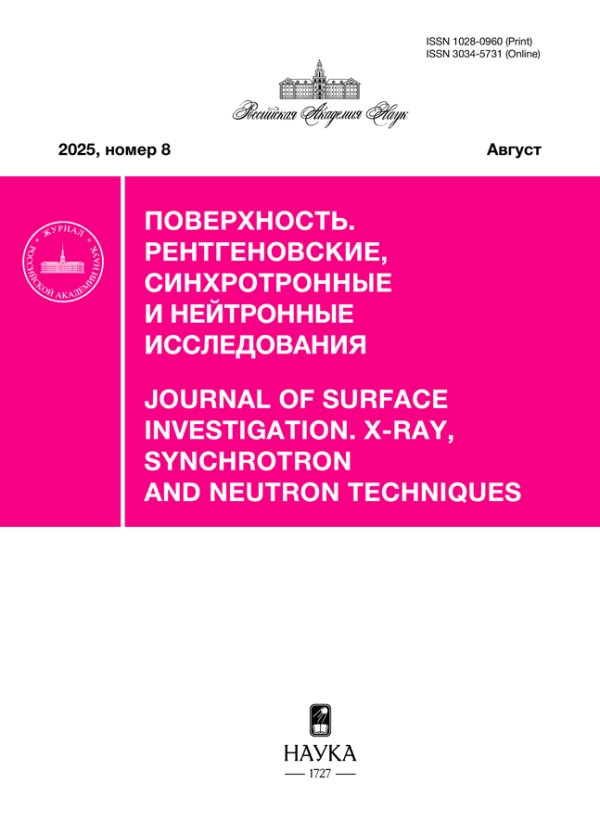Interaction of Titanium Atoms with the Surface of Perfect and Defective Carbon Nanotubes
- Authors: Sozykin S.A.1, Beskachko V.P.1
-
Affiliations:
- Physics of Nanoscale Systems Department, South Ural State University
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 26-35
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/1028-0960/article/view/257499
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1028096024020041
- EDN: https://elibrary.ru/BDCTJA
- ID: 257499
Cite item
Full Text
Abstract
The dispersion of metal atoms over the surface of 1D and 2D carbon systems is the most affordable way to control their properties, which are attractive for many applications in electronics, power engineering, and catalysis. In this work, the features of the interaction of titanium atoms with the surface of carbon nanotubes, caused by various structural defects on these surfaces, were studied by first-principles computer simulation based on the density functional theory. Nanotubes (7, 7) and (11, 0) with similar diameters (≈1 nm) but different types of conductivity, metallic and semiconductor, respectively, were chosen for the study. Three types of defects were studied: a single vacancy, a double vacancy, and a topological defect. Two possible orientations of each type of defect relative to the tube axis were considered. We mainly used the basis of atomic-like orbitals (the SIESTA package) and in some test calculations also the basis of plane waves (the VASP package). Computational experiments have shown that the binding energy of Ti atoms with a defect-free nanotube is always lower than with defective ones, regardless of the used approximation for the exchange-correlation functional (LDA or GGA). The binding energies predicted in the LDA approximation are noticeably higher than in the GGA approximation (up to ~15% for the (7, 7) tube and up to ~50% for the (11, 0) tube). The strongest coupling occurs when the titanium atom is adsorbed on a nanotube with a single vacancy. The resulting configuration can be considered as a defect in the substitution of one carbon by a titanium atom.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Углеродные нанотрубки (УНТ) находят множество применений в различных областях науки и техники: в электронике (межсоединения, каналы полевых транзисторов, наноантенны) [1], в материаловедении (композиты с разнообразными механическими, электрическими и оптическими свойствами), в сенсорике (датчики множества параметров окружающей среды), в медицине и других областях. Одной из таких областей является “зеленая” энергетика, в которой УНТ и их аналоги рассматривают как перспективные материалы для накопления и хранения энергии в экологически чистой форме – электрической (в электрических аккумуляторах) или химической (в хранилищах водорода). Сами по себе УНТ на практике не самый лучший материал для хранения молекулярного водорода из-за слишком малой энергии (физической) связи молекулы H2 c углеродным каркасом трубки (~40 мэВ) и вытекающими отсюда высокими требованиями к термодинамическим условиям хранения (криогенные температуры, давления в сотни атмосфер). Существуют материалы, гидриды металлов, в которых энергия (химической) связи гораздо выше ~1 эВ. Они прочно связывают водород, но отдают его, когда потребуется, с большим трудом – при температурах в сотни градусов Цельсия. Известно, что энергия связи молекул H2, при которой материал хранилища будет привлекателен на практике, лежит в интервале 200–600 мэВ, т.е. там, где невозможна ни физическая, ни химическая адсорбция водорода [2]. В этом состоит одна из проблем, которую нужно решить. Есть и другие – материал должен обладать достаточной водородной емкостью (не меньше 6–7 масс. % водорода), устойчивостью к многократным циклам зарядки–разрядки. В решении этих проблем УНТ имеют несомненные преимущества, от которых трудно отказаться: большую удельную поверхность, высокую прочность и химическую стойкость, низкую массовую плотность. Однако этого недостаточно: необходимо найти способ управлять энергией связи водорода с углеродным каркасом так, чтобы эта энергия лежала в нужном интервале. Иначе как создать на поверхности трубки центры адсорбции, более активные по сравнению с ее естественными центрами? В принципе, ответ давно известен: нужно на поверхности сорбента создать неоднородности в виде структурных дефектов или/и сильно связанных с этой поверхностью сторонних атомов (декорировать поверхность). Весь вопрос в том, каких дефектов и каких атомов. Собственно, вокруг этих вопросов и сосредоточена деятельность исследователей, ищущих лучшие материалы для приложений, упомянутых выше, и не только их.
Заметим, что существует и третий способ управления свойствами низкоразмерных систем – использование структурных аналогов кристаллических аллотропов углерода иной химической природы, в частности, нанотрубок SiC [3], BN [4, 5] и других. Однако “тюнинг” этих свойств под конкретное приложение достигается теми же средствами, что и выше, – структурные дефекты и декор.
Экспериментальные и теоретические исследования взаимодействия сторонних атомов с поверхностью УНТ начались вскоре после их открытия. Эксперименты показали [6], что в большинстве случаев осаждение металлов (Au, Al, Pd и Fe) на поверхности трубки приводит к образованию дискретных наночастиц из-за слабого взаимодействия между металлами и нанотрубками. Исключение составляет титан, который способен создавать сплошное покрытие из-за сильного взаимодействия с углеродом. Однако в первых компьютерных экспериментах (например, [7]) было показано, что энергия связи атомов Ti с трубкой отнюдь не рекордная (2.9 эВ) и несколько меньше, чем атомов Fe (3.1 эВ). Среди данных, приведенных в [7], найдутся и металлы, энергия связи атомов которых существенно больше, чем для Ti, например, Cr, Mn, Mo (3.7, 3.4 и 4.6 эВ соответственно). Поэтому “сила связи” атома с трубкой, если ее оценивать по энергии связи, не является единственным фактором, определяющим морфологию адсорбата на поверхности трубки. Вторым фактором, конкурирующим с первым, является, как известно, энергия когезии в объемной фазе металла как мера взаимодействия атомов металла друг с другом. Есть и другие факторы, которые необходимо учесть при оценке сценариев распределения примесных атомов на поверхности трубки [8]. Как бы то ни было, реализация почти любого сценария представляет интерес для определенных приложений. Например, сплошное пленочное покрытие, как в случае с Ti, играет роль буферного слоя, который предоставляет множество возможностей для дальнейшей функционализации комплекса УНТ + Ti – покрытия его слоями других металлов (нанопроволоки диаметром менее 10 нм), сплавами и соединениями, обладающими специальными свойствами (магнитными, сверхпроводящими, оптическими). Другой предельный случай, когда сторонние атомы равномерно диспергированы по поверхности трубки и не образуют на ней сколь-нибудь связанных систем (кластеров, островков или других образований, указывающих на возможность образования сплошной поверхностной или объемной фаз), весьма привлекателен для приложений, использующих сорбционные свойства поверхностей: извлечения полезных или, наоборот, вредных примесей из окружающей среды, накопления и хранения носителей энергии в электрической или химической форме (электрические аккумуляторы и хранилища водорода). Покрытия в виде кластеров или наночастиц привлекают интерес в связи с использованием каталитических процессов разного рода.
Возможность диспергировать атомы Ti по поверхности УНТ за счет создания более активных центров адсорбции на топологических дефектах типа Стоуна–Уэйльса (Stone–Wales) и одиночной вакансии была рассмотрена методом компьютерного моделирования в [9]. На примере трубки (8, 0) было показано, что энергия связи атомов Ti с дефектами Стоуна–Уэйльса хотя и заметно увеличивается, но не настолько, чтобы исключить возможность коалесценции этих атомов. Эта возможность исключается, если атом Ti адсорбируется на дефекте типа вакансии. В таком состоянии он способен адсорбировать до пяти молекул H2. Позднее подобные же расчеты были выполнены для Ca на примере трубки (7, 7) с дефектами Стоуна–Уэйльса, моно- и дивакансии [10]. Оказалось, что во всех случаях присутствие дефектов позволяет предотвратить коалесценцию атомов Ca, но не позволяет достичь желаемой энергии связи Ca–H2. В [11] авторы вновь рассмотрели адсорбцию титана на одностенных УНТ, содержащих дефекты Стоуна–Уэйльса типа (5–8) и дефект замещения двух атомов C одним атомом Ti. Они обнаружили четыре стабильные конфигурации, в которых атом Ti располагался на шестичленном кольце, на пяти- и восьмичленных кольцах дефекта Стоуна–Уэйльса и одну с дефектом замещения. Этот результат, кажется, противоречит данным [9], возможно из-за того, что в [11] стабильность расположения атома примеси на дефекте оценена по его энергии когезии – энергии, необходимой для разрыва связи между этим атомом и дефектной структурой, а не по склонности примесных атомов к коалесценции. Интересный способ подавить склонность атомов Ti к коалесценции был предложен в [12] – метод парного легирования титаном поверхности УНТ. Он не требует присутствия каких-либо дефектов на трубке, но требует, чтобы ее поверхность заселяли пары атомов титана (димеры). Тяга к коалесценции одного из этих атомов частично компенсируется взаимодействием со вторым атомом той же пары. Среди десятка рассмотренных авторами конфигураций четыре отвечают требованиям по энергии связи и количеству адсорбируемых молекул H2. Не ясно, однако, как реализовать этот процесс парного заселения.
Наконец, дефекты и/или адсорбированные атомы способны изменить не только сорбционные свойства УНТ, но и многие другие свойства – механические, тепловые, магнитные, электрические. Можно сказать, что декорированные УНТ представляют собой класс гибридных наноструктурированных материалов, вызывающих большой интерес для применения в целом ряде областей – от наноэлектроники и спинтроники до наномедицины и магнитной записи данных. В обзоре [13] дано достаточно полное описание свойств таких материалов, методов их синтеза и использования новых многофункциональных устройств с широким спектром применений.
В настоящее время накоплен значительный объем данных компьютерных экспериментов, касающихся свойств УНТ, модифицированных посредством внесения дефектов, декорирования сторонними атомами или изменения состава. Эти данные были получены в разное время с использованием разных приближений и на разных компьютерных моделях. Неудивительно поэтому, что предсказания часто противоречат друг другу и опытным данным, которые сами по себе не согласуются. Поэтому можно сказать, что рассматриваемая область исследований уже сформировалась и обогатилась некоторыми принципами, но еще далека от завершения – способности надежно предсказывать свойства модифицированных трубок (на уровне, достаточном для количественного сравнения с экспериментом). Целью настоящей работы было рассмотрение в рамках единого подхода строения и свойств УНТ, содержащих дефекты разных типов, еще совместимых с понятием “нанотрубка”. Примем во внимание, что каждый дефект определенного типа (одиночные вакансии, двойные вакансии, топологические дефекты) существует на трубке в двух видах, различающихся ориентацией относительно оси трубки. Этот фактор часто не рассматривают, и его роль в формировании свойств трубки пока не выяснена.
МОДЕЛЬ И МЕТОД
В работе рассматривали УНТ (7, 7) и (11, 0) с близкими диаметрами (0.959 и 0.872 нм соответственно), но разными типами электрической проводимости: (7, 7) – металлическим, (11, 0) – полупроводниковым. Атомная структура моделей нанотрубок приведена на рис. 1. Кроме моделей совершенных УНТ было рассмотрено по шесть вариантов трубок с дефектами атомной структуры: двумя одиночными вакансиями, двумя двойными вакансиями и двумя топологическими дефектами.
Рис. 1. Атомная структура бездефектных УНТ (11, 0) (а) и (7, 7) (б)
Присутствие дефекта нарушает естественную трансляционную симметрию совершенной трубки, а использование периодических граничных условий искусственно восстанавливает эту симметрию, но с периодом, равным размеру lz расчетной ячейки вдоль оси трубки. С тем же периодом вдоль этой оси будут располагаться и дефекты, которые будут взаимодействовать друг с другом сильно или слабо в зависимости от величины lz. Для изучения свойств дефектов (не взаимодействующих друг с другом, изолированных) следует исключить (или по возможности минимизировать) указанные размерные эффекты. В [14] был подробно рассмотрен этот вопрос на примере трубки (7, 7) с двойной вакансией. В настоящей работе была использована эта модель при условии lz ≈ 2 нм (восемь элементарных ячеек и 224 атома углерода в моделируемом фрагменте совершенной трубки (7, 7) и пять элементарных ячеек с 220 атомами углерода в модели трубки (11, 0)).
Моделирование осуществляли методом функционала электронной плотности, реализованным в пакете SIESTA [15]. Базис атомоподобных орбиталей для углерода был взят из [16], а для титана использован стандартный DZP-базис. Расчеты проводили как в приближении локальной электронной плотности (LDA, функционал CA), так и в приближении обобщенных градиентов (GGA, функционал PBE), для того чтобы иметь возможность судить о надежности получаемых результатов, сравнивая предсказания этих приближений.
Параметр трансляции вдоль оси дефектной нанотрубки lz уточняли путем минимизации энергии бездефектной модели. При том же параметре lz геометрию модели оптимизировали еще два раза – после внесения дефекта и после добавления в модель атома Ti. Энергию образования дефекта рассчитывали по формуле:
,
где ECNT(def) – энергия нанотрубки с дефектом, ECNT(pure) – энергия бездефектной нанотрубки, n – количество атомов углерода, удаляемых из нанотрубки при образовании дефекта, EC – энергия одиночного атома углерода. Энергию адсорбции атома Ti рассчитывали по формуле:
,
где ECNT+Ti – энергия нанотрубки с адсорбированным атомом титана, ECNT+Ti – энергия нанотрубки либо совершенной (ECNT = ECNT(pure)), либо содержащей дефект (ECNT = ECNT(def)), ETi – энергия атома титана.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Равновесная атомная структура комплексов дефектной нанотрубки с атомом титана приведена на рис. 2. Обозначения типов структурных дефектов: a-circ – одиночная вакансия, в отсутствие атома сорбента представляет собой два сочлененных кольца из пяти и восьми атомов углерода (кольца 5–8), ось симметрии дефекта параллельна оси трубки; a-tilt – то же, что и a-circ, только ось дефекта наклонена относительно оси трубки на некоторый угол; DVn – двойная вакансия, симметричная структура из трех колец (кольца 5–8–5), с осью симметрии, параллельной оси трубки; DVt – то же, что и DVn, только ось дефекта наклонена относительно оси трубки; SWn – топологический дефект Стоуна–Вэллса, два кольца типа 5–7 с осью симметрии, параллельной оси трубки; SWt – то же, что и SWn, только ось симметрии наклонена к оси трубки.
Рис. 2. Равновесная атомная структура комплексов дефектной нанотрубки с атомом титана. Атомы углерода, принадлежащие дефекту, выделены более темным цветом. Обозначения дефектов описаны в тексте
Общая картина возникающих конфигураций (рис. 2) напоминает ту, что имеет место при взаимодействии нанотрубок с атомами щелочных металлов [17], когда атомы адсорбата обычно располагаются либо над центрами гексагонов на бездефектной части поверхности трубки, либо вблизи центров дефектных углеродных колец. Если следовать этой аналогии при выборе стартовых позиций для атома Ti, то после оптимизации геометрии этот атом смещается из стартового положения либо слегка, либо более заметным образом в зависимости от типа и ориентации дефекта, оставаясь при этом напротив того же углеродного кольца.
Значения энергии образования дефектов приведены на рис. 3. Видно, что главным фактором, определяющим энергию образования дефекта, является его тип. Независимо от выбора остальных факторов (вида трубки, приближения LDA/GGA и ориентации дефекта) наименьшей энергией характеризуется топологический дефект Стоуна–Уэйльса. Усредненная по всем упомянутым факторам энергия образования этого дефекта <Ed(SW)> = 3.45 эВ, а разброс ΔEd(SW) составляет ±0.4 эВ. Наибольший вклад в разброс вносят тип трубки и ориентация дефекта, тогда как выбор приближения LDA/GGA не столь важен. Для дефекта одиночной вакансии имеем <Ed(a)> = 14.66 эВ и Ed(a) = ±1.4 эВ. В этом случае в указанную неопределенность все три фактора могут вносить примерно одинаковый вклад. Последнее справедливо и для дефекта двойной вакансии, для которого <Ed(DV)> = 21.56 эВ, Ed(DV) = ±(2.6–2.9) эВ. Таким образом, можно констатировать, что энергию образования дефектов всех рассмотренных типов (Стоуна–Уэйльса, одиночной и двойной вакансии) можно предсказать с точностью 10–12%, не интересуясь типом трубки, ориентацией дефекта и не заботясь о “правильном выборе” обменно-корреляционного функционала. Если первые два фактора известны, то неопределенность предсказаний ΔEd(DV) можно уменьшить, но не радикально, поскольку неизвестно, как сделать упомянутый “правильный выбор”.
Рис. 3. Энергия образования дефектов в зависимости от выбора типа трубки, типа дефекта, ориентации дефекта на трубке и приближения для описания обменно-корреляционных эффектов
На рис. 4 показаны результаты расчета энергии связи атома титана с совершенной и дефектной поверхностью трубки. Нельзя не заметить некоторую аналогию с результатами, представленными на рис. 3 для энергии образования дефектов: слабее всего атом Ti связывается с топологическими дефектами (чуть сильнее, чем с совершенной поверхностью трубки), сильнее – с вакансиями, сильнее всего – с двойными вакансиями. Если, как и выше, усреднить результаты расчета Ebond для дефекта каждого типа по всем факторам, определяющим эту энергию, то получим оценки <Ebond> и ΔEbond, приведенные в поле рис. 4 над гистограммами, отвечающими определенному типу дефекта. Из этих данных следует, что неопределенности 10%, типичной для оценок энергии Ed образования дефектов разного типа, можно достичь при оценках энергии связи Ebond только в случае взаимодействия атомов Ti c топологическими дефектами. В случае дефектов типа вакансий она может достигать 50% и более, если не учитывать информацию о типе трубки, ориентации дефекта и “правильном” выборе приближений LDA/GGA.
Рис. 4. Энергия связи атома Ti c трубкой в зависимости от выбора типа трубки, типа дефекта, ориентации дефекта на трубке и приближения для описания обменно-корреляционных эффектов
Основной вклад в эту неопределенность вносит, по-видимому, последний из упомянутых ее источников. Если зафиксировать тип трубки, тип дефекта и его ориентацию и сравнить оценки энергии образования дефектов и энергии связи атомов Ti, полученные с помощью приближений LDA и GGA, посчитав их отношение η = ELDA/EGGA, то получим результаты, представленные на рис. 5. Видно, что для энергии образования дефектов 1.0 ≤ η ≤ 1.11, причем в случае дефектов Стоуна–Уэйльса η ближе к нижней границе и даже достигает ее, а в случае остальных – ближе к верхней границе. Для энергии связи атомов Ti c совершенными участками поверхности УНТ и с дефектами на ней результат менее утешительный: здесь интервал для η зависит от типа трубки и составляет 1.07 ≤ η ≤ 1.43 для трубки (7, 7) и 1.23 ≤ η ≤ 2.07 для трубки (11, 0). В связи с этим возникает вопрос: каким образом симметрия трубки влияет на взаимоотношения между приближениями LDA–GGA? Заметим, что значение η = 2.07 достигается на совершенной трубке (11, 0). Это можно было бы объяснить тем, что энергия связи Ti c совершенной трубкой мала, и поэтому велика роль погрешностей разного рода в ее подсчете. Однако энергия связи Ti с дефектами Стоуна–Вэллса лишь немного больше, но величина η для них не столь вызывающе велика.
Рис. 5. Отношение ELDA/EGGA для энергии: а – образования дефектов; б – связи атома Ti
Согласно литературным данным энергия связи атома титана с совершенной нанотрубкой зависит от ее хиральности и составляет от 1.6 до 2.2 эВ в приближении GGA [18]. Несколько больше энергия взаимодействия с графеном в приближении LDA – 2.64 эВ [19]. Для дырочного графина (holey graphyne) энергия связи (VASP, PBE-D3) титана в позиции над центром восьмичленного кольца составила 4.16 эВ [20]. В [11] показано, что замещение одним атомом титана двух соседних атомов углерода энергетически более выгодно, чем адсорбция атома титана на дефекте Стоуна–Уэйльса. Таким образом, полученные результаты для энергии связи не противоречат имеющимся литературным данным. Кроме того, были выполнены расчеты энергии связи титана на совершенной трубке (7, 7) при использовании как атомоподобного базиса, так и базиса плоских волн в том виде, как они реализованы в пакетах SIESTA и VASP [21] соответственно. При оценке влияния метода расчета на энергию связи размеры нанотрубок, на которых исследуют адсорбцию, должны совпадать. Учитывая вычислительную затратность расчетов в пакете VASP, мы в обоих пакетах рассмотрели несколько меньшую модель трубки (140 атомов углерода против 224 в расчетах, описанных выше). В методе плоских волн был использован PAW-псевдопотенциал с большим параметром отсечки по энергии (800 эВ). Сравнение результатов расчета, выполненных с помощью альтернативных базисов, показало, что энергия связи, предсказываемая VASP, меньше, чем в SIESTA, примерно на 10%. При учете результатов, представленных выше, такое соответствие следует признать вполне удовлетворительным. Кроме того, этот результат оправдывает выбор пакета SIESTA как средства для масштабных (многовариантных) расчетов.
Рассмотрим теперь, как присутствие дефектов и адсорбированных атомов влияет на электронную структуру УНТ с металлическим и полупроводниковым типом проводимости. Влияние на спин системы отражено в табл. 1. В отсутствие адсорбированного атома спин отличен от нуля только в случае вакансии при обеих ориентациях дефекта на УНТ (11, 0) и в a-tilt ориентации дефекта на УНТ (7, 7). При появлении атома титана самый большой спин (≈3 μВ) возникает на обеих совершенных нанотрубках. Его оцененная с помощью пакета VASP величина для трубки (7, 7) оказалось равной 2.14 μВ. Появление ненулевого спина согласуется с результатами [22] (2.41 μВ) и [18] (2 μВ).
Таблица 1. Спиновый момент (магнетон Бора) УНТ с дефектами и адсорбированными атомами Ti
УНТ(7, 7) + Ti | УНТ(7, 7) | УНТ(11, 0) + Ti | УНТ(11, 0) | |||||
LDA | GGA | LDA | GGA | LDA | GGA | LDA | GGA | |
SWNT | 2.96 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 3.13 | 0.00 | 0.00 |
A-circ | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
A-tilt | 1.98 | 1.95 | 0.62 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.81 |
SWn | 2.06 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
SWt | 2.02 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
DVn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
DVt | 2.19 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
В случае обеих трубок спин величиной ≈2 μВ возникает в присутствии атома Ti в четырех из шести вариантов выбора дефекта и его ориентации на трубке. На трубке (7, 7) он равен нулю для дефектов типа a-circ и Dvn, а на трубке (11, 0) – для обеих одиночных вакансий. Заметим, что в отличие от предсказаний энергии связи атома Ti предсказания спинового состояния рассматриваемых систем, сделанные в приближениях LDA и GGA, хорошо согласуются друг с другом даже в количественном отношении.
В [23] было обнаружено, что 3d-электроны титана частично переходят на углеродную нанотрубку и генерируют дополнительные состояния вблизи уровня Ферми. Это приводит к тому, что полупроводниковые нанотрубки превращаются в металлические, а в нанотрубках типа “кресло” может открываться зонная псевдощель из-за нарушения симметрии. Эти утверждения были проверены, в том числе и на нанотрубках с дефектами. Результаты приведены в табл. 2. Как видно из таблицы, появление запрещенной зоны в “металлических” нанотрубках, как и ее исчезновение в “полупроводниковых”, может происходить и без адсорбированного атома титана – к этому могут приводить дефекты структуры. Но с атомом титана изменения в зонной структуре проявляются в большем числе моделей, а в некоторых системах возникает зависимость от спина. Интересно, что анализ парциальных плотностей состояний (рисунки в этой работе не приведены) показывает, что отсутствуют системы, в которых верхняя полоса валентной зоны или нижняя полоса зоны проводимости соответствуют исключительно электронам титана: состояния углерода в некоторых системах сопоставимы по вкладу в плотность состояний вблизи уровня Ферми, но в большинстве случаев являются определяющими.
Таблица 2. Ширина запрещенной зоны (эВ) в УНТ с дефектами и адсорбированными атомами Ti
УНТ(7, 7) | УНТ(7, 7) + Ti | УНТ(11, 0) | УНТ(11, 0) + Ti | |||||
LDA | GGA | LDA | GGA | LDA | GGA | LDA | GGA | |
SWNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0.896 | 0 | 0 |
A-circ | 0 | 0 | 0.061 | 0.064 | u: 0.328 d: 0.387 | 0.382 | 0.727 | 0.681 |
A-tilt | 0 | 0 | 0.011 (0.068) | 0.019 (0.078) | 0 | 0 | 0.728 | 0.677 |
SWn | 0 | 0 | u: 0.076 d: 0.094 (0.086) | u: 0.092 (0.086) d: 0.088 | 0.852 (0.795) | 0.854 (0.806) | u: 0.532 d: 0.447 | u: 0.62 d: 0.49 |
SWt | 0.03 | 0.026 | u: 0.094 d: 0.051 | u: 0.125 d: 0.037 | 0.546 | 0.550 | u: 0.448 d: 0.568 (0.487) | u: 0.505 d: 0.572 (0.5) |
DVn | 0.048 | 0.053 | 0.068 | 0.073 | 0.232 | 0.239 | u: 0.338 d: 0.807 | u: 0.386 d: 0.763 |
DVt | 0.171 (0.048) | 0.179 (0.07) | 0.083 (0) | 0.084 (0.03) | 0.324 (0.3) | 0.335 (0.321) | u: 0.659 d: 0.825 | u: 0.636 d: 0.822 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненные расчеты показывают, что энергию образования дефектов всех типов (Стоуна–Уэйльса, одиночной и двойной вакансии) можно предсказать с точностью 10–12%, не интересуясь типом трубки, ориентацией дефекта и не заботясь о “правильном выборе” обменно-корреляционного функционала. Этого нельзя сказать в отношении результатов расчета энергии связи атомов металла с совершенным или дефектным углеродным каркасом. Ту же неопределенность 10% можно получить только в некоторых рассмотренных случаях, и все они относятся к трубке (7, 7). В остальных случаях она значительно выше и в основном связана с неопределенностью выбора приближения для обменно-корреляционного функционала (LDA или GGA). Эту неопределенность можно, видимо, уменьшить, используя искусство манипулирования гибридными функционалами и поступившись при этом первыми принципами. В остальном проведенные расчеты подтверждают известные данные о том, что энергия связи с бездефектными нанотрубками меньше, чем с дефектными, независимо от выбора приближения. Для титана самое сильное связывание ожидается в случае нанотрубки с дефектом моновакансии. Его можно рассматривать как дефект замещения одного атома углерода атомом титана.
Спиновые состояния системы изменяются в зависимости от вида дефекта и наличия адсорбированного атома Ti. В отсутствие этого атома спин отличен от нуля только в случае вакансии. При появлении атома титана самый большой спин (≈3 μВ) возникает на обеих бездефектных трубках, и спин ≈2 μВ – в четырех из шести вариантов выбора дефекта и его ориентации на трубке. Отрадно, что предсказания спинового состояния, сделанные в приближениях LDA и GGA, хорошо согласуются друг с другом даже в количественном отношении. Анализ зонной структуры моделей исследованных систем подтверждает возможность перехода трубки из металлического состояния в полупроводниковое и наоборот, возникающую при адсорбции сторонних атомов. Интересно, что такая возможность существует и в отсутствие таких атомов, но в присутствии дефектов.
БЛАГОДАРНОСТИ
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (грант № FENU-2023-0011 (2023011ГЗ)).
Конфликт интересов. Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
About the authors
S. A. Sozykin
Physics of Nanoscale Systems Department, South Ural State University
Author for correspondence.
Email: sozykinsa@susu.ru
Russian Federation, Chelyabinsk
V. P. Beskachko
Physics of Nanoscale Systems Department, South Ural State University
Email: sozykinsa@susu.ru
Russian Federation, Chelyabinsk
References
- Maheswaran R., Shanmugavel B.P. // J. Electron. Mater. 2022. V. 51. № 6. P. 2786. https://doi.org./10.1007/s11664-022-09516-8
- So S.H., Sung S.J., Yang S.J., Park C.R. // Electron. Mater. Lett. 2023. V. 19. № 1. P. 1. https://doi.org./10.1007/s13391-022-00368-2
- Mulatu A.T., Nigussa K.N., Deja L.D. // Opt. Mater. 2022. V. 134. P. 113094. https://doi.org./10.1016/j.optmat.2022.113094
- Dethan J.F.N., Swamy V. // Int. J. Hydrog. Energy. 2022. V. 47. № 59. P. 24916. https://doi.org./10.1016/j.ijhydene.2022.05.240
- Daulbayev C., Lesbayev B., Bakbolat B., Kaidar B., Sultanov F., Yeleuov M., Ustayeva G., Rakhymzhan N. // South African J. Chem. Eng. 2022. V. 39. P. 52. https://doi.org./10.1016/j.sajce.2021.11.008
- Zhang Y., Dai H. // Appl. Phys. Lett. 2000. V. 77. № 19. P. 3015. https://doi.org./10.1063/1.1324731
- Durgun E., Dag S., Bagci V. M. K., Gulseren O., Yildirim T., Ciraci S. // Phys. Rev. B. 2003. V. 67. P. 201401(R). https://doi.org./10.1103/PhysRevB.67.201401
- Liu M., Kutana A., Liu Y., Cui G., Zhang C., Dong N., Chen C., Han P. // J. Phys. Chem. Lett. 2014. V. 5. № 7. P. 1225. https://doi.org./10.1021/jz500199d
- Shevlin S.A., Guo Z.X. // J. Phys. Chem. C. 2008. V. 112. № 44. P. 17456. https://doi.org./10.1021/jp800074n
- Lee H., Ihm J., Cohen M.L., Louie S.G. // Phys. Rev. B. 2009. V. 80. № 11. P. 115412. https://doi.org./10.1103/PhysRevB.80.115412
- Ghosh S., Padmanabhan V. // Diam. Relat. Mater. 2017. V. 77. P. 46. https://doi.org./10.1016/j.diamond.2017.05.013
- Yang L., Yu L.L., Wei H.W., Li W.Q., Zhou X., Tian W.Q. // Int. J. Hydrog. Energy. 2019. V. 44. № 5. P. 2960. https://doi.org./10.1016/j.ijhydene.2018.12.028
- Soldano C. // Prog. Mater. Sci. 2015. V. 69. P. 183. https://doi.org./10.1016/j.pmatsci.2014.11.001
- Sozykin S.A., Beskachko V.P., Vyatkin G.P. // Mater. Sci. Forum. 2016. V. 843. P. 132. https://doi.org./10.4028/www.scientific.net/MSF.843.132
- Soler J.M., Artacho E., Gale J.D., Garc A., Junquera J., Ordej P., Daniel S. // J. Phys. Condens. Matter. 2002. V. 14. № 11. P. 2745. https://doi.org./10.1088/0953-8984/14/11/302
- Anikina E., Beskachko V. // Bull. South Ural State Univ. Ser. Math. Mech. Phys. 2020. V. 12. № 1. P. 55. https://doi.org./10.14529/mmph200107
- Sozykin S.A., Beskachko V.P. // Lett. Mater. 2022. V. 12. № 1. P. 32. https://doi.org./10.22226/2410-3535-2022-1-32-36
- Yildirim T., Ciraci S. // Phys. Rev. Lett. 2005. V. 94. № 17. P. 175501. https://doi.org./10.1103/PhysRevLett.94.175501
- Omidvar H., Mirzaei F.K., Rahimi M.H., Sadeghian Z. // New Carbon Mater. 2012. V. 27. № 6. P. 401. https://doi.org./10.1016/S1872-5805(12)60023-7
- Juhee D., Vikram M., Alok S., Brahmananda C. // Energy Storage. 2023. V. 5. № 1. P. e391. https://doi.org./10.1002/est2.391
- Kresse G., Furthmüller J. // Phys. Rev. B. 1996. V. 54. Iss. 16. P. 11169. https://doi.org./10.1103/PhysRevB.54.11169
- Felten A., Suarez-Martinez I., Ke X., Tendeloo G.V., Ghijsen J., Pireaux J.J., Drube W., Bittencourt C., Ewels C.P. // ChemPhysChem. 2009. V. 10. № 11. P. 1799. https://doi.org./10.1002/cphc.200900193
- Yang C.K., Zhao J., Lu J.P. // Phys. Rev. B. 2002. V. 66. № 4. P. 414031. https://doi.org./10.1103/PhysRevB.66.041403
Supplementary files