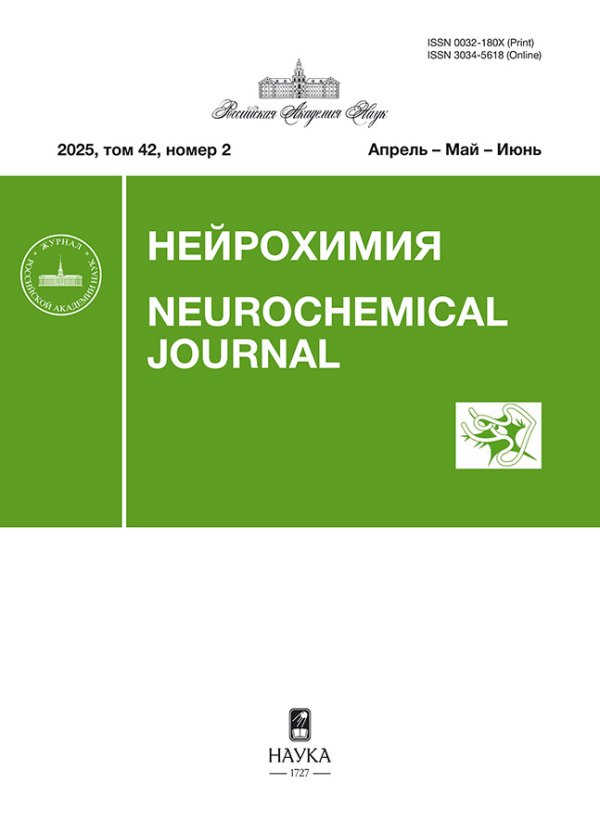Caspase-3 Activity and Autophagy Expression in the Development of Neuronal Resistance to Glutamate Toxicity
- Authors: Aleksandrova O.P.1,2, Kuznetsova D.V.3, Lyzhin A.A.1, Khaspekov L.G.1, Gulyaeva N.V.1, Yakovlev A.A.2,4
-
Affiliations:
- Brain Research Center at Research Center of Neurology
- Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, Russian Academy of Sciences
- First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov
- Moscow Research & Clinical Center for Neuropsychiatry, Moscow Research & Clinical Center for Neuropsychiatry
- Issue: Vol 41, No 2 (2024)
- Pages: 140-146
- Section: Experimental Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/1027-8133/article/view/269942
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1027813324020041
- EDN: https://elibrary.ru/ETIUMZ
- ID: 269942
Cite item
Full Text
Abstract
Two periods of autophagy activation, differently significant for the development of resistance, were demonstrated in the model of neuronal resistance to the toxic effect of glutamate (deprivation of trophic factors). The autophagy inhibitor 3-methyladenine (3-MA) at a concentration of 1.25 mM significantly suppresses resistance development, but only if applied immediately after deprivation of trophic factors. Inhibition of autophagy with 3-MA immediately during deprivation does not affect resistance production. In addition, activation of autophagy is responsible for the decrease in caspase-3 activity, although the mechanism of this process remains unclear. We hypothesize that resistance production in neurons is mediated by a decrease in caspase-3 activity as a result of autophagy activation.
Keywords
Full Text
Список сокращений:
ДТФ — депривация трофических факторов
BSS — сбалансированный солевой раствор
PBS — фосфатно-солевой буфер
3-МА – 3-метиладенин
ВВЕДЕНИЕ
Ишемическое прекондиционирование и возникающая вследствие этого ишемическая толерантность является одним из практически значимых способов защитить мозг от предстоящего повреждения. Сам феномен прекондиционирования состоит в том, что кратковременный, не вызывающий клеточной гибели эпизод ишемии мозга способен защитить нейроны от гибели при последующем продолжительном, вызывающем гибель нейронов эпизоде ишемии [1]. Ишемическая толерантность может быть вызвана кроме собственно кратковременной ишемии также кратковременными эпизодами гипоксии, воздействием небольшой концентрации провоспалительных факторов, некоторыми метаболитами, анестетиками и даже судорогами, если ограничиться только некоторыми общеизвестными примерами [2]. Прекондиционирующий стимул вызывает защиту от последующих повреждений уже через несколько минут после прекондиционирования, и эта фаза защиты продолжается несколько часов (ранняя фаза), спустя примерно сутки после прекондиционирования запускается вторая фаза защиты, и она продолжается несколько дней (отсроченная фаза). В раннюю фазу, как правило, происходит неспецифическое подавление синтеза белка, тогда как во время отсроченной фазы происходит увеличение синтеза определенных белков.
Прекондиционирование запускает процессы на клеточном, тканевом и общеорганизменном уровнях. Изменения, которые вызывает прекондиционирование, на уровне одного нейрона опосредуются несколькими молекулярными механизмами. На современном уровне понимания механизмов прекондиционирования быстрые изменения, запускающиеся сразу после прекондиционирования, включают в себя десенситизацию NMDA-рецепторов, закрытие ионных каналов, активацию протеинкиназ ERK, PKCå, Akt, ингибирование синтеза белка [3]. Более поздние изменения (12—72 ч) характеризуются такими процессами, как активация аутофагии, активация транскрипционных факторов HIF-1α (мастер регулятор реакции на гипоксию) и Nrf2 (мастер регулятор антиокислительных процессов). Вместе с этим в отсроченной фазе прекондиционирование подавляет апоптоз, экзайтотоксичность, воспаление [3].
Аутофагия является внутриклеточным процессом уничтожения поврежденных органелл и нефункциональных белков, при этом высвободившиеся в результате аутофагии аминокислоты сразу же становятся доступными для повторного использования [4]. Аутофагия есть даже у самых простых организмов и запускается в ответ на самые разнообразные неблагоприятные стимулы, такие как голодание, инфекция, чрезмерная нагрузка. В самых различных экспериментах установлено, что аутофагия является неотъемлемой частью гомеостаза. Показано, что в разных моделях прекондиционирования на клетках активируется аутофагия и от активации аутофагии зависит выработка устойчивости [5, 6]. Также показано, что в модели на животных ишемическое прекондиционирование вызывает активацию аутофагии через сутки после прекондиционирующего стимула и снижает экспрессию фосфорилированного mTOR через три дня после прекондиционирования [7]. Протеинкиназа mTOR наряду с множеством других своих функций является мастером — регулятором аутофагии в клетке и быстро реагирует на внеклеточные стимулы, в частности, при отсутствии аминокислот во внеклеточной среде угнетается активность mTOR и запускается аутофагия [8]. Однако в модели прекондиционирования на животных после прекондиционирующего стимула проходит целых три дня, прежде чем mTOR отреагирует на вмешательство. Возможно, mTOR изменяется уже во время или сразу после прекондиционирующего воздействия, хотя это может быть и не просто продемонстрировать экспериментально.
Еще одной системой, быстро реагирующей на изменяющиеся условия во время прекондиционирования, являются протеазы семейства каспаз. Каспазы являются основными исполнителями программы клеточной гибели и быстро активируются в ответ на апоптотические стимулы [9]. Прекондиционирование вызывает снижение экспрессии активных форм каспазы-3 и каспазы-9 через три дня после прекондиционирования в модели на животных [10]. Более вероятно, что столь фундаментальная система апоптотического сигналинга должна реагировать на стимул значительно раньше, возможно во время или сразу после прекондиционирования.
В своей работе мы хотели установить последовательность событий во время прекондиционирования в модели выработки устойчивости в нейронах в культуре. На разработанной нами ранее модели выработки устойчивости с помощью кратковременной депривации трофических факторов [11] мы исследовали временную динамику выраженности аутофагии и активации каспаз. Оказалось, что ингибирование аутофагии в течение первых суток после депривации, но не во время депривации, полностью отменяет защитный эффект прекондиционирования, при этом ингибирование аутофагии повышает активность и экспрессию каспаз.
МЕТОДИКА
Получение первичных нейрональных культур мозжечка. У трех постнатальных 8-дневных крыс, подвергнутых эвтаназии с помощью эфира, методом микродиссекции извлекали мозжечок и помещали его в раствор PBS (Gibco, США). После удаления мозговых оболочек и двукратной промывки в PBS мозжечок скальпелем разрезали на мелкие фрагменты и помещали их на 15 мин в термостат в 0.05%-ный раствор трипсина (Sigma-Aldrich, Германия). После этого действие трипсина нейтрализовали двукратной промывкой в среде для культивирования, которая состояла из 10% эмбриональной сыворотки коров (HyClone, США), около 86% минимальной среды “Игла” (Gibco, США), 10 mМ HEPES (Sigma-Aldrich, Германия), 2 mM глутамакса (Gibco, США), 25 мМ KCl (Sigma-Aldrich, Германия). Фрагменты ткани мозжечка помещали в центрифужную пробирку, диссоциировали механически в растворе PBS с добавлением среды для культивирования путем пятикратного пропускания фрагментов через суженное отверстие пастеровской пипетки. После спонтанного осаждения оставшихся фрагментов мозжечка надостадочную жидкость с содержащимися в ней диссоциированными клетками переносили в другую центрифужную пробирку. Указанную процедуру повторяли два-три раза до полной диссоциации ткани. Полученную суспензию диссоциированных клеток центрифугировали при 1000 об/мин в течение 3 мин. Супернатант удаляли, осажденные клетки ресуспендировали в среде для культивирования. Количество клеток в суспензии составляло 2—3 млн в 1 мл (подсчитано с помощью автоматического счетчика клеток Countess, Invitrogen, США). Суспензию дозатором разливали в 24-луночный планшет (Costar, США), предварительно обработанный 0.5 мг/мл полиэтиленимина (Sigma-Aldrich, Германия). Планшеты помещали в CO2-инкубатор (NuAire, США) и культивировали клетки при 35.5оС во влажной атмосфере с содержанием углекислоты 5%. В каждом эксперименте анализировали не менее четырех параллельных образцов сестринских культур.
Прекондиционирование к неблагоприятным условиям (депривация ростовых факторов и глюкозы) и токсическое воздействие глутамата. Ранее нами была разработана методика прекондиционирования клеток-зерен мозжечка с помощью депривации трофических факторов (ДТФ) [11]. На 7-й день in vitro часть клеток помещали в солевой буферный раствор (BSS), содержащий 5 мМ HEPES pH 7.4, 143.4 мМ NaCl, 25 мМ KCl, 2 мМ CaCl2, 1.2 мМ NaH2PO4. Клетки выдерживали в СО2-инкубаторе в течение 3.5 ч при 35.5оС в 0.5 мл BSS или в 0.5 мл BSS с добавлением 1.25 мМ ингибитора аутофагии 3-метиладенина (3-МА). После 3.5 ч клетки возвращали в питательную среду, а к части клеток после прекондиционирования в среду добавляли 1.25 мМ 3-МА на 24 ч. Через сутки к клеткам добавляли глутамат в концентрации 3 мМ в BSS на 30 мин. Через сутки после этого считали погибшие нейроны с помощью окрашивания пропидиум иодидом. Клетки фотографировали и считали число пропидиум-позитивных клеток, приходящихся на одно поле зрения, с помощью компьютерной программы ImageJ. В каждой группе было по три лунки.
Определение экспрессии белка с помощью Вестерн блоттинга. Нейроны лизировали в 20 мМ HEPES рН 7.5, 30 мМ KCl, 1.5 мМ MgCl2, 10 мМ DTT, 0.5 мМ ЭДТА, 0.05% NP-40 на льду в течение 15 мин, затем центрифугировали 15000g 15 мин при 4оС. Концентрацию белка в супернатантах определяли с помощью метода Бредфорда. Пробы кипятили 5 мин в однократном буфере для нанесения и наносили по 15 мкг белка на лунку 10- или 20%-ного полиакриламидного геля. После окончания электрофореза белки переносили на нитроцеллюлозную мембрану в течение 60 мин при 300 mA. Затем мембрану с иммобилизованными на ней белками инкубировали 60 мин в 5%-ном обезжиренном молоке для блокирования мест неспецифического связывания антител. После блокирования мембрану инкубировали в 5%-ном обезжиренном молоке с антителами против белков mTOR (кроличьи, Cell Signaling Technology, #2983), каспаза-3 (кроличьи, Neomarkers, #RB-1197) и каспаза-9 (мышиные, Thermo Scientific, #МА5-15161) в разведении 1 : 1000 в течение ночи в холодильнике при покачивании. Навязавшиеся первичные антитела интенсивно отмывали в течение получаса, после чего инкубировали мембрану со вторичными антителами, конъюгированными с пероксидизой хрена (Biorad, США). После отмывки места связывания антител выявляли с помощью хемилюминесцентной реакции с использованием субстрата SuperSignal West Femto (Thermo Fisher Scientific, США) на приборе MicroChemi (DNR, Израиль). Проявленные полосы связавшихся антител фотографировали и сравнивали интенсивность связывания в разных пробах с помощью программы GelQuant Express Analysis.
Определение активности протеаз. Для измерения активности каспазы-3 использовали флуориметрический метод. Лизат клеток помещали в реакционный буфер (состоящий из 100 мМ MES pH 7.5, 10 мМ DTT и 1 мМ ЭДТА) с добавлением 50 мкМ флуорогенного субстрата (N-ацетил-Асп-Глу-Вал-Асп-7-амино-4-метилкумарин, Biomol, США) и инкубировали при 37°С. Флуоресценцию регистрировали в течение 60 мин на планшетном ридере Wallac 3 (Perkin Elmer, США) при длинах волн возбуждения и эмиссии 380 и 440 нм соответственно. Активность катепсина В определяли схожим методом, за исключением рН-среды, который был равен 4.5. В качестве субстрата использовали Z-RR-AMC (N-бензилоксикарбонил-Арг-Арг-7-амино-4-метилкумарин, Biomol, США). Активность протеаз рассчитывали по флуоресценции известных концентраций стандарта АМС и выражали в пмоль/мин/мг белка или нмоль/мин/мг белка.
Статистическая обработка результатов. Статистическую обработку и графическое представление результатов проводили с помощью программы GraphPad Prism 9.5. Различия между группами определяли с помощью дисперсионного анализа, после чего проводили сравнения между группами с помощью теста Тьюки, данные представлены в виде M ± SD.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Депривация трофических факторов за сутки до воздействия глутамата в нашей модели снижает гибель нейронов примерно на 25% (рис. 1, а, разница между группами без прекондиционирования и ДТФ). Клетки, не подвергавшиеся воздействию глутамата, демонстрируют клеточную гибель на том минимальном уровне, какой обычен для первичных нейронов в культуре, причем одинаково во всех группах (данные не представлены). Защитный эффект ДТФ исчезает и даже меняется на повреждающий под действием 3-МА, но только если вносить 3-МА в среду после депривации на 24 ч (см. рис. 1, а, разница между группами без прекондиционирования и 3-МА после депривации на 24 ч). При этом 3-МА во время прекондиционирования не оказывает влияния на выраженность клеточной гибели (см. рис. 1, а, разница между группами без прекондиционирования и 3-МА во время депривации на 3.5 ч).
Рис. 1. Число пропидиум иодид-позитивных клеток в поле зрения (отражает интенсивность гибели нейронов) после воздействия глутамата и экспрессия белков mTOR, каспаза-9 и каспаза-3 в сестринских культурах без добавления глутамата. Подробности эксперимента в разделе методы. а — число пропидиум иодид-позитивных клеток; б — экспрессия белка mTOR, УЕ; в — экспрессия каспазы-9, УЕ; г — экспрессия каспазы-3, УЕ. Обозначения групп представлены в легенде под рисунком. Концентрация 3-МА составляет 1.25 мМ. Достоверность отличий: *р < 0.05, **р < 0.01, ***р < 0.005, ****р < 0.0005.
На рис. 1, б—г представлено изменение экспрессии трех белков, с которыми, как мы считаем, может быть связана выработка устойчивости в нейронах в культуре. Представлена экспрессия в нейронах, не подвергавшихся действию глутамата, т.е. можно считать, что в клетках была именно примерно такая экспрессия белков на момент воздействия глутамата. Никаких достоверных отличий не обнаружено, но примерный паттерн все же можно отметить. Как минимум, заметно, что депривация, возможно, вызывает снижение экспрессии mTOR, каспазы-9 и каспазы-3 (см. рис. 1, б—г, первые два столбца). Именно так, согласно нашим предположениям, и работает прекондиционирование — вызывает снижение экспрессии негативного регулятора аутофагии и снижение экспрессии основных ферментов программы клеточной гибели. Тем не менее в наших экспериментах описанный механизм не подтвержден с должной степенью статистической достоверности. Мы связывает эту нехватку доказательств с небольшим размером экспериментальных групп.
Экспрессия ферментов семейства каспаз хотя и прямо коррелирует с выраженностью апоптотических процессов в клетке, но метод Вестерн блот является далеко не самым чувствительным. В своих работах мы стараемся дополнять этот метод более чувствительным методом определения ферментативной активности с использованием флуориметрического субстрата. Активность каспазы-3 перед действием глутамата представлена на рис. 2, а. Динамика активности этого фермента очень похожа на динамику экспрессии (см. рис. 1, г), при этом изменения выражены более отчетливо, что, в частности, подтверждается высоким уровнем достоверности отличий между группами. Еще одним ферментом, активность которого отражает выраженность физиологических процессов в клетке, является катепсин В, и его активность грубо коррелирует с числом и/или активностью лизосом в клетке. Активность катепсина В представлена на рис. 2, б. Заметно, что прекондиционирование снижает число лизосом в клетке (недостоверно), особенно под действием 3-МА. Снижение числа лизосом выражено примерно одинаково в группах с 3-МА, независимо от того, во время или после прекондиционирования клетки находились под действием 3-МА. Воздействие глутамата на клетки не сильно изменяет паттерн активности каспазы-3 (рис. 2, в) и катепсина В (рис. 2, г), при этом общий уровень активности увеличивается примерно в два раза во всех группах. Данная находка свидетельствует о том, что такой паттерн вырабатывается на раннем этапе после прекондиционирования и поддерживается в клетке долгое время, должно быть, за счет соответствующих изменений синтеза белка.
Рис. 2. Активность каспазы-3 и катепсина В в культурах нейронов до и после воздействия глутамата. Подробности эксперимента в разделе методы. а — активность каспазы-3, пмоль/мин/мг белка в клетках без добавления глутамата; б — активность катепсина В, нмоль/мин/мг белка в клетках без добавления глутамата; в — активность каспазы-3, пмоль/мин/мг белка в клетках после добавления глутамата; г — активность катепсина В, нмоль/мин/мг белка в клетках после добавления глутамата. Обозначения групп представлены в легенде под рисунком. Концентрация 3-МА составляет 1.25 мМ. Достоверность отличий: *р < 0.05, **р < 0.01.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
В работе мы показали, что прекондиционирование снижает экспрессию и активность каспазы-3 в клетке. Этот механизм может оказаться одним из центральных при выработке устойчивости нейронов к токсическому повреждению. Вовлеченность аутофагии в изменение активности каспазы-3 доказывается с помощью ингибитора аутофагии 3-МА. Так, если дать 3-МА в раствор во время прекондиционирования, изменения активности каспазы-3 не происходит, если сравнивать с прекондиционированной группой без ингибитора. В этой группе также не изменяется число погибших клеток по сравнению с группой прекондиционирования без ингибитора. А если давать 3-МА в среду нейронам сразу после прекондиционирования на 24 ч, то полностью исчезает как защита от гибели клеток под действием глутамата, так и пропадает вызванное прекондиционированием снижение активности каспазы-3.
В целом, на основании наших работ и данных литературы вероятный сценарий выработки устойчивости нейронов после депривации трофических факторов выглядит следующим образом. Депривация запускает в клетке аутофагию и сразу же вызывает секрецию экзосом и лизосом [5, 11, 12]. Но во время собственно депривации активация аутофагии не важна для выработки устойчивости нейронов в отдаленный период. Через некоторое время, приблизительно через несколько часов и до суток, уже после возврата клеток в среду, начинается вторая волна аутофагии, и в этот период аутофагия критически важна для выработки устойчивости в отдаленный период. Активность каспазы-3 падает в результате депривации и остается на этом же уровне, если заингибировать аутофагию во время депривации, и сильно поднимается, если заингибировать аутофагию в период сразу после депривации. Таким образом, в нашей работе продемонстрировано наличие критического периода активации аутофагии, этот период продолжается примерно сутки после окончания прекондиционирующего стимула. Еще одной достаточно важной находкой работы является то, что активность каспазы-3 снижается под действием прекондиционирования и ингибирование аутофагии отменяет этот эффект. Таким образом, в клетке существует механизм непосредственного селективного избавления от каспазы-3 с помощью аутофагии. Возможно, каспаза-3 секретируется из клетки в результате активации аутофагии. Это предположение трудно проверить, так как определение активности с помощью флуоресцентного субстрата недостаточно чувствительно для секретируемой каспазы-3. Тем не менее такой вариант следует проверить, и мы планируем сделать это в ближайшее время. Также возможно, что каспаза-3 направленно направляется в лизосомы клетки и там расщепляется. Это предположение также нуждается в проверке.
Данное исследование проведено в соответствии с соблюдением общепринятых правил и норм гуманного обращения с экспериментальными животными.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
Работа выполнена за счет средств государственного задания Института ВНД и НФ РАН.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Этическое одобрение. Все применимые международные, национальные и/или институциональные принципы ухода и использования животных были соблюдены.
About the authors
O. P. Aleksandrova
Brain Research Center at Research Center of Neurology; Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, Russian Academy of Sciences
Email: al_yakovlev@rambler.ru
Russian Federation, Moscow; Moscow
D. V. Kuznetsova
First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov
Email: al_yakovlev@rambler.ru
Russian Federation, Moscow
A. A. Lyzhin
Brain Research Center at Research Center of Neurology
Email: al_yakovlev@rambler.ru
Russian Federation, Moscow
L. G. Khaspekov
Brain Research Center at Research Center of Neurology
Email: al_yakovlev@rambler.ru
Russian Federation, Moscow
N. V. Gulyaeva
Brain Research Center at Research Center of Neurology
Email: al_yakovlev@rambler.ru
Russian Federation, Moscow
A. A. Yakovlev
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, Russian Academy of Sciences; Moscow Research & Clinical Center for Neuropsychiatry, Moscow Research & Clinical Center for Neuropsychiatry
Author for correspondence.
Email: al_yakovlev@rambler.ru
Russian Federation, Moscow; Moscow
References
- Iadecola C., Anrather J. // Nat. Neurosci. 2011. V. 14. № 11. P. 1363—1368.
- Dirnagl U., Becker K., Meisel A. // Lancet Neurol. 2009. V. 8. № 4. P. 398—412.
- Liu J., Gu Y., Guo M., Ji X. // CNS Neurosci. Ther. 2021. V. 27. № 8. P. 869—882.
- Yakovlev A.A., Gulyaeva N.V. // Biochemistry (Moscow). 2015. V. 80. № 2. P. 163—171.
- Yakovlev A.A., Lyzhin A.A., Aleksandrova O.P., Khaspekov L.G., Gulyaeva N.V. // Biochem. Mosc Suppl B Biomed. Chem. 2020. V. 14. № 1. P. 1—5.
- Park H.K., Chu K., Jung K.H., Lee S.T., Bahn J.J., Kim M., Lee S.K., Roh J.K. // Neurosci. Lett. 2009. V. 451. № 1. P. 16—19.
- Wei H., Li Y., Han S., Liu S., Zhang N., Zhao L., Li S., Li J. // Transl. Stroke Res. 2016. V. 7. № 6. P. 497—511.
- Laplante M., Sabatini D.M. // Cell. 2012. V. 149. № 2. P. 274—293.
- Salvesen G.S., Dixit V.M. // Cell. 1997. V. 91. № 4. P. 443—446.
- Ding Z.M., Wu B., Zhang W.Q., Lu X.J., Lin Y.C., Geng Y.J., Miao Y.F. // Int. J. Mol. Sci. 2012. V. 13. № 5. P. 6089—6101.
- Yakovlev A.A., Lyzhin A.A., Aleksandrova O.P., Khaspekov L.G., Gulyaeva N.V. // Biomed. Khim. 2016. V. 62. № 6. P. 656—663.
- Yakovlev A.A., Lyzhin A.A., Aleksandrova O.P., Khaspekov L.G., Gulyaeva N.V. // Biomed. Khim. 2019. V. 65. № 5.
Supplementary files