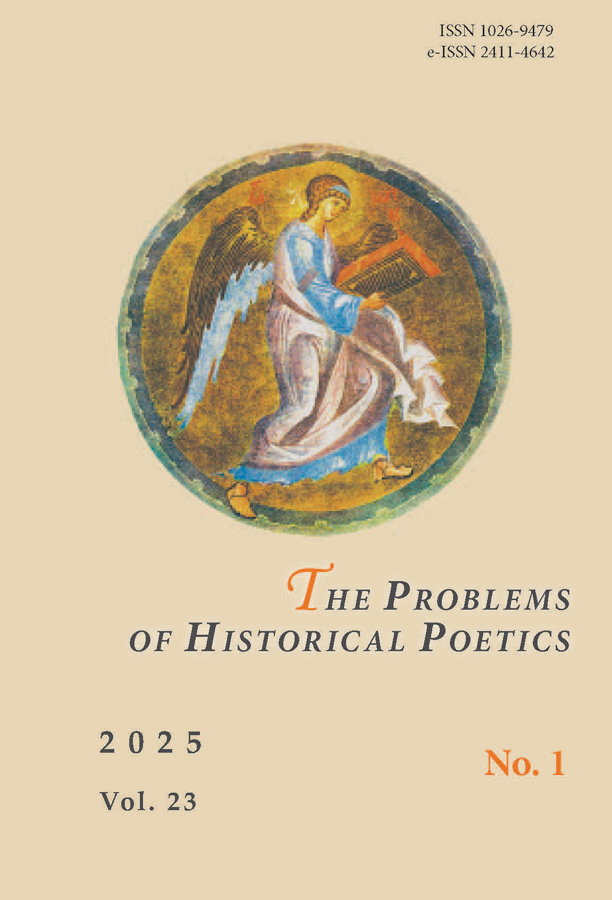Pyotr Verkhovensky in the Character System in F. M. Dostoevsky’s Novel “Demons”
- Authors: Khotakko V.A.1
-
Affiliations:
- Lipetsk State Pedagogical University named after P. P. Semenov-Tyan-Shansky
- Issue: Vol 22, No 2 (2024)
- Pages: 135-152
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/1026-9479/article/view/264467
- DOI: https://doi.org/10.15393/j9.art.2024.13722
- EDN: https://elibrary.ru/AZFBUV
- ID: 264467
Cite item
Full Text
Abstract
The purpose of the article is to reveal the artistic and philosophical significance of the image of Pyotr Verkhovensky, who is the main character in the novel “Demons” by F. M. Dostoevsky. This implies an expansion and deepening of ideas about his personal development. In Verkhovensky’s spiritual experience, concepts about the primordial Christian landmarks are misperceived and the hierarchy of Law and Grace is violated. Pyotr Verkhovensky is endowed with the ability to influence others for the sake of his own selfish motives in the name of self-affirmation, building an imaginary reality, and commanding his trusted associates with threats and blackmail. Legalism imperceptibly turns into lawlessness, on the one hand, endowing Verkhovensky with the power to influence others, clearly by nature or by perverted human nature. On the other hand, it condemns the hero, who succumbs to the temptations of self-affirmation, to loneliness and spiritual impoverishment. The article also shows the influence of Pyotr Verkhovensky on the creative explorations of Russian writers, revealing the tragic consequences of violating the value hierarchy of Law and Grace, which allows us to consider this artistic image in the moral paradigms of modernity.
Full Text
Рассмотренное в работах И. А. Есаулова направление современной филологии в свете формирования литературоведческой аксиологии1 выводит исследовательскую мысль на освоение христианской составляющей художественных исканий национального самосознания. При этом в судьбах героев произведений русской классики прослеживается влияние оппозиции Закона и Благодати как духовной доминанты православного миропонимания, намечается «два возможных способа ориентации человека в мире: самоутверждение в земной жизни и духовное спасение <…>. Безблагодатное ("механическое") следование закону трактуется в традиции православного христианства <…> как заповеди, идущие не от Бога, но "придуманные" человеком <…> как нечто противоположное Царству Божию» [Есаулов, 2017: 116–117].
Оппозиция Закона и Благодати представляет собой преломление культурного бессознательного, которое является типом мышления, порождающим «цѣлый шлейфъ культурныхъ послѣдствiй, вплоть до тѣхъ или иныхъ стереотиповъ поведенiя», которые «формируются въ нѣдрахъ глубинныхъ сакральныхъ структуръ <…> не осознаются на рацiональномъ уровнѣ» [Есауловъ, 2020: 16]. Обновленный литературоведческий инструментарий актуализирует освещение и понимание воплощенных в произведениях судеб героев в «спектре адекватности» авторскому замыслу, а также в контексте духовной традиции и культурного бессознательного. Это позволяет расширить и углубить представления о герое Ф. М. Достоевского — Петре Верховенском.
В. Н. Захаров отмечает личностную ориентацию героя на модель поведения во имя исключительно практической цели — радикального вмешательства в устоявшиеся жизненные процессы: «В подпольной деятельности Петр Степанович — главный заговорщик, но он — "мелкий бес". У него нет "великой идеи", нет идеала, есть лишь политическая целесообразность. <…> О себе он говорит с циничной откровенностью: "Я мошенник, а не социалист". Действительно, "социализм" был для него лишь средством достижения цели. Его "демон" — власть. Власть полная, безграничная и вожделенная — над жизнями, мыслями и чувствами людей» [Захаров, 2013: 367].
В статье В. Н. Степченковой «Манипулятивные стратегии Петра Верховенского в романе Ф. М. Достоевского "Бесы"» выделен ряд средств его психологического влияния на окружающих: «…он имел воздействие на окружающих, мог выстраивать необходимые модели поведения, в результате которых его слушались <…> в зависимости от поставленных им задач» [Степченкова: 99].
В «Ряде статей о русской литературе» Ф. М. Достоевский обратил внимание на трансисторическое значение писательских откровений о судьбах мира и человека:
«Новая мысль уже не раз выражалась русским словом <…>. Мы начинаем изучать ее прежние выражения и открываем в прежних литературных явлениях факты, до сих пор не замеченные нами, но вполне подтверждающие эту мысль»2.
Писатель, по сути, ввел в науку о словесности категорию «большого времени»3.
Творчество Ф. М. Достоевского в начале XX в., на изломе эпох, воспринималось проникновенным ответом на тревожные вызовы смутной поры: «Говорить о Достоевском для нас все еще значит говорить о самых больных и глубоких вопросах нашей текущей жизни» [Переверзев: 525]. Поэтому и «Бесы» с их драматической историей пути к читателю4, несмотря на усилия властей извлечь роман из отечественной словесности, вызывали особый интерес у исследователей. На первый план в творческом сознании писателя при работе над произведением вышел Ставрогин: «Все заключается в характере Ставрогина» (Д30; т. 11: 207). В силу сложившихся в «окаянные дни» России обстоятельств, как морально-нравственных, так и общественно-политических, исследовательская мысль была сосредоточена на понимании художественной функции в романе образа Петра Верховенского5, склонного (вслед за Нечаевым — одним из прототипов) полагать, что «все сжечь всего лучше» (Д30; т. 11: 178). В черновиках Ф. М. Достоевский обозначил одно из положений радикальной программы Верховенского: «Нужно все разрушить6, чтоб поставить новое здание…» (Д30; т. 11: 78). Петра Верховенского исследователи воспринимали как личность пророческую, в которой раскрывается «великое ясновидение Достоевского», в связи с чем было выдвинуто вполне очевидное утверждение: «Без этой личности нельзя понять русскую стихию и ее будущее» [Вышеславцев: 599].
Верховенский, определив Ставрогину, после встревожившего его заседания наших у Виргинских, греховную стезю самозванца (Ивана-Царевича), — причем даже с обещанием привезти к нему Лизу, — самонадеянно назначает ему срок ответа: «…даю вам день… ну два… ну три; больше трех не могу» (Д30; т. 10: 326).
Собравший пятерку заговорщиков, Верховенский полагал себя вправе властвовать над судьбами других, ведь для него «нет ничего сильнее мундира» (Д30; т. 10: 298). На законническом поле, граничащем с явным беззаконием, он склонен был верить, что ему суждено верховодить в грядущем и всем миром7, предрекая его «преображение»:
«И застонет стоном земля: "Новый правый закон идет" <…> и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное. <…> Строить мы будем, мы, одни мы!» (Д30; т. 10: 326).
Но Верховенский, убежденный в возможности реализовать план Шигалева по глобальному переустройству мира, все же осознает свою личностную несостоятельность в достижении поставленной цели без Ставрогина:
«Мне вы, вы надобны, без вас я нуль. Без вас я муха, идея в стклянке, Колумб без Америки» (Д30; т. 10: 324).
Однако Ставрогин после бессонной ночи оказался перед Спасо-Ефимьевским Богородским монастырем, где бывал еще в детстве, и в сопровождении монаха вошел к архиерею Тихону, о котором ему говорил Шатов, когда он просил его позаботиться о Марье Тимофеевне. Тогда же Шатов и отметил укорененность личности Ставрогина в культурном бессознательном, не поддающемся рациональному обоснованию, или законническому истолкованию, потому что «православие показуется, но не доказуется» [Флоренский: 36]. Шатов, вознамерившийся понять нравственные пределы дозволенного и недопустимого, напомнил Николаю Всеволодовичу:
«…если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной? Говорили вы это?» (Д30; т. 10: 198).
Верховенский на встрече с заговорщиками у Эркеля, перед расправой над Шатовым, почувствовал и осознал, что в «сплоченных» им рядах сторонников зреет волнение и недовольство. Герой начинает, подобно гоголевскому городничему из «Ревизора», с обозначения роковой черты:
«Я собрал вас сюда, господа, чтобы разъяснить вам ту степень опасности, которую вы так глупо на себя натащили»8 (Д30; т. 10: 417).
Однако если свои Сквозника-Дмухановского, услышав о «пренеприятном известии», спокойно и со знанием дела воспринимают высказанные им претензии, то Верховенский вынужден был, дабы не растерять свое влияние на возроптавших наших, дать самоуверенно расчитанный срок одуматься, как и Ставрогину — принять предложение исполнить отведенную ему в смутную пору лидерскую роль:
«…чрез одно лицо я могу подействовать на Шатова, так что он, совершенно не подозревая, задержит донос — но не более как на сутки. Дальше суток не могу. <…> …вы можете считать себя обеспеченными до послезавтраго утра» (Д30; т. 10: 419).
И как ни старался Верховенский выверять каждый свой шаг, потому что «в голове у него канцелярия», как с иронией и заметил Ставрогин, особо выделив, что для Петра Степановича «успех дороже истины» (Д30; т. 10: 156), ситуация, несмотря на прямые угрозы («попробуйте кто-нибудь улизнуть теперь!» — Д30; т. 10: 458), все же вышла из-под его контроля.
Верховенский, не затрудняя себя попытками обосновать какими-либо соображениями правового, или законнического, характера решение — «окончательно скрепить пятерку» (Д30; т. 10: 422), — все же после резких и страстных обращений к нашим у Эркеля вроде бы добился желаемого результата. Тогда даже бессловесный юноша-прапорщик заговорил об ответственности каждого из них за общее дело, и его неожиданно поддержал Виргинский. Но, потрясенный свершившимся на его глазах злодеянием, он, прежде уверенный в своем решении, так и не смог сдержать охватившее его волнение и вступил в открытую полемику с Верховенским, появление которого вместе с Шигалевым встретил с «преднамеренным молчанием»: «— Это не то, не то! Нет, это совсем не то!» (Д30; т. 10: 461). Виргинский, в ответ на окрик Верховенского, опять прокричал: «Это не то, нет, нет, это совсем не то!» (Д30; т. 10: 462). Фон Лембке, грезивший о раскрытии заговора для успешного продвижения по службе, выслушав радикальные планы Верховенского, все же обозначил границы допустимого: «Это не то, не то» (Д30; т. 10: 246), как вырвалось это впоследствии и у Виргинского. Импульсы влияния культурного бессознательного не поддаются корректировке человеческим волеизъявлением.
Художественная антропология Ф. М. Достоевского характеризуется оппозицией: «Ключевым концептом творчества и поэтики Достоевского является "человек". Он соотносится с такими понятиями, как общечеловек и всечеловек» [Захаров, 2022: 99]. Верховенский не укоренен в духовной почве русской культуры, а потому он не кто иной, как общечеловек, собирающий вокруг себя подобных ему духовно несостоявшихся личностей, среди которых особо выделяется Виргинский, не рискнувший изменить общему делу и вдруг заявивший: «Я за общее дело» (Д30; т. 10: 421). В конечном итоге он вдруг и одумался, признав, что все, на что он был согласен в плане законнического обновления мира, не соотносится с исконными ориентирами становления человека, укорененными в христианской аксиологии. В самый ответственный для Верховенского момент уходит и Шигалев — «фанатик человеколюбия», начавший свою речь у наших с «безграничной свободы» и подытоживший «безграничным деспотизмом» (Д30; т. 10: 313, 311). И другими оказываются все привлеченные Верховенским к общему делу.
Верховенский остается совсем один: Кириллов, «назначенный» им ревизором наших, считает его гадиной и не желает, чтобы в момент его торжества, когда он станет «Богом», тот был рядом с ним. Даже Федька Каторжный ни во что не ставит Верховенского:
«…с самого первоначалу зачал обманывать, потому как ты выходишь передо мною настоящий подлец <…> первый убивец <…> в самого Бога <…> перестал по разврату своему веровать» (Д30; т. 10: 428).
Такой же приговор вынесет и Смердяков Ивану Карамазову: «А вы самый законный убивец и есть» (Д30; т. 15: 63). «Законный» — значит самонадеянный, просчитавший свои, с полной уверенностью, беспроигрышные ходы на пути к земному преуспеянию, тогда как Ф. М. Достоевский в подготовительных материалах к роману «Бесы» апеллирует к культурному бессознательному: «Нравственные основания даются откровением» (Д30; т. 11: 178).
Для Шатова Верховенский — «клоп, невежда, дуралей, не понимающий ничего в России» (Д30; т. 10: 193). Ставрогин воспринимает Петра Степановича «полупомешанным» энтузиастом, а в черновиках Ф. М. Достоевский делает акцент на попытке Николая Всеволодовича понять, что же в силе Верховенского «от убеждения, а что просто от натуры» (Д30; т. 11: 182).
Юлия Михайловна, узнав о переданной Верховенскому коллекции прокламаций, усомнилась, что тот их вернет, хотя, встревоженный своим недальновидным поступком, губернатор настаивал:
«Кто он, чтобы так его опасаться, и кто я, чтобы не сметь ничего сделать?» (Д30; т. 10: 247).
Ситуация явно восходит к сцене встречи городничего с Хлестаковым в «Ревизоре»: если Сквозник-Дмухановский был уверен, что перед ним инкогнито-ревизор и поэтому начинает оправдываться: «Помилуйте, не погубите! Жена, дети маленькие… не сделайте несчастным человека» (Гоголь: 242), то Хлестаков, застигнутый врасплох властями как злостный должник, «стучит кулаком по столу» перед вытянувшимся городничим, что и подчеркивает емкими ремарками Н. В. Гоголь. Все это свидетельствует о какой-то неведомой собеседникам Хлестакова силе заурядного чиновника 14-го класса9. В подготовительных материалах к «Бесам» Ф. М. Достоевский указывает на параллель «Хлестаков — Верховенский»:
«Его считают за ничто. Наконец он объявляет себя. В глазах их — царь» (Д30; т. 11: 200).
Опосредованно — через одного из прототипов Верховенского — Р. Г. Назиров отмечает выход героя за границы культурного бессознательного: «…Достоевский внушает нам мысль о том, что нечаевщина — это кровавая хлестаковщина» [Назиров: 85], чем и обусловлено поражение Верховенского, вопреки его законническим расчетам. Исчезновение из поля зрения окружающих и человеческая несостоятельность (коль даже ни одна женская судьба не коснулась его души и сердца) обрекают его на погибель. Но он не пропал бесследно: «Верховенский ушел, чтобы с новыми силами вернуться на просторы России через некоторое время» [Паншев: 175]. По мере становления замысла «Бесов» Ф. М. Достоевский склонен был сосредоточиться на типологии национального характера, о чем и писал М. Н. Каткову:
«…мой Петр Верховенский может нисколько не походить на Нечаева; но мне кажется, что в пораженном уме моем создалось воображением то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству. <…> …небесполезно выставить такого человека…» (Д30; т. 291: 141).
Л. И. Сараскина убедительно показывает, что Ф. М. Достоевский, наделенный даром предвидения, в контексте «большого времени» обращается с пророческим предостережением к русскому человеку: «…нам никуда не деться от того обстоятельства, что уже давно весь мир и мы прежде всего сопоставляем художественный мир "Бесов" с тем, что произошло у нас дома» [Сараскина: 431]. Однако если все участники беспорядков получили по заслугам или же так и не смогли пережить содеянное, то Верховенский — единственный, кто избежал возмездия. Л. И. Сараскина отмечает неоднозначность смысла пророческого предостережения и наставления Ф. М. Достоевского, завершившего повествование открытым финалом, когда почти никто не задается вопросом, что же дальше, «где искать следы избежавшего наказания и исчезнувшего из России Петра Верховенского, или о том, как трансформировалась и обрела силу закона теория Шигалева» [Сараскина: 431]. Петр Верховенский, в типологическом аспекте, надолго задержался в творческом сознании Ф. М. Достоевского и предстал Великим инквизитором — 90-летним кардиналом, героем сочиненной Иваном Карамазовым поэмы, действие которой развертывается в Испании XVI в. — в самый разгул инквизиторского беспредела, что вполне сопоставимо с описанными событиями в российской провинции. Как хромой, признавший право Шигалева властвовать над людскими судьбами:
«…должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо <…> хотя, впрочем, и будут работать» (Д30; т. 10: 312), —
так и Великий инквизитор словно списывает с бесовской программы Верховенского, признанной им руководством к действию:
«Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками» (Д30; т. 14: 236).
Совпадение едва ли не дословное: «работать» под неусыпным надзором «повелителей» — долг человечества, превращенного ими же в стадо.
На собрании наших, когда хромой заговорил об исполнении «великой задачи» — в сто миллионов голов — и о своих сомнениях в планах на грядущее и опасениях насчет участия в «общем деле», Верховенский заявил:
«Начнешь пропагандировать, так еще, пожалуй, язык отрежут», и предложил ему уехать: «…я вам советую в Дрезден <…> близко от русской границы» (Д30; т. 10: 314, 315).
Дрезден для русской эмиграции был, по сути, заповедным местом: М. А. Бакунин в мае 1849 г. оказался во главе Дрезденского восстания и считал возможным защищаться от прусских офицеров вынесенными из галереи шедеврами живописи.
Переосмысление на рубеже XIX–XX вв. исконных доминант самосознания православного народа выразилось в искажении нравственных ориентиров самоопределения человека, когда идеологемы бунтарства и вседозволенности переходят в откровенное беззаконие. Это духовное явление привлекло внимание мыслителей и художников, вызвав к жизни литературных героев, не укорененных в культурной традиции. В России, охваченной пожаром Гражданской войны, К. А. Федин по предложению М. Горького завершил работу над пьесой, представляющей собой драматические сцены из жизни близкого эпохе героя, — «Бакунин в Дрездене», предполагая назвать ее «Святой бунтарь». Один из прототипов Верховенского, Бакунин, опоэтизированный властями и внесенный в список революционеров и общественных деятелей, должных быть увековеченными, в драматических сценах К. А. Федина имеет, как ни странно, своего прототипа — Верховенского из романа «Бесы». События, изображенные в пьесе, произошли весной 1849 г., во время Дрезденского восстания, активное участие в котором принимал М. А. Бакунин. Королевский капельмейстер Рихард Вагнер при встрече с уже полулегендарным бунтовщиком из России, озабоченным, как бы всколыхнуть народное возмущение: «Революция выглядывает из-за каждого угла <…>. Наше дело помочь ей вспыхнуть»10, — не скрывает своего восхищения прославившимся анархистом, способным буквально напролом идти к поставленной цели:
«Вагнер. Я завидую тебе. Ты поглощен всепожирающей идеей, ты видишь эту идею в народах, в людях и не замечаешь при этом самих людей»11.
Бакунин строит планы своим воззванием к славянам «подпалить Европу со всех концов», а не решающихся на открытый протест обывателей видит «жалкими козявками», запуганными протестантскими пасторами. И для Верховенского, одержимого соблазном неуемной власти над людьми, человек как таковой — всего лишь помеха на пути к исполнению намеченного плана: «…мы всякого гения потушим в младенчестве» (Д30; т. 10: 323). Первый студент, обратившийся в пьесе К. А. Федина к Бакунину: «…что же нужно делать нам, немцам, которые жаждут свободы и братства?»12 — встает с радостной улыбкой в ряды мятежников и тем самым словно идет вслед за Эркелем, младенчески преданным «общему делу», а по сути — Верховенскому. Совращенного с праведного пути и растерявшегося в ситуации нравственного выбора между Законом и Благодатью в контексте культурного бессознательного юношу многие жалели, даже Федька Каторжный высказал свое порицание Верховенскому:
«…ты, как бестолковый идол, в глухоте и немоте упорствуешь и прапорщика Эркелева к тому же самому привел…» (Д30; т. 10: 428).
Безверие и нравственная опустошенность внутреннего мира Бакунина из пьесы К. А. Федина и Верховенского из романа «Бесы» Ф. М. Достоевского, представших в «большом времени» русской культуры в обратной перспективе: прототип — герой — прототип, — расширяют представление об итогах духовной биографии персонажей, отрешившихся от благодатного влияния культурного бессознательного, и свидетельствуют о трагических изломах духовного опыта православного народа.
Эркель на другой день после исполнения последнего решения Верховенского провожает Петра Степановича, который дает ему последние наставления:
«Если вы догадались, что я в Петербург, то могли понять, что не мог же я сказать им вчера <…> что так далеко уезжаю <…>. Но вы понимаете, что я для дела, для главного и важного дела, для общего дела, а не для того, чтоб улизнуть…» (Д30; т. 10: 477).
Влияние Верховенского на молодежь эпохи рубежа XIX‒XX вв. отразилось в судьбах героев романа А. Белого «Петербург». Александр Иванович Дудкин идет едва ли не дальше Верховенского:
«…в тот период пришлось развивать ему парадоксальнейшую теорию о необходимости разрушить культуру, потому что период историей изжитого гуманизма закончен <…> наступает период здорового зверства, пробивающийся из народного низа, из аристократических верхов <…> буржуазии <…> проповедовал сожжение библиотек, университетов»13.
Так и Петр Степанович, открывая свою программу Ставрогину, наметил перспективы превратить человечество в послушных рабов:
«Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию <…> мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат…» (Д30; т. 10: 323).
Освоение художественно-философского значения образа Петра Верховенского, являющегося в системе персонажей романа Ф. М. Достоевского «Бесы» героем первого плана, предполагает расширение и углубление представлений о его духовном становлении. Избранный Петром Степановичем Верховенским вектор самоопределения на законническом поле преломляется в его духовном опыте путаницей понятий об исконных христианских ориентирах, когда нарушается иерархия Закона и Благодати. Законничество незримо переходит в беззаконие, с одной стороны, наделяя Верховенского силой влияния на окружающих, с другой — обрекает героя, прельщенного соблазнами самоутверждения, на одиночество, потери и духовное оскудение. Влияние Петра Верховенского на творческие искания русских классиков простирается поверх барьеров времени и отвечает на тревожные вызовы современности.
1 Методология историко-литературной науки предполагает соотношение аксиологии описания с аксиологией предмета исследования, восходящей к православной традиции отечественной словесности: «…современная история русской литературы базируется в значительной степени на наследии революционных демократов с их материалистической идеологией и аксиологией. Это наследие включает в себя и почти ритуальное дистанцирование от православной христианской основы русской культуры» [Есаулов, 1994: 380]. О становлении подобного научного подхода см.: [Есаулов, 1998, 1995, 2020].
2 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. М.: Наука, 1978. Т. 18. С. 69. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения Д30 и указанием тома (полутома — нижним индексом) и страницы в круглых скобках.
3 Проблема «большого времени» как контекста понимания художественных произведений активно разрабатывалась М. М. Бахтиным: «…они обогащаются новыми значениями, новыми смыслами <…> могут существовать в скрытом виде потенциально и раскрываться только в благоприятных для этого раскрытия смысловых культурных контекстах последующих эпох» [Бахтин: 350‒351]. И. А. Есаулов использует бахтинский термин как утвердившуюся составляющую теоретико-литературного ряда: «Изучение "малого времени" тех или иных литературных событий является лишь одним из возможных контекстов понимания, к тому же не самого глубокого <…> в "большом времени" происходит обновление прежних смыслов» [Есаулов, 2017: 17].
4 В связи с этим Е. А. Попова, прослеживая судьбу романа в «большом времени», отмечает детали, свидетельствующие о бессилии властей извлечь роман из национального самосознания: «Подтверждением того, что в СССР роман "Бесы" воспринимался как контрреволюционная, запрещенная книга, является разговор двух героев-заключенных из романа А. И. Солженицына "В круге первом". Сологдин удивлен, что Нержин не знает, героем какого произведения Достоевского является Ставрогин, так как не читал» [Попова: 4]. А. Самарин концептуально осветил на широком культурно-историческом фоне судьбу романа в контексте «большого времени» (см.: [Самарин: 24–27]).
5 В. К. Кантор выдвигает положение, сводящееся к признанию ведущей роли героя в сюжете: «Достоевский изобразил восстание языческих смыслов и символов. Христу здесь противопоставляется Ставрогин в образе Ивана Царевича (как именует его главный бес — Верховенский)» [Кантор: 84].
6 М. А. Бакунин, оказавший значительное влияние на формирование образа Петра Верховенского, в 1842 г. пришел к убеждению: «Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть!» [Бакунин, 2000: 130]. Концепт «разрушение» указывает на близость мировоззренческих систем М. А. Бакунина и Верховенского, открывшего Ставрогину ключевой тезис своей программы: «Мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ» (Д30; т. 10: 322). 2 июня 1870 г. М. А. Бакунин писал С. Г. Нечаеву, вернувшемуся в Россию с манифестом несуществующего «Русского отдела Всемирного революционного движения», излагая свое понимание путей достижения поставленной цели (преломленное в его программе «надвигающихся потрясений»): «…я беру сторону народного разбоя и вижу в нем одно из самых существенных средств для будущей народной революции в России» [Бакунин, 1989: 542].
7 В «Войне и мире» Л. Н. Толстой после рассуждений Пьера Безухова, вернувшегося из Петербурга к своим домашним в Лысые Горы, накануне Зимнего Николы, пророчески указывает на развитие подобных умонастроений: «Ему казалось в эту минуту, что он был призван дать новое направление всему русскому обществу и всему миру» (Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. М.: Худож. лит., 1981. Т. 7. C. 307).
8 Городничий в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» начинает так: «Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие…» (Гоголь Н. В. Ревизор // Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 17 т. М.; Киев, 2009. Т. 3. С. 221. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с использованием сокращения Гоголь и с указанием страницы в круглых скобках).
9 Исчезновение Хлестакова из уездного городка заставило трепетать от страха Сквозника-Дмухановского вместе с его окружением, что и было воспринято потрясенным городничим как бесовское вмешательство в его жизнь: «Вижу какие-то свиные рыла, вместо лиц, а больше ничего… Воротить, воротить его!» (Гоголь: 90). Однако след Хлестакова не затерялся, и он как психологический тип не укорененного в духовной традиции русского человека проявляется и в образе гостя Ивана Карамазова: «Ты, кажется, решительно принимаешь меня за поседелого Хлестакова, и, однако, судьба моя гораздо серьезнее» (Д30; т. 15: 76). В. А. Воропаев обращает внимание на связь духовного опыта героев Ф. М. Достоевского с гоголевским персонажем: «Искушаемый лукавым, Хлестаков сам как бы приобретает черты беса» [Воропаев: 164]. И в связи с этим пророческое предостережение в открытом финале комедии «Ревизор» Н. В. Гоголя обретает полноту смысла в контексте «большого времени».
10 Федин К. Бакунин в Дрездене: сцены // Собр. соч.: в 12 т. М.: Худож. лит., 1982. Т. 2. С. 25.
11 Там же. С. 22.
12 Федин К. Бакунин в Дрездене: сцены. С. 30.
13 Белый А. Петербург // Белый А. Сочинения: в 2 т. М.: Худож. лит., 1990. Т. 2. С. 205.
About the authors
Vasily A. Khotakko
Lipetsk State Pedagogical University named after P. P. Semenov-Tyan-Shansky
Author for correspondence.
Email: vs.antonov2002@gmail.com
ORCID iD: 0009-0008-3806-4591
4th-Year Student of the Institute of Philology
Russian Federation, LipetskReferences
- Bakunin M. A. Filosofiya, sotsiologiya, politika [Philosophy, Sociology, Politics]. Мoscow, Pravda Publ., 1989. 524 p. (In Russ.)
- Bakunin M. A. (Jules Elizard). Reaction in Germany (Essay of a Frenchman). In: Bakunin M. A. Anarkhiya i poryadok: sochineniya [Bakunin M. A. Anarchy and Order: Works]. Мoscow, Eksmo-press Publ., 2000, pp. 105–130. (In Russ.)
- Bakhtin M. M. Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of Verbal Works]. Мoscow, Iskusstvo Publ., 1986. 445 p. (In Russ.)
- Voropaev V. A. Gogol’ nad stranitsami dukhovnykh knig [Gogol Over the Pages of Spiritual Books]. Мoscow, Prize in Memory of Metropolitan of Moscow and Kolomna Macarius (Bulgakov) Publ., 2002. 205 p. (In Russ.)
- Vysheslavtsev B. P. Russian Elements in Dostoevsky. In: F. M. Dostoevskiy. Besy; “Besy”: antologiya russkoy kritiki [F. M. Dostoevsky. Demons; “Demons”: an Anthology of Russian Criticism]. Мoscow, Soglasie Publ., 1996, pp. 587–606. (In Russ.)
- Esaulov I. A. Axiology of Literary Criticism: Concept Establishment Experience. In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1994, vol. 3, pp. 378–383. Available at: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2435 (accessed on December 10, 2023). doi: 10.15393/j9.art.1994.2435. (In Russ.)
- Esaulov I. A. Kategoriya sobornosti v russkoy literature [The Category of Sobornost’ in Russian Literature]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1995. 287 p. (In Russ.)
- Esaulov I. A. Christian Foundation of Russian Literature: Sobornost’. In: Literaturnaya ucheba [Literary Studies], 1998, no. 1, pp. 105–123. (In Russ.)
- Esaulov I. A. Russkaya klassika: novoe ponimanie [Russian Classics: New Understanding]. St. Petersburg, The Russian Christian Academy for the Humanities Publ., 2017. 550 p. (In Russ.)
- Esaulov I. A. Paskhal’nost’ russkoy slovesnosti [Paskhal’nost’ of Russian Literature]. Magadan, Novoe Vremya Publ., 2020. 480 p. (In Russ.)
- Zakharov V. N. Imya avtora — Dostoevskiy. Ocherk tvorchestva [The Author’s Name Is Dostoevsky. An Essay on Creative Works]. Мoscow, Indrik Publ., 2013. 456 p. (In Russ.)
- Zakharov V. N. Anthropological Discoveries of Dostoevsky. In: Dostoevskiy i mirovaya kul’tura: peterburgskiy al’manakh [Dostoevsky and World Culture: Petersburg Almanac]. St. Petersburg, Serebryanyy vek Publ., 2022, no. 40, pp. 97–110. (In Russ.)
- Kantor V. K. “Sudit’ Bozh’yu tvar’”. Prorocheskiy pafos Dostoevskogo [“Judge God’s Creation”. Prophetic Pathos of Dostoevsky]. Мoscow, Russian Political Encyclopedia Publ., 2010. 422 p. (In Russ.)
- Nazirov R. G. Pyotr Verkhovensky as an Esthete. In: Nazirov R. G. Russkaya klassicheskaya literatura: sravnitel’no-istoricheskiy podkhod [Nazirov R. G. Russian Classical Literature: a Comparative Historical Approach]. Ufa, Bashkir State University Publ., 2006, pp. 79–93. (In Russ.)
- Panshev N. V. Pyotr Verkhovensky as an Agent Provocateur. In: Literaturovedcheskiy zhurnal, 2002, no. 16, pp. 169–175. (In Russ.)
- Pereverzev V. F. Dostoevsky and Revolution. In: F. M. Dostoevskiy. Besy; “Besy”: antologiya russkoy kritiki [F. M. Dostoevsky. Demons; “Demons”: an Anthology of Russian Criticism]. Мoscow, Soglasie Publ., 1996, pp. 525–534. (In Russ.)
- Popova Е. А. F. M. Dostoevsky’s Novel “Demons”: a Long Way to the Reader. In: Roman F. M. Dostoevskogo “Besy” v kontekste dukhovnoy traditsii i “bol’shogo vremeni” russkoy kul’tury [F. M. Dostoevsky’s Novel “Demons” in the Context of Spiritual Tradition and the “Big Time” of Russian Culture]. Lipetsk, Lipetsk State Pedagogical University Named After P. P. Semenov-Tyan-Shansky Publ., 2022, pp. 4–12. (In Russ.)
- Samarin А. Forbidden “Demons”. In: Istorik, 2021, no. 10, pp. 24—27. (In Russ.)
- Saraskina L. I. “Besy”: roman-preduprezhdenie [“Demons”: a Warning Novel]. Мoscow, Sovetskiy pisatel’ Publ., 1990. 480 p. (In Russ.)
- Stepchenkova V. N. Manipulative Strategies Used by Pyotr Verkhovensky in F. M. Dostoevsky’s Novel “Demons”. In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics], 2023, vol. 21, no. 1, pp. 91–113. Available at: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1676985522.pdf (accessed on December 10, 2023). doi: 10.15393/j9.art.2023.12022. EDN: DLUSZC (In Russ.)
- Florenskiy P. A. Stolp i utverzhdenie istiny: opyt pravoslavnoy teoditsei [The Pillar and Ground of the Truth: the Experience of Orthodox Theodicy]. Мoscow, AST Publ., 2003. 640 p. (In Russ.)
Supplementary files