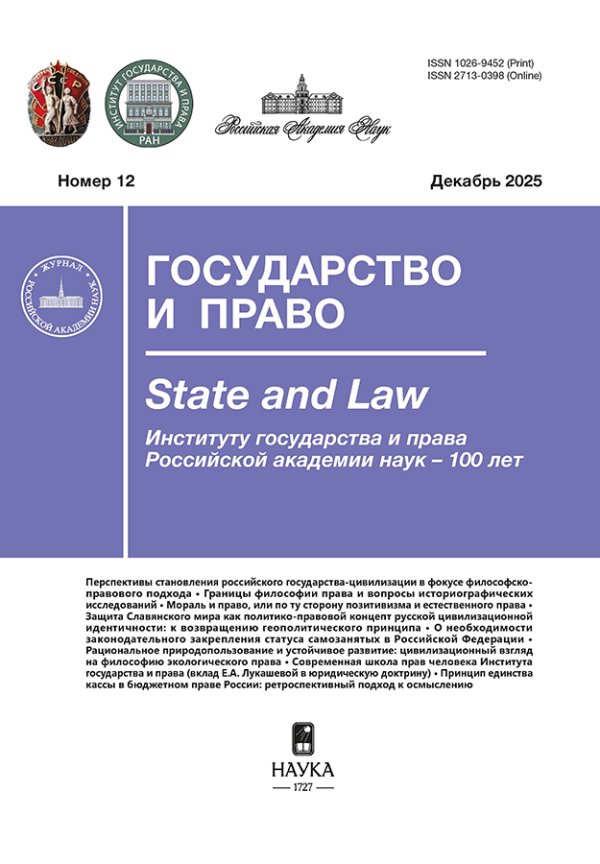On current problems of the mechanism of liability of judges for disciplinary misconduct: law enforcement practice, general approaches. Part 4. Approaches to improving and improving the efficiency of the organizational and legal mechanism of disciplinary responsibility of judges (The end)
- Authors: Kleandrov M.I.1
-
Affiliations:
- Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences
- Issue: No 9 (2024)
- Pages: 88-102
- Section: Judicial power
- URL: https://bakhtiniada.ru/1026-9452/article/view/270695
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026945224090072
- ID: 270695
Cite item
Full Text
Abstract
In the final, fourth, part of the article, published in 2024 in the journal “State and Law”, certain results of the problems considered in its first three parts are summed up (part 1 – “Termination of the powers of a judge for a serious offense after the constitutional innovations of 2020 – constitutional or disciplinary responsibility?” (No. 3); part 2 – “On problems of disciplinary responsibility of court heads” (in two sections) (No. 4, 5); part 3 – “On the disciplinary responsibility of retired judges” (No. 6)). Conclusions are drawn about the imperfection of this mechanism with specific examples of law enforcement (and especially judicial) practice, including those caused by the imperfection of legislation in the area of public relations under consideration. Specific, including radical, proposals are being made aimed at improving and increasing the effectiveness of both the named mechanism as a whole and its individual links.
Full Text
О современных проблемах механизма ответственности судей за дисциплинарный проступок: правоприменительная практика, общие подходы.
Часть 4. Подходы к совершенствованию и повышению эффективности организационно-правового механизма дисциплинарной ответственности судей (Окончание) 1
On current problems of the mechanism of liability of judges for disciplinary misconduct: law enforcement practice, general approaches.
Part 4. Approaches to improving and improving the efficiency of the organizational and legal mechanism of disciplinary responsibility of judges (The end) 2
Полагаем, нужна более глубокая научная проработка проблемы понимания дисциплинарного проступка судей, его квалифицирующих признаков, его негативных последствий и т. д. Это поможет сократить неопределенность в его понимании.
Представляется необходимым раскрыть законодательно такой квалифицирующий признак дисциплинарного проступка судьи, как умаление авторитета судебной власти. Дело в том, что этот квалифицирующий признак довольно расплывчатый, это чисто оценочная категория, что нежелательно в качестве объективной стороны состава дисциплинарного проступка судьи. Если подойти к этому вопросу формально, то здесь должно быть установлено: а) какой был авторитет судебной власти (в целом, в масштабе государства, до совершения конкретным судьей инкриминируемого ему дисциплинарного проступка; б) какой стал авторитет судебной власти после совершения этим судьей данного проступка. Разница между этими двумя оценками и будет являться «умалением авторитета судебной власти». Но ведь не существует механизма исчисления этого авторитета ни «до», ни «после», ни вообще. А у разных людей, участвующих с правом решающего голоса в процессе рассмотрения материалов дисциплинарного проступка судьи, свое представление о понимании авторитета судебной власти, причем в предельно широком диапазоне: от мнения необычайно высокого авторитета судебной власти, который конкретный проступок судьи не в силах поколебать, до мнения отсутствия у судебной власти хоть какого-либо авторитета (и такое встречается). Можно, конечно, ориентироваться на письменные обращения граждан, на СМИ и т. п., но ведь и там выраженные мнения являются субъективными.
Следует также разобраться в вопросах дисциплинарной ответственности судьи за грубую (и т. д.) судебную ошибку. Само понимание «грубая» – оценочное, поэтому квалифицирующим признаком здесь могла бы быть ситуация вынесения судебного акта, создающего реальную угрозу жизни или серьезного вреда правам, свободам и здоровью лица, в отношении которого данный судебный акт принят. Знаковым в вопросе понимания дисциплинарной ответственности судьи за допущенную им судебную ошибку является правовая позиция Конституционного Суда РФ, сформулированная им в Постановлении от 20 июля 2011 г. № 19-П по жалобе А. В. Матюшенко. Там сказано следующее. Устанавливая в качестве общего правила запрет на привлечение судьи к дисциплинарной ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и вынесенные судебные акты, федеральный законодатель исходил из того, что при осуществлении судебной деятельности возможны ошибки, не дискредитирующие априори лиц, их допустивших, которые возникают в ходе разрешения конкретного дела при толковании и применении норм материального или процессуального права и подлежат исправлению вышестоящими судебными инстанциями. Такие неумышленные судебные ошибки ординарного характера не могут расцениваться как проявление недобросовестного отношения судьи к своим профессиональным обязанностям и служить основанием для применения к нему дисциплинарного взыскания.
Соответственно, законодатель имплицитно выделяет другой тип судебных ошибок, которые являются следствием некомпетентности или небрежности судьи, т. е. недобросовестного исполнения им функции по отправлению правосудия, приводящего к искажению фундаментальных принципов судопроизводства и грубому нарушению прав участников процесса. Вынесение неправосудного судебного акта, хотя оно и не подпадает под признаки состава преступления, тем не менее может свидетельствовать либо о явной небрежности судьи, либо о его неспособности исполнять свои профессиональные обязанности, недопустимой при отправлении правосудия, а следовательно, являться основанием для применения к нему мер дисциплинарной ответственности как за однократное грубое нарушение, допущенное в процессе рассмотрения дела и вынесения судебного акта, так и за систематические нарушения, которые могут и не носить характера грубых, но в совокупности давать основания для вывода о явной недобросовестности или профессиональной некомпетентности судьи. Таким образом, исходя из конституционно-правового статуса судьи и природы осуществляемой им деятельности по отправлению правосудия, п. 1 и 2 ст. 3 и п. 1 ст. 121 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» в их системной взаимосвязи не предполагают привлечение судьи к дисциплинарной ответственности за судебную ошибку, если судья действовал в рамках судейского усмотрения и не допустил грубого нарушения при применении норм материального или процессуального права.
Необходимо и корректное определение как разновидности дисциплинарного проступка в случаях, подобных следующему: мировая судья, работавшая в северном регионе, около 30 дел не рассматривала в 2007–2008 гг. Гражданские и уголовные дела (примерно поровну) были в феврале 2015 г. обнаружены в шкафу под сапогами судьи без каких-либо судебных актов. Причем обнаружены были эти дела в ходе проверки по жалобе на судью, не рассмотревшей в течение 11 лет дело по взысканию алиментов 3.
Другой схожий по неопределенности пример. Мировая судья одного из Северо-Кавказских регионов проработала два десятка лет, но при попытке оспорить досрочное прекращение своих полномочий выяснилось, что у нее отсутствует диплом о высшем образовании. Некоторые иные варианты изначальной невозможности назначения судьями (например – отсутствие соответствующего профессионального стажа; выявление у действующего судьи факта привлечения его в прошлом, до обретения им статуса судьи, к уголовной ответственности с прекращением производства по делу по нереабилитирующим основаниям и др. И здесь в самой острой форме встает вопрос о том, как быть с судьбой сотен и тысяч судебных актов, вынесенных этими судьями, которые однозначно, без вариантов, не могли быть назначены судьями и не имели права вообще вершить правосудие) рассмотрены были автором этих строк в 2016 г. 4
Интересна и правоприменительная ситуация в случаях, если судья, в ходе судебного процесса либо до его начала, не заявляет самоотвод, когда это явно необходимо. Кстати, одним из видов дисциплинарных нарушений судьи в Республике Сербия, как это вытекает из ст. 61 Закона от 22 декабря 2008 г. № 116/2008- 11 (в ред. от 15.05.2017) «О судьях» 5, является как раз и неприменение самоотвода судьей в случае его необходимости.
Представляется также необходимым развести в целях отделения юридической (дисциплинарной) ответственности судьи от неюридической (этической) ответственности оба механизма этих видов ответственности. В законодательной сфере это означает исключение из ядра формулы дисциплинарного проступка судьи, закрепленного в п. 1 ст. 121 Закона о статусе судей (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 179), где сказано: «в результате которого были нарушены положения настоящего кодекса и (или) кодекса судейской этики…», слов «и (или)».
Правоприменительная практика отчетливо свидетельствует: смешение названных двух видов ответственности нередки. К названным выше в качестве примеров можно добавить следующие нарушения чисто этических норм судьей З., который вынес приговор, где допустил использование вульгарных слов и выражений, в том числе ненормативной лексики, неприемлемых не только в официально-деловом стиле, но и в общении между гражданами. ККС области Решением от 28 января 2022 г. № 2/6 отметила, что это повлекло умаление авторитета судебной власти, так как процессуальный документ, содержащий такие выражения, не может быть постановлен от имени государства. И указав, что в действиях судьи З., «не соответствующих требованиям ст.ст. 4, 11 Кодекса судейской этики к компетентности и недобросовестности судьи, а также влекущих умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи, усматривает признаки дисциплинарного проступка, за совершение дисциплинарного проступка (именно. – М.К.) наложила соответствующее дисциплинарное взыскание» 6. Важно здесь то, что ККС не усмотрела в действиях судьи З. признаков дисциплинарного проступка, предусмотренных ст. 12–1 Закона о статусе судей, а усмотрела эти признаки исключительно из нарушения положений Кодекса судейской этики, чем отожествила дисциплинарную (юридическую) и этическую (не юридическую) ответственность.
Схожей является ситуация с судьей С., которая непосредственно после ДТП с ее участием в присутствии должностных лиц ГИБДД и представителей СМИ употребила оскорбительные высказывания и нецензурные выражения 7.
Но это отнюдь не означает, что судья, допустивший этический проступок, тем паче грубый, может уйти от ответственности. Только эта ответственность должна быть корректной, адекватной содеянному и быть, в данном случае этической. Да, ее пока нет, нет вообще механизма этической ответственности судьи, который остро необходим, проб лема формирования которого автором этих строк рассмотрена в 2017 г. 8
Актуальность этого вопроса с тех пор лишь обострилась, поэтому некоторые корректировки внесенных в названной монографии предложений требуется внести. В деталях – это дело будущего, а пока – контурно – обозначим абрис механизма этической ответственности судей.
Главная здесь трудность – сформулировать понятие этического проступка судьи. Эта трудность заключается в том, что такие проступки столь разнообразны, что далеко не все из них вписываются, да и по определению не могут вместиться в Кодекс судейской этики, несмотря на то что положения его довольно пластичны, широки и многие из них сформулированы так, что могут пониматься и восприниматься многовариантно. И вряд ли любое совершенствование Кодекса судейской этики, если, конечно, не доводить его до абсурда, может данную ситуацию исправить, хотя, конечно, стремиться к этому нужно, и наука (не только юридическая) способна многое в этом процессе достичь.
Как бы то ни было, выход уже сейчас есть: это создание специального органа судейского сообщества, целью и задачей которого было бы решение вопросов этической ответственности судьи – от рассмотрения заявлений, иных обращений, публикации в СМИ и т. д. о совершении конкретным судьей конкретного этического проступка, далее – установление фактических обстоятельств дела и, в завершение, вынесение решения о применении к этому судье адекватной меры этической ответственности.
Кадровой основой такого органа вполне может быть комиссия по этике, создаваемая и действующая (и неплохо) как в Совете судей РФ, так и в советах судей субъектов Российской Федерации. Образец выделения и обретения самостоятельности органа судейского сообщества есть – это двух уровневые комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи, которые раньше входили, структурно, в состав ККС. Дело – за наполнением комиссий (федеральной и субъектов Российской Федерации) по этической ответственности судей членами с большим жизненным опытом, глубоко разбирающимися в морально-нравственно-этических вопросах. Процедурные аспекты деятельности этих комиссий разработать и нормативно закрепить в Положении, очевидно, проблем не составит.
Что касается мер этической ответственности судьи, то они ни в коей мере не должны даже близко приближаться к мерам дисциплинарной ответственности. За конкретный этический проступок, к примеру, судье названным органом судейского сообщества может быть назначен один из следующих видов этической ответственности: беседа судьи, совершившего этический проступок, со старшим (по возрасту либо по судейскому стажу, либо по стажу работы в данном суде) судьей в конфиденциальном режиме; объявление судье, совершившему этический проступок, товарищеского порицания от имени органа, «присудившего» эту меру этической ответственности, руководителем этого органа или по его поручению руководителем суда, в котором работает данный судья; обсуждение проступка судьи в судебном составе суда, судебной коллегии суда, коллективе судей (на общем собрании судей суда), трудовом коллективе суда, в котором работает судья, совершивший этический проступок; направление судье, совершившему этический проступок, органом, выносящим решение по завершении производства этого поступка, конфиденциального письма; официальное от имени органа, вынесшего эту меру этической ответственности, предупреждение судье о недопустимости впредь совершения подобного этического проступка; официальное от имени органа, вынесшего эту меру этической ответственности, обращение внимания судьи, совершившего незначительный этический проступок, руководителем суда; официальное обязывание названным органом судьи принести публичное извинение за совершенный им этический проступок, например, гражданину в случае хамского по отношению к нему поведения судьи; официальное объявление органом, применившим эту меру этической ответственности, среди судей либо среди всего коллектива суда о завершении производства о конкретном этическом проступке судьи, установлении самого факта этого проступка и сопутствующих ему обстоятельств и предложении каждому судье (каждому работнику суда) отреагировать в данном случае индивидуально, по собственному усмотрению.
Результат может осуществиться в следующих общеизвестных формах: тотальный или избирательный бойкот, отказ от рукопожатия, обструкция, остракизм и др.; предложение коллективу суда бойкотировать в личном общении в течение определенного срока судью, совершившего тяжкий этический проступок либо нетяжкие этические проступки неоднократно, невзирая на предупреждение (и на иные более мягкие меры этической ответственности, применяемые к нему). Однако здесь нужно принимать во внимание то, что такое коллективное воздействие на индивидуума погранично с моббингом – психологическим насилием в виде травли сотрудника в коллективе, а он обладает огромной разрушительной силой: от занижаю щейся самооценки до появляющихся проблем со сном, нервных срывов; от раздражительности до депрессии и панических состояний; случающихся инфарктов и т. д.
Некоторые практикуемые в настоящее время меры воздействия на судью с определенной мерой условности можно отнести к мерам этической ответственности. Как иначе квалифицировать оставление решением ККС при проведении квалификационной аттестации конкретного судьи по ее результатам в прежнем квалификационном классе (когда им «потолок» в системе этих классов не достигнут)? Оставление в прежнем квалификационном классе судьи, т. е. отказ от присвоения очередного класса, – явно не мера дисциплинарной ответственности судьи хотя бы потому, что ее нет в закрытом перечне таких мер, закрепленного в ст. 121 Закона о статусе судей. И уж, конечно, это не мера административной ответственности судьи. По своему психологическому и эмоциональному воздействию это жесткая мера именно этической ответственности судьи, но: 1) налагаемая ККС, которой это не присуще; 2) налагаемая не за конкретный этический проступок. Данный вопрос требует научной проработки.
Но еще более серьезной и глубокой научной проработки требует ситуация с совершением судьей этического (не юридического в любой форме) проступка, мерзость которого превосходит все границы и этическое наказание за него не может быть не чем иным, как изгнанием судьи из судейского корпуса.
Глубинная суть здесь заключается в чрезвычайной сложности (но необходимости) выделить мерзкий этический проступок судьи из широкого понимания дисциплинарного проступка, как бы это ни хотелось. С одной стороны, здесь должен действовать своеобразный судейский иммунитет от привлечения судьи к дисциплинарной ответственности и применения к нему дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения его полномочий при ситуации, когда налицо лишь этический – грубейший и мерзкий в высшей степени, но именно этический проступок судьи. С другой – судья за совершение этого этического проступка должен нести «высшую меру наказания» – досрочное прекращение его полномочий, но именно и исключительно в этическом сегменте.
Похоже, единственным вариантом здесь может стать расширение редакции присяги судьи, включение в него положений (и определенный пафос здесь не будет лишним) типа «клянусь соблюдать этические требования, предъявляемые к судье» и далее: «и пусть меня настигнет справедливая суровая кара в случае совершения мной грубого этического проступка, несовместимого со статусом судьи».
В этом случае вполне естественной будет являться крайняя мера этической ответственности судьи за мерзкий (но не дисциплинарный) проступок судьи в виде досрочного прекращения его полномочий с формулировкой «нарушение (либо несоблюдение) присяги судьи». О том, что какой-либо ответственности за нарушение (несоблюдение) судьей присяги, принесенной им в соответствии со ст. 8 Закона о статусе судей (в ред. Федерального закона от 08.12.2020 № 426-ФЗ), не существует.
Решение проблемы (или хотя бы приближение к ее решению) совершенствования отечественного механизма дисциплинарной ответственности судей практически малопродуктивно без рассмотрения предыдущего опыта в этом деле. Любопытно отметить (а может быть, это непознанная закономерность?), что судебной реформой Российской Империи 1864 г. ответственность судей за внеслужебные действия предусмотрена не была 9. Довольно широкой (по «ассортименту») уже в пореформенный (1864 г.) период была установлена дисциплинарная ответственность судей в виде: предостережения, замечания, выговор без внесения в послужной список, вычет из жалования (ст. 413–415 Уложения о наказаниях), арест не более чем на семь дней (!? – М.К.), перемещение на низшую должность 10.
При этом А. Э. Яковлевым отмечено: к дисциплинарной ответственности в Российской Империи судьи привлекались редко, например, с 1885 по 1905 г. Высшее дисциплинарное присутствие Сената рассмотрело 345 дел, в среднем по 15 дел в год, при этом в период с 1886 по 1894 г. было отстранено от должности за предосудительный образ действий всего двое судей. Лавники, мировые и гминные судьи тоже нечасто привлекались к ответственности: в последней четверти XIX в. дисциплинарные производства возбуждались в отношении указанных категорий судей в среднем одно в пять лет 11.
В советский период (в начале 1920 г.) была создана в СССР система дисциплинарных судов во главе с Главным дисциплинарным судом при ВЦИК (т. е. это была полностью самостоятельная судебная система, но не суды над судьями), которая в современной юридической литературе подверглась жесткой критике: «Созданные под благим предлогом разгрузить народные суды от малозначительных дел, ускорить рассмотрение дел о различных нарушениях своих обязанностей сотрудниками государственных органов, повысить эффективность борьбы с бюрократизмом дисциплинарные суды для нечистоплотных чиновников превратились в лазейку, позволявшую им уйти от уголовной ответственности, поскольку туда все чаще стали передавать дела о серьезных преступлениях по должности. Серьезной критике деятельность этих судов подверглась на XV съезде ВКП(б), на котором было предложено их упразднить» 12.
Согласно Положению о дисциплинарной ответственности судей, утвержденному Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июля 1948 г. 13, дисциплинарное взыскание на судью могло быть наложено за нарушение трудовой (! – М.К.) дисциплины, за упущение в судебной работе вследствие небрежности или недисциплинированности судьи, за совершение поступков, недостойных советского судьи (т. е. это явно не дисциплинарные проступки. – М.К.).
Но наиболее интересным в плане рассматриваемой в настоящей работе проблемы, без сомнения, является совсем свежий опыт создания и деятельности специального судебного органа – моносуда.
Предложение о создании Дисциплинарного судебного присутствия (далее – ДСП) впервые прозвучало 2 декабря 2008 г. на VII Всероссийском съезде судей. Вот как это описал А. П. Фоков, в то время главный редактор журнала «Российский судья»: «Президент РФ Д. Медведев на съезде судей озвучил целый ряд предложений, укрепляющих не только авторитет судебной власти, но и призванных законодательно обеспечить “создание единого дисциплинарного органа, который бы мог рассматривать конфликты, связанные с применением дисциплинарного воздействия в отношении судей”. Председатель Верховного Суда РФ В. М. Лебедев в докладе поддержал предложение о том, что создание “института дисциплинарной ответственности судей” будет одной из важных мер, “направленных на повышение качества судейских кадров”. Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ А. А. Иванов в своем докладе не затронул вопросов, связанных с созданием нового судебного органа, но и не высказал возражений» 14.
А. П. Фоков указал: «Таким образом, важным условием для повышения реальной независимости судей, считал В. Д. Зорькин (Председатель Конституционного Суда РФ. – М.К.), является создание специального дисциплинарного суда для рассмотрения вопросов о привлечении судей к дисциплинарной ответственности». Далее А. П. Фоков отметил: «После VII Всероссийского съезда судей прошло достаточно много времени, когда Президент РФ Д. Медведев внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект “О Дисциплинарном судебном присутствии”» 15.
Поскольку финальную роль в механизме дисциплинарной ответственности судей в нашей стране играют суды, следует внимательно присмотреться к такому ныне не существующему судебному органу, как ДСП. Естественно, с учетом статуса и судебной практики постреформенного (1864 г.) Высшего дисциплинарного присутствия Российской Империи, образованного «для разрешения подведомственных Правительствующему Сенату дисциплинарных дел о должностных лицах судебного ведомства» 16.
Этот федеральный узкоспециализированный судебный орган был создан Федеральным конституционным законом от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ «О Дисциплинарном судебном присутствии» 17.
Одним из базовых оснований его создания, как следует из Пояснительной записки к его Проекту, послужило то, что действующим законодательством соответствующими полномочиями по рассмотрению желоб и пересмотру решений ККС о прекращении полномочий судей в связи с совершением ими дисциплинарных проступков в отношении судей Высшего Арбитражного Суда РФ, всей системы арбитражных судов наделяется «Верховный Суд РФ (исходя из равенства конституционного статуса судей общих и арбитражных судов), что представляется достаточно уязвимым».
В Пояснительной записке также указано: «При этом следует учесть, что создание специальных органов для применения дисциплинарных санкций и механизмов в отношении судей оговорено в Рекомендации Комитета Министров Совета Европы от 13 октября 1994 г. № R (94) 12 “О независимости, эффективности и роли судей” (принцип VI)», и такие органы созданы и успешно действуют в ряде стран.
Состав этого судебного органа указанным Федеральным конституционным законом трактуется так: ДСП является судебным органом, рассматривающим дела по жалобам на решения ВККС РФ и ККС субъектов Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков и обращениям на решения ВККС РФ и ККС субъектов Российской Федерации об отказе в досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков.
Состав этого судебного органа был таков. Он формировался из числа судей Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ (за исключением Председателя Верховного Суда РФ, Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ и их заместителей, а также судей, входящих в состав ВККС РФ и в состав Совета судей РФ в количестве шести членов). Члены ДСП избирались исходя из следую щей нормы представительства: три судьи от Верховного Суда РФ и три судьи от Высшего Арбитражного Суда РФ.
Важно при этом, что член ДСП осуществлял свои полномочия без освобождения от должности судьи Верховного Суда РФ или Высшего Арбитражного Суда РФ, но он освобождался от исполнения обязанностей по осуществлению правосудия по основному месту работу на период подготовки и проведения заседаний ДСП в порядке, установленном Регламентом ДСП. Срок полномочий члена ДСП – три года, и в период осуществления своих полномочий член ДСП не мог быть привлечен к дисциплинарной ответственности.
Было установлено, что Регламент ДСП утверждался совместным постановлением Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ.
Названным Федеральным конституционным законом закреплены следующие полномочия ДСП. Оно рассматривает: 1) жалобы граждан, судейские полномочия которых досрочно прекращены решением ВККС РФ или решением ККС субъекта Российской Федерации за совершение ими дисциплинарных проступков, на указанные решения ККС; 2) обращения Председателя Верховного Суда РФ или Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ о досрочном прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков в тех случаях, когда ВККС РФ или ККС субъектов Российской Федерации отказано в удовлетворении представлений председателей федеральных судов о прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков.
А по результатам рассмотрения жалоб и обращений ДСП принимал следующие мотивированные решения: а) об удовлетворении жалобы и отмене решения соответствующей ККС; б) об удовлетворении обращения и о прекращении полномочий судьи; в) об отказе в удовлетворении жалобы или обращения.
Данным Федеральным конституционным законом были закреплены и процессуально-процедурные вопросы правосудной деятельности ДСП. Так, было установлено, что жалобы и обращения рассматриваются ДСП после изучения представленных ВККС РФ или ККС субъектов Российской Федерации материалов по указанным жалобам или обращениям, а также сведений, характеризующих заявителя, в порядке, установленном Регламентом ДСП. ДСП в пределах своих полномочий мог провести проверку указанных материалов, направить запросы в соответствующие суды о предоставлении дополнительных материалов, заслушать объяснения заявителя, председателей или представителей ВККС РФ, ККС субъектов Российской Федерации, представителей иных органов судейского сообщества, а также председателей соответствующих судов об обстоятельствах совершения дисциплинарного проступка заявителем. Жалобы и обращения должны были быть рассмотрены ДСП в течение двух месяцев со дня их поступления в ДСП. А если в отношении заявителя имеются сведения, требующие дополнительной проверки, то рассмотрение его жалобы приостанавливалось ДСП до окончания указанной проверки, но не более чем на шесть месяцев.
Заседания ДСП проводились председательствующим, который избирался из числа членов ДСП на каждом заседании в соответствии с Регламентом ДСП. Оно считалось правомочным, если на нем присутствовало не менее пяти членов ДСП. Решение ДСП по жалобе или обращению принимается открытым голосованием большинством голосов членов ДСП. При равном количестве голосов жалоба считается удовлетворительной, а обращение – отклоненным. При этом члены ДСП были не вправе воздерживаться от голосования. И это голосование по принимаемому решению осуществлялось в отсутствие заявителя, приглашенных и иных лиц. Решение ДСП оформлялось в письменном виде, подписывалось членами ДСП, рассматривавшими соответствующие жалобу или обращение, оглашалось в порядке, установленном Регламентом ДСП, и публиковалось в порядке, установленном законодательством РФ. А член ДСП был вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщалось к решению ДСП. Жестко закреплялось: решение ДСП является окончательным и обжалованию не подлежит.
В юридической литературе периода существования ДСП обращалось внимание на его место в судебной системе Российской Федерации 18, на его правовую природу в связке с проблемами взаимодействия трудового и гражданского процессуального права 19.
Серьезное внимание уделялось также проблематике процессуальных вопросов его правосудной деятельности. Так, А. В. Юдин в числе процессуальных особенностей рассмотрения дел ДСП выделял следующие: 1) специальная (узкоограниченная компетенция ДСП); 2) особые средства обращения в суд и особый круг субъектов, имеющих право на обращение; 3) абсолютный иммунитет членов ДСП от привлечения к дисциплинарной ответственности; 4) вероятность наслоения разных юрисдикционных процедур при рассмотрении дел ДСП (с одной стороны, оно имеет статус федерального конституционного закона и содержит в том числе особые правила, относящиеся к порядку производства по делу; с другой – допускает и даже предписывает закрепление порядка рассмотрения дел при помощи Регламента ДСП, утверждаемого совместным постановлением пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ). Таким образом, наблюдается существенный разрыв в иерархии правовых актов, закрепляющих порядок разбирательства дел ДСП; 5) ДСП – субъект активной доказательственной деятельности; 6) окончательность решения ДСП 20. Важной представляется точка зрения этого автора, высказанная им в указанной работе: «Таким образом, создан новый орган судебной власти, функционирующий по правилам, установленным для другой разновидности судов» 21.
И. А. Алешкова считает, что особенности производства ДСП характеризуются: его полномочиями; субъектами, имеющими право на обращение в ДСП; критериями допустимости жалоб (обращений), связанными с содержанием жалобы (обращения), с прохождением определенных досудебных процедур рассмотрения спора и др.; предметом, критериями и пределами проверки; юридической силой итогового решения; другими особенностями, связанными с государственной пошлиной, процессуальными сроками, числом голосующих за принятие итогового решения судей 22.
И. Н. Поляков предложил отнести к подведомственности ДСП все дела об оспаривании судьями постановлений о приостановлении и прекращении их полномочий, о приостановлении и прекращении их отставки, включая дела о прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных проступков 23. Он вообще полагал, что наличие в Российской Федерации двух судебных структур, уполномоченных рассматривать дела с участием судей, нельзя признать правильным. И. Н. Поляков считает: если законодательная власть решила создать специализированный суд для рассмотрения дел о дисциплинарных проступках судей, то к его ведению следовало бы отнести и иные дела (кроме уголовных) с участием судей, т.е. все те дела, которые в настоящее время отнесены к компетенции судов субъектов Российской Федерации и Верховного Суда РФ. Что же касается уголовных дел, говорил он, то право на их рассмотрение по-прежнему должно быть сохранено за Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ 24.
В другой своей работе И. Н. Поляков отмечал: будучи специализированным судом общей юрисдикции, ДСП должно рассматривать дела, отнесенные ст. 1 Федерального конституционного закона о ДСП к его ведению, по правилам гражданского судопроизводства с учетом процессуальных особенностей, указанных в Гражданском процессуальном кодексе РФ и Регламенте ДСП. Анализ этих особенностей, подчеркивал указанный автор, дает основания утверждать, что в современном гражданском процессе Российской Федерации к исковому, особому, приказному и другим видам гражданского судопроизводства добавился еще один вид производства, предназначенный для рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей 25.
Была высказана и точка зрения, согласно которой правовая природа ДСП – это не самостоятельный федеральный суд, состоящий из постоянно назначаемых в него судей, а именно судебное присутствие – особая совместная коллегия Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, состоящая из судей этих судов, временно привлекаемых к дополнительным обязанностям по рассмотрению дисциплинарных дел. Причем такое понимание судебного присутствия как особой коллегии имеет свои исторические корни в российской истории – в 1877 и 1884 гг. в Сенате были учреждены соединенное присутствие первого и кассационных департаментов, а затем – Высшее дисциплинарное присутствие 26.
Некоторые авторы вообще обращали внимание на тот факт, что Федеральный конституционный закон о ДСП не соответствует Конституции РФ. В. В. Осин, например, считал, что «такой специальный суд, предназначенный обслуживать только избранных граждан страны (имелся в виду судейский корпус. – М.К.), имеет все черты чрезвычайного суда. Но в статье 118 Конституции РФ отмечается, что создание чрезвычайных судов не допускается» 27.
И действительно, возникают определенные вопросы, в частности: судьи ДСП осуществляли правосудие в нем параллельно, в другом высшем суде Российской Федерации, т. е. в ДСП осуществляли правосудие иные судьи, не назначенные на эту должность Советом Федерации по представлению Президента РФ. В ДСП его судьи вознаграждение за правосудную деятельность не получают. Тогда как рассматривать их статус? Как совместительство (правда, и в этом случае должно быть вознаграждение, к тому же п/п. 1 п. 1 ст. 3 Закона о статусе судей запрещает судье замещать иные государственные должности, должности государственной службы) или как общественная нагрузка (поручение)?
Вместе с тем к вопросу о том, что в момент создания ДСП о нем в Конституции РФ не было ничего сказано и поэтому его конституционность находится под вопросом, следует отнестись с большой осторожностью и немалым скепсисом. Потому что, во-первых, в 2009 г. ч. 3 ст. 118 Конституции РФ не содержала перечень судов и судебных систем в государстве, ограничившись лишь провозглашением: «Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не допускается». И с учетом этого конституционного положения говорить о том, что отсутствие упоминания ДСП в Конституции РФ означает неконституционность ДСП, даже с учетом того, что в Конституции имелись отдельные статьи о трех высших судах страны – Конституционном, Верховном и Высшем Арбитражном, не приходится, во-вторых, только после конституционных нововведений 2020 г. ч. 3 ст. 118 Конституции РФ приобрела иной, более расширенный вид: «Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Судебную систему Российской Федерации составляют Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов Российской Федерации. Создание чрезвычайных судов не допускается».
Закрыт этот перечень судебных органов? Оснований считать, что не закрыт, нет, иначе перечень оканчивался бы словом «и другие». За то, что он закрыт, говорит и то, что в нем не названы конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации, а другие нефедеральные суды названы – это мировая юстиция. Так вот, после этих конституционных нововведений 2020 г. вследствие того, что в ч. 3 ст. 118 Конституции РФ конституционные (уставные) суды не названы, их достаточно быстро упразднили – в тех субъектах, где они были созданы. Упоминание о них «стерли» и в Федеральном конституционном законе о судебной системе страны.
Однако в этом перечне нет и военных судов. А их никто и не собирается упразднять, и считать их судами общей юрисдикции оснований нет прежде всего потому, что статус каждого из них определяется своим собственным федеральным конституционным законом. Более того, военные суды – это автономная судебная система, аналогичная ныне, с 2014 г., системе арбитражных судов, только первая – двухзвенная, а вторая – трехзвенная, но обе замыкаются на отдельные коллегии Верховного Суда РФ. Поэтому вопрос: если бы сейчас принималось решение о воссоздании ДСП, необходимо ли было бы корректировать ч. 3 ст. 118 Конституции РФ? Не факт.
И наконец, третье, определяющее важное, –позиция Конституционного Суда РФ по этому вопросу, рассмотревшего обращение о неконституционности ДСП.
Так, судья районного суда Д., которую региональная ККС 20 мая 2010 г. лишила судейских полномочий и квалификационного класса за совершение дисциплинарного проступка, обратилась в ДСП, которое своим Решением от 28 июля 2010 г. отказало в удовлетворении ее жалобы.
После чего Д. обратилась в Конституционный Суд РФ с жалобой, в которой оспорила конституционность Федерального конституционного закона от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ о ДСП в целом, а также части 9 его ст. 8.
Д. в этом своем обращении утверждала, что Федеральный конституционный закон о ДСП не соответствует Конституции РФ, ее ст. 2, 15 (ч. 1, 4), 17 (ч. 1, 2), 18, 45, 46, 47 (ч. 1), 55 (ч. 2, 3), 118, 125– 127, поскольку учреждает ДСП как чрезвычайный суд для судей, не предусмотренный Конституцией РФ, устанавливает, что его решения окончательны и не подлежат обжалованию, тем самым лишая ее права на обжалование решения ДСП в кассационном и надзорном порядке, и является по отношению к ней дискриминационным.
Конституционный Суд РФ в своем Определении от 1 марта 2011 г. № 283-О-О по данной жалобе Д. указал следующее. Конституция РФ непосредственно ДСП не учреждает и его правовое положение в качестве судебного органа не определяет. В то же время ею закреплено, что в ведении Российской Федерации находится установление системы федеральных органов судебной власти, порядка их организации и деятельности и судо устройство (п. «г», «о» ст. 71): по предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации (ч. 1 ст. 76), и что полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и иных федеральных судов устанавливаются федеральным конституционным законом (ч. 3 ст. 128).
Из названных конституционных положений в их системном единстве и во взаимосвязи с иными положениями Конституции РФ вытекает право федерального законодателя посредством принятия и изменения федеральных конституционных законов учреждать в судебной системе Российской Федерации наряду с судами, непосредственно предусмотренными Конституцией РФ, и иные виды федеральных судов, в том числе специализированные суды по рассмотрению отдельных категорий дел.
Осуществляя указанное право, федеральный законодатель принял оспариваемый заявительницей Федеральный конституционный закон, которым было учреждено ДСП как судебный орган, определены его полномочия, порядок образования и деятельности. Федеральным конституционным законом от 9 ноября 2009 г. № 5-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “Об арбитражных судах в Российской Федерации” и статьи 4 и 15 Федерального конституционного закона “О судебной системе Российской Федерации”» ч. 3 ст. 4 оспариваемого Федерального конституционного закона была дополнена положением об отнесении ДСП к федеральным судам.
Частью 1 ст. 6 Федерального конституционного закона от 9 ноября 2009 г. № 5-ФКЗ о ДСП определено, что ДСП реализует свои полномочия в порядке, предусмотренном гл. 23 и 25 ГПК РФ, с учетом особенностей, установленных данным законом и Регламентом ДСП, а это означает, что ДСП осуществляет судебную власть посредством гражданского судопроизводства (в части производства по делам, возникающим из публичных правоотношений). Ведь КАС РФ тогда вообще не существовал. Таким образом, вопреки утверждению заявительницы, ДСП учреждено в соответствии с Конституцией РФ и конкретизирующим ее законодательством о судебной системе. А согласно ч. 9 ст. 8 указанного Закона, решение ДСП по жалобе является окончательным и обжалованию не подлежит. Такое регулирование исключает возможность пересмотра решений ДСП в иных судебных инстанциях (ординарных, надзорных).
Своим Определением Конституционный Суд РФ отказал в принятии жалобы Д., поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона от 9 ноября 2009 г. № 5-ФКЗ о Конституционном Суде РФ, в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд РФ признается допустимой. И вторым пунктом резолютивной части названного Определения было указано: «Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит». Это как бы дополнительный довод (а вообще-то традиционное указание в актах Конституционного Суда РФ) к тому, что в судебной системе нашей страны есть суды (и судебные инстанции), судебные акты которых не обжалуются.
Кстати, немного позднее Конституционный Суд РФ по данному вопросу вынес отдельное Определение. Оно касалось жалобы гражданки С., оспаривающей конституционность ч. 9 ст. 8 Федерального конституционного закона от 9 ноября 2009 г. № 5-ФКЗ о ДСП, согласно которой решение ДСП является окончательным и обжалованию не подлежит. По мнению С., оспариваемое ею законоположение исключает возможность обжалования решений ДСП в кассационном и надзорном порядке, что нарушает ее права, гарантированные ст. 19, 45 и 46 Конституции РФ.
В Определении от 21 апреля 2011 г. № 553-О-О Конституционный Суд РФ по этому обращению С. указал следующее.
Как следует из представленных материалов, решением Дисциплинарного судебного присутствия С. отказано в удовлетворении жалобы на решение региональной ККС о досрочном прекращении полномочий заявительницы как федерального судьи.
Конституционный Суд РФ, изучив представленные С. материалы, не нашел оснований для принятия ее жалобы к рассмотрению, сославшись на свое Определение от 1 марта 2011 г. № 283-О-О. Далее Конституционный Суд РФ отметил: из приведенных положений не вытекает обязательность установления в судебной системе страны судебных инстанций, наделенных полномочиями по проверке судебных актов ДСП. Следовательно, федеральный законодатель, закрепляя правовое положение ДСП, вправе исключить возможность обжалования его решений в иных судебных инстанциях. Вместе с тем данное регулирование не может быть произвольным, что предполагает законодательное установление таких мер, которые гарантировали бы конституционное право граждан на судебную защиту, эффективность осуществляемого ДСП судопроизводства при отсутствии института обжалования его решений в иных судебных инстанциях. К числу названных мер относится, в частности, процедура пересмотра решений ДСП им самим по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 20 Регламента ДСП).
Поверхностное ознакомление с рядом решений (не выборочными) ДСП за 2010 г., когда оно заработало «в полную силу» и приобрело определенный опыт правосудной деятельности, позволяет высказать следующее.
Круг вопросов, которые ДСП пришлось рассматривать и выносить по ним решения, был широк, а решения вполне обоснованные (с личной точки зрения автора данных строк). Например, при рассмотрении жалобы М., лишенным полномочий судьи за совершение дисциплинарного проступка, ДСП решением по делу № ДСП 10-87 от 30 сентября 2010 г. жалобу М. удовлетворило, придя к выводу, что в действиях М. «отсутствует событие дисциплинарного проступка». При рассмотрении жалоб Р. (Решение по делу ДСП 10-102 от 25.10.2010 г.), Д. (Решение по делу № ДСП 0-98 от 15.09.2010 г. и М. (Решение по делу № ДСП 10-15 от 27.04.2010 г.), которые за совершение дисциплинарных проступков, выразившихся в вынесении незаконных судебных актов, были лишены полномочий судьи, ДСП судейские полномочия Р. и Д. им восстановило, указав, что ККС не наделена правом проверять и устанавливать незаконность судебных актов. При этом в Решении ДСП по делу М., которому ККС инкриминировала излишнюю мягкость выносимых им приговоров по уголовным делам, что находится, по мнению ККС, в прямой причинной связи с ростом рецидивной преступности и количеством уголовных дел данной категории, возбужденных в районе, где осуществлял правосудие судья М., было отмечено, что не может быть признан обоснованным данный вывод ККС; при рассмотрении жалобы К. было установлено нарушение самой ККС установленных процедур при рассмотрении материалов и вынесении решения о лишении судейских полномочий К. (Решение по делу № ДСП 10-78 от 17.09.2010 г.).
А при рассмотрении жалобы Ш., которую лишили полномочий, в частности, за то, что при передаче 47 гражданских дел от Ш. другому судье в 45 отсутствовали протоколы судебных заседаний (Решение по делу № ДСП 10-88 от 25.10.2010 г.); Г., которого ККС лишила судейских полномочий за ведение процесса по уголовному делу в состоя нии алкогольного опьянения (Решение по делу № ДСП 10-136 от 13.12.2010 г.), в удовлетворении их жалоб было ДСП отказано с соответствующим обоснованием. Одно из последних решений ДСП – это Решение от 13 июня 2013 г. № ДСП 13- 42, которым было отказано в удовлетворении обращения Председателя Верховного Суда РФ об отмене решения ККС одного из субъектов Российской Федерации от 27 февраля 2013 г. № 3 об отказе в удовлетворении представления руководителя суда этого субъекта Российской Федерации и привлечении мирового судьи Г. к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением четвертого квалификационного класса.
Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2009 г. № 5-ФКЗ был признан утратившим силу п. 2 ст. 10 Федерального конституционного закона от 12 марта 2014 г. № 5-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации “О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации” и признании утратившим силу Федерального конституционного закона “О Дисциплинарном судебном присутствии”» 28.
7 августа 2014 г. Пленум Верховного Суда РФ Постановлением № 5 утвердил Положение о дисциплинарной коллегии Верховного Суда РФ 29.
Из сказанного выше применительно к рассматриваемой в настоящей работе проблеме можно сформулировать несколько выводов.
- Наименование ДСП означает, что оно, по существу, по всем канонам – государственный судебный орган со всеми вытекающими из этого последствиями.
- Создание ДСП в качестве специализированного федерального моносуда не нарушило никаких положений действующей тогда Конституции РФ.
- В процессуальном плане ДСП – одноинстанционный судебный орган, и вынесенный им судебный акт окончателен и обжаловать его невозможно. Если же будет создана двухуровневая (федерального и, к примеру, судебных округов) система узкоспециализированных судебных органов (это уже не федеральный моносуд), то судебный акт федерального уровня так же будет окончательным и обжалованию не подлежащим.
- Можно считать, что если бы не был ликвидирован Высший Арбитражный Суд РФ, то не было бы и ликвидировано ДСП, которое заняло свою собственную нишу в системе судебных органов страны и функционировало эффективно. Но все это было до конституционных нововведений 2020 года, а с ними положение изменилось, причем в значительной мере, как сказано выше.
Если рассматривать перечень судебных органов, закрепленный теперь в ч. 3 ст. 118 Конституции РФ, как закрытый (а иначе его рассматривать попросту невозможно), то теперь наличие данного конституционного положения требует сделать в плане исследуемой здесь проблемы следующие выводы:
- для создания нового, не входящего в данный перечень, узкоспециализированного федерального моносуда типа ДСП, а равно двух- и более звенной узкоспециализированной судебной системы со своим высшим судом, не входящей в этот перечень, необходима соответствующая корректировка Конституции РФ;
- названное выше Определение Конституционного Суда РФ от 1 марта 2011 г. № 283-О-О на отношения относительно создания специализированных федеральных моносудов, не названных в Конституции РФ, где было сказано, что оно не противоречит Конституции РФ, после конституционных нововведений (новой редакции ч. 3 ст. 118 Конституции РФ) не действует;
- тем не менее само ДСП и в материальном, и в процессуально-правовом смыслах, и с точки зрения эффективности и других базовых оснований – неплохой образец судебного органа, призванного решать вопросы дисциплинарной ответственности судей, и не только действующих, но и судей, пребывающих в отставке, а также руководителей судебных органов (разумеется, при соответствующей, а в отдельных звеньях существенной корректировке этого организационно-правового узкоспециализированного механизма правосудия);
- в юридической литературе после ликвидации ДСП отмечается: «Следует заметить, что по сравнению с Федеральным конституционным законом от 9 ноября 2009 г. “О Дисциплинарном судебном присутствии”, где на уровне органического закона закреплялись особенности судебной процедуры в сфере привлечения судей к дисциплинарной ответственности, в Законе от 5 февраля 2014 г. (речь идет о Федеральном конституционном законе от 05.02.2014 г. “О Верховном Суде Российской Федерации”, которым была образована Дисциплинарная коллегия Верховного Суда РФ, призванная выполнять функции судебного контроля в отношении решений ККС всех уровней, при этом положение о ней утверждается Пленумом Верховного Суда РФ. – М.К.) гарантии независимости судей снижены, а вопросы, связанные со статусом судей, получают определение в актах судебного нормотворчества» 30.
Известно, что в одну и ту же реку дважды войти невозможно. Поэтому и воссоздавать ДСП с любой корректировкой его статуса не следует. Однако решать самым радикальным образом вопрос о создании более эффективного организационно-правового механизма дисциплинарной ответственности судей необходимо. И он должен быть конституционным, а его федеральный орган, обладая при этом не только правом законодательной инициативы, должен быть наделен возможностями издания обязательных к исполнению правовых предписаний в рамках своих полномочий.
Почему это именно сейчас особенно важно? Во-первых, потому что даже мелкие законодательные лакуны в этих правоотношениях заполнять некому, а они есть. Так, в Отчетном докладе Председателя ВККС РФ Н. В. Тимошина Х Всероссийскому съезду судей было сказано: обобщение практики рассмотрения вопросов, связанных с неприкосновенностью судей, обнаруживает некоторую «пробельность» законодательной регламентации. Речь идет о ситуациях, когда, с одной стороны, квалификационная коллегия, установив отсутствие связи уголовного преследования судьи с его профессиональной деятельностью, обязана дать согласие на возбуждение уголовного дела, однако, с другой стороны, уголовное дело не может быть возбуждено в силу закона. Например, если истекли сроки давности или издан акт амнистии, при этом судья согласен на прекращение уголовного преследования по этим нереабилитирующим основаниям. Но орган следствия просит дать согласие на уголовное преследование, чтобы затем решался вопрос, возбуждать уголовное дело в отношении судьи или нет. Полагаем, что в подобных ситуациях обращение следственного органа в квалификационную коллегию за получением разрешения на возбуждение уголовного дела вместо отказа в его возбуждении по указанным основаниям свидетельствует о продолжении уголовного преследования судьи исключительно в связи с его статусом, и коллегия, исходя из ее предназначения, не может дать такое согласие 31. А во-вторых, потому что только он, этот орган, был бы способен определять стратегию совершенствования и развития всего механизма судебной власти, отдельным звеном которого и является механизм дисциплинарной (и иной) ответственности судей.
Абрис конструкции и статуса такого органа автор этих строк рассматривал в 2016 г. и после конституционных нововведений 2020 года – в 2023 г. 32
И нет сомнений в том, что любое совершенствование механизма ответственности судей, включая в первую очередь дисциплинарную, это «игра вдогонку». Без радикального модернизационного преобразования всего механизма правосудия это в лучшем случае – тактические усовершенствования, а необходимы стратегические прорывные, комплексные решения. Без них будет по большому счету «топтание на месте», и даже еще хуже.
Потому что глубинные проблемы дисциплинарной (как минимум) ответственности судей усугубляются, и это объективный факт. Стратегия же здесь – создание механизма, при котором не будут совершаться судьями дисциплинарные проступки (либо их будет минимум), т. е. нужно решать базовые причины совершения дисциплинарных проступков.
О чем идет речь? В Российской Федерации 2210 судов общей юрисдикции с 24 553 судьями (штатной численности, но вакансий – 15.4%), военных судов – 11 с 880 судьями (по штату, но вакансий – 20%), 7733 мировых судей (по штату, вакансий – 9%), арбитражных судов – 115 с 4493 судьями (по штату, вакансий – 14%). Эти данные были представлены делегатом Х Всероссийского съезда судей в декабре 2022 г. Вроде бы судейский корпус численно весьма внушителен.
Но в постановлении того же Х Всероссийского съезда судей от 1 декабря 2022 № 1 «О развитии судебной системы Российской Федерации» было сказано: «В 2021 году по первой инстанции было рассмотрено более 39 млн дел, в ККС за период между съездами с 2017 по 2022 г. поступило 327 946 жалоб» 33. И эти показатели неуклонно растут, что, с одной стороны, свидетельствует о росте доверия общества к судебной системе, но с другой – о все возрастающей нагрузке на судейский корпус, усугубляемый большим количеством судейских вакансий, а также отвлечением действующих судей в ККС для разбора жалоб и заявлений граждан.
А принимаемые на разных площадках решения о разработке нормативов нагрузки на судей до сих пор ни к какому результату не привели и, по мнению автора данных строк, в том числе потому, что не на тех площадках такие решения принимались (по сути, это были призывы, хотя нередко принимающие форму «крика души»).
Поэтому и очевидно, что создание специального федерального органа типа ДСП корни усугубляемой проблемы с дисциплинарной ответственностью судей не устранят, это будет паллиатив. Радикальным же решением этой проблемы (и многих иных) станет создание Совета судебной власти, находящемся в одном ряду с двухпалатным Федеральным Собранием – для законодательной власти, и Правительством – для власти исполнительной. И это потребует разработки и принятие новой Конституции РФ (без чего – никак, к тому же позволит избавить Совет Федерации от органически несвойственной законодательному органу функции квазисудебного органа в механизме ответственности судей, возложенного на него конституционными нововведениями 2020 года) и, разумеется, предварительной многоплановой научно-фундаментальной проработки ее положения.
1 Начало см.: Государство и право. 2024. № 7. С. 115–125; № 8. C. 61–73.
2 For the beginning see: State and Law. 2024. No. 7, pp. 115–125; No. 8, pp. 61–73.
3 См.: Труханова Марина // Сайт Право.ру (дата обращения: 01.09.2015).
4 См.: Клеандров М. И. Судья или не судья: об институте ничтожности судебного акта // Росс. правосудие. 2016. № 12 (128). С. 29–38.
5 См.: Официальный вестник Республики Сербия. 2008. 22 дек.
6 См.: Вестник ВККС РФ. 2022. № 5 (85). С. 17–19.
7 См.: Вестник ВККС РФ. 2024. № 1 (93). С. 39, 40.
8 См.: Клеандров М. И. Механизм этической ответственности судьи: проблемы формирования. М., 2017.
9 См.: Рыжов Д. С. Высшее дисциплинарное присутствие Правительствующего Сената как орган надзора за судебными учреждениями в пореформенной России // Право и политика. 2007. № 9. С. 110.
10 См.: Корчагин А. Ю. Институт ответственности судей в дореволюционной России // Платон. 2014. № 4. С. 7.
11 См.: Яковлев А. Э. Исторические аспекты дисциплинарной ответственности судей // Росс. юстиция. 2007. № 10. С. 68.
12 Яковлев В. Ф., Семигин Г. Ю. Коммерческое правосудие в России. Т. 3. Правовое разрешение экономических споров в СССР. М., 2005. С. 166.
13 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1948. № 31.
14 Фоков А. П. Навстречу VII Всероссийскому съезду судей // Росс. судья. 2009. № 1. С. 11.
15 Фоков А. П. О Дисциплинарном судебном присутствии // Росс. судья. 2010. № 1.
16 См.: ПСЗРИ. Собр. 3-е. Т. V. № 2959, ст. III.
17 См.: СЗ РФ. 2009. № 45, ст. 5261.
18 См.: Воронов А. В. О Дисциплинарном судебном присутствии, судебной системе, видах судопроизводства и разделении властей // Законодательство. 2010. № 10. С. 66–72.
19 См.: Ерёмина С. Н., Джаникян М. В. Правовая природа Дисциплинарного судебного присутствия: проблемы взаимодействия трудового и гражданского процессуального права // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 6. С. 2–6.
20 См.: Юдин А. В. Процессуальные аспекты функционирования Дисциплинарного судебного присутствия // Вестник ВАС РФ. 2010. № 2. С. 40–46.
21 Там же. С. 41.
22 См.: Алешкова И. А. Особенности производства в Дисциплинарном судебном присутствии // Росс. правосудие. 2011. № 2 (58). С. 55–63.
23 См.: Поляков И. Н. Недостатки правового регулирования процедуры рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей // Росс. судья. 2012. № 5. С. 38–41.
24 См.: там же. С. 38.
25 См.: Поляков И. Н. Производство в Дисциплинарном судебном присутствии – новый вид гражданского судопроизводства// Арбитражный и гражданский процесс. 2012. № 2.
26 См.: Дряхлов С. К., Калиновский К. Б. Привлечение судей к дисциплинарной ответственности по новому российскому законодательству // Росс. правосудие. 2010. № 2 (46). С. 37.
27 Осин В. В. О Дисциплинарном судебном присутствии и защите прав граждан // Адвокат. 2010. № 2.
28 См.: СЗ РФ. 2014. № 11, ст. 1088.
29 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 10.
30 Бурдина Е. В. Форма дисциплинарного органа для судей: дисциплинарный суд или орган судейского сообщества // Lex russia. 2014. № 11 (т. XCVI). С. 1365.
31 См.: Вестник ВККС РФ. 2023. № 1 (87). С. 32.
32 См.: Клеандров М. И. О Совете судебной власти в Российской Федерации. М., 2016; Его же. О Высшем органе судебной власти Российской Федерации // Государство и право. 2023. № 8. С. 51–63.
33 См.: Вестник ВККС РФ. 2023. № 1 (87). С. 7, 19.
About the authors
Mikhail I. Kleandrov
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: mklean@bk.ru
Corresponding Member of RAS, Doctor of Law, Professor, Chief Researcher
Russian Federation, 10 Znamenka str., 119019 MoscowReferences
- Aleshkova I. A. Peculiarities of proceedings in the Disciplinary court presence // Russ. Justice. 2011. No. 2 (58). Pp. 55–63 (in Russ.).
- Burdina E. V. The form of a disciplinary body for judges: a disciplinary court or a body of the judicial community // Lex russia. 2014. No. 11 (vol. XCVI). P. 1365 (in Russ.).
- Voronov A. V. On Disciplinary judicial presence, the judicial system, types of legal proceedings and separation of po-wers // Legislation. 2010. No. 10. Pp. 66–72 (in Russ.).
- Dryakhlov S. K., Kalinovsky K. B. Bringing judges to disciplinary responsibility under the new Russian legislation // Russ. Iustice. 2010. No. 2 (46). P. 37 (in Russ.).
- Eremina S. N., Janikyan M. V. The legal nature of disciplinary judicial presence: problems of interaction between Labor and Civil Procedural Law // Arbitration and Civil Procedure. 2011. No. 6. Pp. 2–6 (in Russ.).
- Kleandrov M. I. Mechanism of ethical responsibility of a judge: problems of formation. M., 2017 (in Russ.).
- Kleandrov M. I. On the Supreme body of judicial power of the Russian Federation // State and Law. 2023. No. 8. Pp. 51–63 (in Russ.).
- Kleandrov M. I. On the Council of Judicial Power in the Russian Federation. M., 2016 (in Russ.).
- Kleandrov M. I. Judge or not judge: on the institute of nullity of a judicial act // Russ. Justice. 2016. No. 12 (128). Pp. 29– 38 (in Russ.).
- Korchagin A. Yu. Institute of judicial responsibility in pre-revolutionary Russia // Platon. 2014. No. 4. P. 7 (in Russ.).
- Osin V. V. On the disciplinary judicial presence and protection of the rights of citizens // Lawyer. 2010. No. 2 (in Russ.).
- Polyakov I. N. Shortcomings of the legal regulation of the procedure for considering cases of disciplinary responsibility of judges // Russ. judge. 2012. No. 5. Pp. 38–41 (in Russ.).
- Polyakov I. N. Proceedings in the Disciplinary Court Presence – a new type of civil proceedings // Arbitration and Civil Procedure. 2012. No. 2 (in Russ.).
- Ryzhov D. S. The supreme disciplinary presence of the Governing Senate as a body overseeing judicial institutions in post-reform Russia // Law and Politics. 2007. No. 9. P. 110 (in Russ.).
- Fokov A. P. Towards the VII All-Russian Congress of Judges // Russ. judge. 2009. No. 1. P. 11 (in Russ.).
- Fokov A. P. On the disciplinary court presence // Russ. judge. 2010. No. 1 (in Russ.).
- Yudin A. V. Procedural aspects of the functioning of the Disciplinary Court Presence // Herald of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. 2010. No. 2. Pp. 40– 46 (in Russ.).
- Yakovlev A. E. Historical aspects of disciplinary responsibility of judges // Russ. Justice. 2007. No. 10. P. 68 (in Russ.).
- Yakovlev V. F., Semigin G. Yu. Commercial justice in Russia. Vol. 3. Legal settlement of economic disputes in the USSR. M., 2005. P. 166 (in Russ.).
Supplementary files