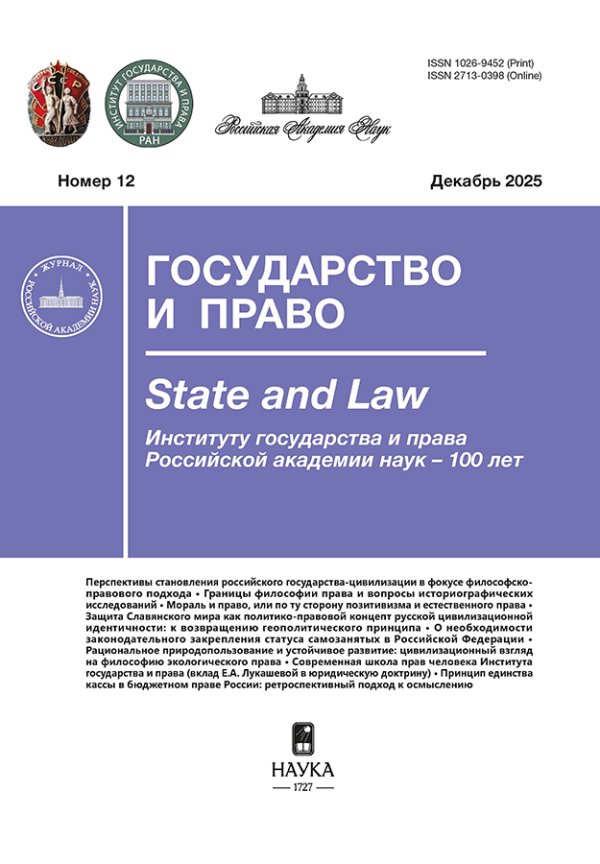Through the ages and times to the crisis understanding the essence of Criminal Law
- Authors: Bochkarev S.A.1
-
Affiliations:
- Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences
- Issue: No 9 (2024)
- Pages: 51-62
- Section: Philosophy of law
- URL: https://bakhtiniada.ru/1026-9452/article/view/270690
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026945224090048
- ID: 270690
Cite item
Full Text
Abstract
In modern jurisprudence, ideas about the crisis are usually associated with the state of law enforcement or law-making. To a lesser extent, crisis assessments relate to jurisprudence itself and its cognitive programs, which is most likely due to the high self-esteem of legal science of the results of its activities. At the same time, a critical analysis of the latter revealed that the basis of criminal law is the paradigm of cognition of social reality through the concepts of crime and punishment. Depending on their meaning, the law is given an appropriate semantic interpretation. It has come to the perception of criminal law as a framework term that only groups together more capacious concepts, norms and institutions. Taking into account the nature of the revealed problem, the purpose of the study was to clarify the reasons for the formation of the identified paradigm, as well as the factors that have supported its relevance for centuries. The achievement of this goal was facilitated by solving the tasks of identifying: the genesis of the paradigm and the determinants that feed it; the presence of its undeniable advantages and inevitable costs; the conformity of the evaluated concept with the nature of the crime and those values that are traditionally protected by Criminal Law. To achieve the intended goal and solve the tasks set, philosophical – axiological, ontological and epistemological – approaches, as well as general scientific (analysis, synthesis, induction, deduction) and sectoral (comparative legal, formal legal) methods are applied. As a result, it was revealed that the impetus for the formation of the studied paradigm was given by psychosomatic prerequisites. Its development was also influenced by the volitional concept of law, the adaptation of which led to the formation of a reflex science from Criminal Law. The absolutization of the volitional element has shifted the conscious factor to the background, which does not correspond to the nature of the crime and the values protected by law. The further exploitation of crime and punishment as the initial basis of Criminal Law and a source of knowledge about its ontological foundations has no prospects.
Keywords
Full Text
Формирование парадигмы и ее генезис
К началу XIX в. в зарубежном и отечественном научно-практическом мировоззрении сформировались ключевые представления о преступлении и наказании, в том числе об их основополагающем значении для уголовного права. Опыт формирования этого права как отрасли соответствующего законодательства оказался заразителен для юридической науки. Вслед за практикой в теории сложился алгоритм поиска сущности уголовного права через познание природы либо преступления, либо наказания.
В зависимости от выбора отправной категории ее объявляли источником знаний обо всем праве и развивали на его почве теорию, определяя цели, задачи и принципы этого права, значения терминологического аппарата. Как констатировал С. В. Познышев, «преступление, преступник и наказание в их соотношениях друг с другом, – вот сложный предмет изучения науки уголовного права» 1. Мечась между двумя категориями, специалисты на первый план научных изысканий помещают либо преступное деяние, по отношению к которому наказание является неизбежным следствием, либо карательную деятельность государства, рассматривающую преступное деяние как естественный повод и основание для ее реализации.
В отечественном правоведении тон задал И. Е. Нейман 2. В начале XIX в. исследование уголовного права он начал с изучения преступлений и наказаний. Его примеру последовали многие. С. М. Будзинский, в частности, объяснение права предварил раскрытием существа наказания и задался принципиальными, как он их оценивал для уголовного права, вопросами: «С какой целью исполняет оно карательную власть? Почему общество наказывает известные поступки, другие же оставляет ненаказанными? Какое начало руководит наложением наказаний, разных по существу и величине в различных случаях?» 3. Н. С. Таганцев не отнесся к этим вопросам как к первостепенным. В отличие от С. М. Будзинского в качестве первопредмета Общей части уголовного права он выделил преступное деяние 4. И. М. Наумов поступил иначе. Разделяя преступления против гражданских и уголовных прав, он счел, что исходным предметом изучаемого им права следует признавать не преступление, а «наказание лично гражданина…» 5.
Исследование истории развития понятий о преступлении и наказании в русском праве А. М. Богдановский начал с рассмотрения наказания. Он полагал, что термин «преступление» может быть только тогда ясно осознан, когда мы узнаем, какая точка зрения господствовала в то время по отношению к наказанию. «История уголовного права какого-либо народа, – утверждал юрист, – должна представить главным образом воззрение законодательства и народного права вообще на преступление и наказание и на взаимное между ними отношение…» 6. Аналогичного мнения придерживался И. Я. Фойницкий. Он утверждал, что «в область уголовного права входят право наказания и право его исполнения» 7.
Что с обозначенных пор изменилось? Если ничего, то означает ли это, что отрасль права во всех ее ипостасях верно определилась со своими основными феноменами, правильно выбрала направление в деле самопознания и своего практического развития? Если корректировка или отказ от прежде установленного образа права все же имели место быть, то на каком историческом этапе эти события произошли, в чем они выразились и как сказались на представлениях о преступлении, наказании и уголовном праве в целом?
История последующих эпох отвечает на поставленные вопросы. Она содержит предостаточно доказательств того, что в суть словосочетания «уголовное право» практически никто не углубляется. Известные примеры погружения обусловлены в основном историко-лингвистическим интересом. Большинство представлений ограничено описанием отдельных институтов этого права. Заявляют о науке, политике, социологии уголовного права, а на самом деле оценивают все те же преступление и наказание в их разных проявлениях. Значение отмеченных категорий, их содержание и смысловой потенциал специалистами абсолютизированы. Они считают, что феномены преступления и наказания составляют фундамент, на котором зиждется все здание уголовного права. С их помощью юристы подходят к уголовному праву и через их призму его рассматривают. Этим объясняется высокая актуальность посвященных преступлению и наказанию тем. Через их исследование каждый стремится засвидетельствовать факт соприкосновения с базовыми основаниями уголовного права.
Уголовное право практически не рассматривается как право, т.е. как правомочие. Оно не изучается с позиции своих субъектов: личности, общества и государства, их взаимоотношений в уголовно-правовой сфере, баланса интересов и тех ценностей, которые объединяют этих субъектов в данной области. В большинстве случаев тема субъектов отождествляется с проблематикой субъектов преступления либо наказания. Вместе с тем уголовное право вполне может рассматриваться как правомочие на жизнь, поскольку испокон веков охраняемые им ценности напрямую связаны с обеспечением жизнеспособности человека (ст. 105 УК РФ), общества (ст. 205 УК РФ) и государства (ст. 277–281 УК РФ). Даже тогда, когда речь не идет о жизни в буквальном смысле этого слова, уголовное право продолжает стоять на страже жизни (политической или экономической), так как иные ценности (например, свобода, собственности) минимально и базово необходимы для жизнедеятельности человека, общества и государства.
Несмотря на эту онтологическую нагрузку, значение словосочетания «уголовное право» нивелировано до рамочного термина, который группирует в себе более емкие понятия «преступление» и «наказание». Порой складывается ощущение, что уголовное право как нечто самостоятельное и содержательное не существует либо оно пока не возникло. Сложилась традиция характеризовать это право как нечто производное и вытекающее из более основных и важных отраслей права, придавать уголовно-правовой силе субсидиарный и вспомогательный характер.
В результате вся научно-теоретическая и практическая мысль, относящаяся к уголовному праву, оказалась между преступлением и наказанием как смыслообразующими категориями. В зависимости от их значения уголовному праву дается соответствующая смысловая интерпретация, определяется его функциональное предназначение и место в системе общественных отношений. За счет гипертрофированного преувеличения роли заявленных дефиниций «учение о преступлении, его структуре и способах описания заняло и занимает, – как свидетельствуют сами ученые, – одно из центральных мест в системе науки и учебной дисциплины уголовного права» 8. Кроме того, в уголовном праве видят все то, что имеет отношение к учениям о преступлении или наказании. Его функциональное назначение сведено до обеспечения взаимо связи между деянием и воздаянием.
Об успешности избранной методологической траектории говорят немногие. Ученым трудно признавать ошибки, но еще более трудно их выявлять в своей исследовательской практике. О ней можно судить по словам П. Сорокина. Спустя более ста лет после выхода в 1803 г. на русском языке трактата Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях» к числу традиционно и безуспешно обсуждаемых в науке тем мыслитель отнес вопросы, касающиеся категорий «преступление» и «наказание». «По их поводу, – как справедливо в 1913 г. отметил в своем сочинении П. А. Сорокин, – написаны сотни тысяч томов и имеется множество определений». Однако богатство определений до сих пор не привело к появлению общепризнанных понятий преступления и наказания 9. Спустя еще одну сотню лет Б. Дикристина подвел итог и заключил, что «со времен Просвещения ученые построили множество различных теорий права, преступления и наказания. Но, к сожалению, среди криминалистов мало согласия относительно качества этих теорий и мало оснований полагать, что консенсус будет достигнут в ближайшее время» 10. Иными словами, с давних пор мало что изменилось. По этому же поводу весьма точно, полно и исчерпывающе констатировала О. Л. Дубовик, отметив, что «проблемы преступления и наказания в истории человечества, в истории научной (философской, этической, правовой, культурологической) и религиозной мысли…» не перестали оставаться «перекрестком, на котором сталкиваются мнения, позиции, ценностные ориентации не только ученых, но и законодателей, политиков, граждан» 11.
Таким образом, более чем двухсотлетний опыт развития правовой мысли убедительно свидетельствует об отсутствии оснований для ожидания изменения обозначенной картины и достижения хотя бы некоторого прогресса. В связи с этим можно уверенно прогнозировать, что по итогам трехсотлетия будем констатировать прежние выводы, поскольку прежние познавательные пути исчерпали себя. При этом их исчерпанность не привела к корректировке или к изменению подхода в восприятии уголовного права. Представления о нем продолжают формироваться в пределах узкого смыслового коридора – с позиций либо одной, либо другой категории.
Примечательно, что по такому же маршруту шли и продолжают идти не только теоретики права. Несмотря на иную парадигму мировосприятия, по этой же дороге упорно движутся философы, социологи и историки уголовного права (Д. Э. Дюркгейм, П. А. Сорокин, А. Франк, С. И. Гессен и др.) 12. Благодаря их усилиям названная традиция славно пережила XX в. и продолжила свое доминирование в XXI в 13. Ее до сих пор придерживаются представители и романо-германской 14, и англосаксонской систем права. В «Оксфордском справочнике по юриспруденции и философии права» 15 основные вопросы философии уголовного права полностью ассоциированы с наказанием. Его основания сведены к трем концепциям, где наказание рассмотрено с позиции ретрибутивизма, консеквенциализма и опасности 16. В «Стэнфордской философской энциклопедии» за исходный тезис взято положение об уголовном праве как о преступлении, отличающем его от иных отраслей права 17.
Представляется, что смежные социальные дисциплины чрезмерно доверились науке уголовного права, которая наряду с ними активно формировалась в XIX в. и основывалась преимущественно на принципах эмпирикоцентризма. Именно в то время она громко, твердо и самоуверенно заявила о преступлении и наказании как о первопредметах своего интереса. Вслед за этими ориентирами безмолвно последовали иные дисциплины, не перепроверив их на достоверность.
Психосоматические предпосылки теории «преступления и наказания»
Таковы результаты вековых усилий коллективной гуманитарной мысли. Временной фактор, в течение которого она складывалась, отягчает участь всякого современника, пожелавшего посягнуть на достигнутые итоги и хоть в некоторой мере их пересмотреть. Большинство, и даже признанные мастера, действуют в лоне привычной парадигмы: «преступление – наказание» или «наказание – преступление» 18. Однако опыт становления уголовно-правовой мысли, как показали столетия ее развития, небезупречен. Сам по себе этот факт тревожит пытливый ум и служит ему поводом для рефлексии – экспериментального взлома традиционных представлений об отмеченных парах и выхода из их отраслевой логики. Например, для постановки вопроса о том, насколько были правы предшественники, когда отождествили уголовное право с преступлением и наказанием, а затем провозгласили о наличии «философии преступления» или «философии наказания». Либо для совершения еще более смелого шага и выдвижения тезиса о том, что уголовное право – это не только и не столько преступление и наказание. То есть обоснования гипотезы о наличии в этом праве более первостепенных и базовых аксиом – того, из чего конструируются собирательные категории «преступление» и «наказание», и того, что указывает на их производное происхождение.
Попытка обращения к опыту предшественников, с подачи которых сформировавшаяся теория достигла лоска и блеска, кажется лишенной смысла. Переоценка их суждений о генеральной роли для уголовного права феноменов «преступление» и «наказание», преобразовавшихся за прошедшие столетия в каноны этого права, кажется немыслимой. Но именно эта «немыслимость», как психологический барьер, препятствует осознанию и пониманию того, что канонизация категории «преступление», ее бракосочетание с термином «наказание» и интронизация их пары были осуществлены в эмоциональном порыве. Этот порыв обусловлен тем, что уголовное право как древнейшая отрасль права длительное время не могла терминологически самовыразиться и тем самым объективироваться. Она продолжительно существовала среди и внутри прочего нормативного регулирования и, если выражаться словами Аристотеля, находилась в потенциальном состоянии. Так происходило из-за отсутствия у нее нечто, отличаю щего ее от других норм и таких же потенциальных отраслей права. Если говорить о российском опыте, то наряду с иными отраслями уголовное право долгий период оперировало общеупотребимыми и, можно сказать, бытовыми категориями зла, греха, сорома, обиды, лихого дела, неправды, деликта и проступка.
Появление, в том числе благодаря усилиям Ч. Беккариа, термина «преступление» и его введение в социально-юридический оборот имело сильнейшее, прежде всего психологическое, воздействие на все гуманитарное и уголовно-правовое, в частности мировоззрение. Оно наконец-то овладело тем явлением, которое было сугубо его продуктом и символизировало, безусловно, большую самодостаточность. Отрасль обрела свою завершенность: и причину – преступление, и закономерное следствие – наказание. В этой теоретической завершенности преступление обозначено ее авторами как сущее, а наказание – как должное. С тех пор криминалисты убедили себя в том, что «преступление» и «наказание» составляют основные понятия уголовного права и исчерпывают собой чуть ли не все его содержание. Подшефная им дисциплина, иными словами, достигла диалектического единства, в котором преступление и наказание образуют разные, но взаимосвязанные полюсы уголовно-правовой организации общества, обеспечивающие его полноценную жизнедеятельность. В те же времена из рассматриваемого права без всякого рационального объяснения были вычеркнуты категории зла, греха, обиды и лихого дела, ранее составлявшие, как считали специалисты, неотъемлемую и исконную часть его понятийного аппарата и всего социального мировоззрения.
Для оправдания таких решений найдены разные причины. Некоторые категории признаны религиозными пережитками, другие – нравственными анахронизмами, третьи – чужеродными дефинициями иных отраслей права. Ученые без оглядки на прежний опыт все свое внимание обратили к преступлению и к познанию его природы как первоисточнику смысла и значений иных уголовно-правовых категорий. Хотя на деле, как уже было отмечено, понятие «преступление» до сих пор не обрело определенности. Прошло более 150 лет интенсивной работы криминалистов, но актуальность слов С. О. Богородского – профессора Императорского университета Св. Владимира – о преступлении как о «самом неопределенном понятии» сохраняется 19.
При этом складывается впечатление, что эмоция до сих пор довлеет над теорией права, поскольку практически никто за обнаружение и исследование «пылающих в них чувств» не взялся либо в принципе не усомнился в состоятельности построения представлений об уголовном праве на базе двух категорий и в допустимости их ассоциации друг с другом. Вместе с тем вскрытию психосоматических предпосылок сегодня способствует не психология или неврология, а гносеология. Именно эта дисциплина дает инструментарий для выявления и проверки рациональных оснований у рассматриваемой парадигмы. Она способна предложить эпистемологическое измерение исследуемых категорий и, после проведения с ними ряда эпистемологических операций, продемонстрировать отсутствие рационального фундамента и наличие одной лишь психосоматики.
Право и преступление как диалектика должного и недолжного
В частности, гносеология предлагает совершить экспериментальный «разрыв» дефиниций, их дистанцирование друг от друга, нестандартную расстановку в понятийном ряду и выдвинуть вопросы, наводящие на вполне определенные ответы. Эпистемологический взгляд ориентирует проверить на алогичность ранее сделанный учеными выбор, когда уголовное право было сведено к теории преступления, а затем философия без всяких сомнений ассоциирована с криминальным проступком, провозглашено о возможности и состоятельности философии преступления.
Во-первых, гносеологический подход обращает внимание на то, как наука увлеклась диалектикой «преступления и наказания», совсем позабыв о диалектике «права и преступления». Повсеместно отправной точкой при построении теории и философии уголовного права считают парные категории – «преступление» и «наказание». Полагают, что «одно без другого существовать не может. То же самое говорят и обо всем уголовном праве в целом. «Без “преступления” оно было бы беспредметным, без “наказания” – беззащитным»… Отсюда среди фундаментальных, системообразующих категорий теории уголовного права вторым по счету (но равноценным по значимости) после института преступления является институт наказания» 20.
Быть может, дело совсем не в забывчивости науки? Быть может, пара «право и преступление» подменена или замещена? Если это так, то для чего смена либо подтасовка была проведена? И каковы ее последствия? Замещение могло случиться, когда необходимость в праве у идеологов соответствующих доктрин отпала. Когда ими было гипертрофировано значение криминального акта и право ушло на второй план, став рассматриваться с узкоспециализированной позиции – учения о преступлении. То есть не преступление стало оцениваться с высоты права, а право – с надгробного постамента преступления. Можно, конечно, дальше выдвигать предположения, а можно констатировать, что современная юридическая наука подобные вопросы не актуализирует, не исследует и иных ответов на них не дает. Вопросы: «Что с обозначенными парами (“преступления и наказания”, “право и преступление”) понятий происходит? В какой взаимосвязи и корреляции они находятся?» остаются непоставленными и непроработанными.
Во-вторых, у гносеологии много весомых вопросов к допустимости отождествления уголовного права с преступлением как с тем, что лежит в мире неправа. Насколько разумно символом права провозглашать криминальный акт, т. е. то, что это право не признает и отменяет? Насколько обоснованно рассматривать право с позиции того, чего с точки зрения этого же права не должно быть? В конечном счете – насколько верно наставлять юридическую науку и философию познавать законы бытия через преступление как то, что направлено против бытия и ведет к его разрушению?
В этом контексте уместно встают вопросы и более широкого порядка. Например, насколько действенно искать в криминальном акте условия социального порядка и признаки его нарушения, с учетом того, что злоумышленник часто имеет либо слабые знания об этом порядке, либо индифферентен к нему или прямо противостоит ему? Насколько разумно, справедливо спрашивает В. М. Розин, по поводу порядка обращаться к праву, учитывая, что большинство конфликтов, как правило, «разрешается не в сфере права: люди договариваются между собой, обращаются к посредникам или общине, иногда просто избегают разрешать возникшую проблему (поскольку себе дороже)» 21. Насколько перспективно пытаться выводить из криминального акта «составы преступлений», как это наставляет делать современное учение о преступлении, если право связывает себя не с преступлением, а с охраняемыми благами (жизнью, свободой, собственностью, безопасностью т. д.)?
Ответы на поставленные вопросы не вызывают сомнений и напрашиваются сами – неоправданно, неразумно, необоснованно и т. д. С точки зрения права преступления не должно быть. Право ему противостоит и отменяет его как норму поведения, объявляет ничтожным и умаляет всякое значение. В связи с этим выглядит как минимум неблагоразумным искать основание права в том, что его отрицает или игнорирует. Однако нужно отметить, что эффект очевидности в этих вопросах достигается не сам собой. Он с легкостью появляется исключительно за счет имплементации в их контекст категории «должного», с чем имманентно связано право. Роль должного в праве выполняют охраняемые ценности. То есть те блага, из которых образуется социальное бытие и которые поэтому гарантированно должны в нем быть. Право имеет от них производное происхождение и значение. Право служит защищаемым ценностям и фактом поддержания их жизнедеятельности оправдывает собственное предназначение. В свою очередь, норма права проистекает не из криминального деликта, ничтожного по сути, а из опекаемого ею блага и должна создаваться по его образу и подобию. Если говорить точнее, то норма должна воспроизводиться не на самочувствии виновника, а на базе содержания защищаемой ценности (например, собственности) и совокупности условий, обеспечивающих ее жизнеспособность (нормальность).
Правда, всегда были и сейчас найдутся выступаю щие против должного. Таков подход позитивизма. Он постоянно выступает против любых форм идеализма и предлагает искать, выражаясь словами А. И. Герцена, «все великое значение наше при нашей ничтожности» 22. Последователи позитивизма предложат отречься от должного и укажут гносеологии на «серую реальность», где «люди погрязли в обмане и лжи…» 23. Где преступление не является каким-либо исключением и квалифицировано в качестве нормы поведения. Об этом, напомним, заявил еще Э. Дюркгейм, а многие криминологи (особенно постмодернисты) вслед за ним стали утверждать, что «нет никакого другого феномена, который обладал бы столь бесспорно всеми признаками нормального явления» 24. Они погрузились в сомнения и начали задаваться вопросом о том, является ли преступность нормой или патологией? 25
На самом деле постклассики вырвали фразу Э. Дюркгейма из текста. Затем в свойственной для себя манере переиначили идею мыслителя и приступили к повсеместному повествованию о нормальности преступности, которая в силу названного качества может быть самостоятельным объектом научного познания и философского осмысления. Услышав и превратно истолковав слова Э. Дюркгейма о преступности, которую «следует отнести к числу нормальных явлений…», у специалистов отпала необходимость в правовой нормальности, обремененной высокими идеалами и духовными ценностями, т. е. тем, что представляет собой должное. Зачем им придуманная на зыбкой почве права норма, если в наличии и под рукой всегда имеется норма, данная повседневным бытом, в том числе криминальным.
Уголовное право как рефлекторная наука
Из-за ненужности норм права отпала необходимость и в философии права. На ее месте возвели здание «философии преступления». Она воплотила собой дисциплину, занимающуюся познанием не криминала, а девиантного поведения. Предметом ее интереса стал не человек, а сами по себе отклонения в его поведении. На почве слов французского социолога об обществе, которое «без преступности совершенно невозможно…» 26, специалисты начали онтологизировать над деликтом, превратив право в целом и уголовное право в частности в поведенческую науку. Такой подход, отметим, соответствовал достижениям общеправовой парадигмы, построенной на позитивист ских установках. В ее рамках, по свидетельству А. Шопенгауэра, государство рассматривало каждого человека как лицо пассивное и обращало внимание только на его поступки. «Государство имеет дело только с действием, – с тем, что совершается; только совершившееся имеет для него реальное значение. Думать об убийстве государство никому не может запретить; ибо для того, чтобы воля не переходила к действию, есть у государства топоры и виселицы, против же мыслей и намерений оно бессильно» 27.
Крен в сторону волевого элемента привел к смещению на второй план сознательного момента. Доказательством тому служит учение о преступлении, в котором сознание как нечто самостоятельное не представлено. Оно встроено в конструкцию деяния, где ему среди прочих элементов отведено рядовое место в составе субъективной стороны преступления. В результате не преступление рассматривается с высоты сознания, а сознание оценивается с позиции волевого акта. Сознание и знание о нем востребовано лишь в том объеме, в каком это необходимо для объяснения механики криминального поведения. В этом плане учение о преступлении, а через него и все уголовное правоведение можно небеспочвенно отнести к одному из направлений бихевиоризма, изучающего все поведение с позиции рефлексов и реакций на определенные стимулы в среде.
Еще одним доказательством возвеличивания волевого элемента и нивелирования сознания выступает теория квалификации преступления, имею щая ключевое значение в практической деятельности органов юстиции. Согласно определению В. Н. Кудрявцева, «квалифицировать – значит относить некоторое явление по его качественным признакам, свойствам к какому-либо разряду, виду, категории. В области права квалифицировать – значит выбрать ту правовую норму, которая предусматривает данный случай, иными словами – подвести этот случай под некоторое общее правило. Квалифицировать преступление – значит дать ему юридическую оценку, указать соответствующую уголовно-правовую норму, содержащую признаки преступления» 28.
Это определение, как следует из его содержания, переполнено глаголами. Каждая часть дефиниции содержит указание на действие. Правоприменителю надлежит «отнести», «выбрать», «предусмотреть», «подвести», «дать», «оценить», «указать» и т. д. Определение и раскрывающее его учение не отвечают на вопросы о том, как правоохранитель должен «отнести» некоторое явление к какому-либо разряду; каким образом «выбрать» правовую норму; каким способом «предусмотреть» данный случай и «подвести» его под общее правило; за счет чего «дать» юридическую оценку и с помощью каких средств «указать» на уголовно-правовую норму, соответствующую признакам преступления.
В дефиниции правоведа, как видно, акцент сделан на волевые акты. Процесс квалификации у него полностью ассоциирован с обезличенным набором действий. Только в одном случае ученый сослался на «изучение» обстоятельств дела, которое в некоторой мере можно связать с ушедшим на второй план сознательным элементом. Вовлеченность сознания в процесс квалификации и способность его влияния на эту процедуру не отмечается. Как будто рассматриваемый процесс совершается неким машинальным способом. Как будто процесс квалификации совершается вне сознания, без сознания и не для сознания как для единственно истинного субъекта правоведения, правотворчества и правоприменения. Как будто установление признаков преступления осуществляется без знания о запрещающем его законе, вне знания о событии происшествия и не для получения знания о наказуемости лица. Как будто возможно что-либо определить в юридическом пространстве и тем более квалифицировать без применения средств познания личности виновного и его отношения к содеянному, без изучения объекта посягательства и степени его значения для общества. Или как будто теория и все законодательство не являются результатом познания социальной реальности.
На фоне обозначенных «как будто» многое проясняется. Прежде всего то, что в дефинициях, выполненных по правилам волевой теории, упущен факт зависимости процесса квалификации не только от череды действий, порожденных мускульным движением и центробежным нервным током, но и от того, кто их совершает, каким он располагает знанием и какие методы познания применяет на месте происшествия. Становится также очевидным, что в уголовном правоведении до сих пор сильны позиции Э. Ферри. Он утверждал, что «человек действует так, как он чувствует, а не так, как он думает». Более того, ученый не видел разницы между человеком и животным, в связи с этим предлагал искусственно не привносить ее в право. «Тут не может быть и речи, – настаивал мыслитель, – об исключительной привилегии человечества, о вмешательстве силы нравственной свободы, которая являлась бы чудесным исключением в общем строе происходящих в мире деятельностей» 29.
Право и Жизнь
Ограниченный потенциал волевой теории и порочность основанных на ней правовых концепций постепенно признается. Прославленная человеческая воля, отмечал Г. В. Мальцев, не все может и не на все способна, чем «обесценивает многие иллюзии и предрассудки нашего времени, особенно те, которые сложились давно под влиянием веры в могущество воли и духа человека» 30. За пределами действующей концепции воли, подтверждал Д. А. Керимов, «остается множество поведенческих актов и сопровождающих их психических состояний, имеющих весьма существенное значение, в особенности для правоведения и юридической практики» 31. Из них «“ускользнуло” самое важное и наиболее сложное, а именно: процесс трансформации (“оборачиваемости”) переживаний в сферу, или, как принято ныне выражаться, “правовой механизм” этого процесса. Этот тонкий “механизм” еще ждет своего тщательного исследования» 32.
Но дальше констатации необходимости пере оценки воли юристы не пошли. Они не предложили варианты замещения того научно-познавательного пространства, которое высвобождается в результате сжатия «раздутых» представлений о воле. Вместе с тем опыт показывает, что криминал продолжает пробиваться в жизнь, проявляться и существовать в ней в разных формах, даже укрепляться и процветать, массово восприниматься в качестве ее неотъемлемой части. Эта настойчивость и целенаправленность свидетельствует о сознательности и избирательности большинства проявлений криминала. Наличие упомянутых качеств обуславливает необходимость поиска связи – в первую очередь между сознаниями виновного и потерпевшего, а затем уже между их волевыми актами. Здесь уголовно-правовая наука должна отступить от провозглашенного А. Шопенгауэром принципа и начать исследовать не только действие, но и мысль человека каким бы сложным этот процесс ни оказался. Именно мыслью человек отличается от животного.
Иначе говоря, потребность в более глубокой и пристальной работе с сознанием вытекает из природы самого преступления и преступности в целом. Они существуют не в биологической или физиологической данности, а в мире человеческих ценностей. Названные данности, конечно, никто не отменял, но их присутствие в системе распознавания «преступление – не преступление» вторично и фоново. Эта система, или точнее система ценностей, формируется исключительно на уровне сознания и за счет его же механизмов поддерживается в актуальном состоянии. Именно аксиологические императивы, несмотря на укорененное положение преступления в жизни, не отменяют его деструктивного существа и не легализуют в социуме. Оно продолжает находиться в статусе непрошеного и изгоняемого гостя, поскольку не порождает, а подрывает или вовсе уничтожает жизнь.
На необходимость обращения к сознанию указывает не только преступление, но и ценности, охраняемые уголовным правом. Испокон веков и до сих пор защищаемые правом блага в основополагающей своей части не менялись и всегда мотивировали индивида двигаться по цивилизованному пути созидания, предпосылая его и все общество к становлению Человеком и Человечеством. В предуготовленном и наличном виде этих ценностей никогда не было. Например, уважение к чужой жизни, свободе и собственности не возбуждается витально и не удовлетворяется физиологически. Такого рода идеалы могут только мыслиться человеком и через духовное освоение прививаться ему, а в последующем поддерживаться в нем на достаточном уровне за счет его нравственного усердия и правового старания, чтобы не скатиться к криминальному насилию как способу социального бытия.
Схожего убеждения придерживался Э. Дюркгейм, объяснявший наличие преступности «существованием неискоренимого злонравия людей». Социолог высказался о нетерпимости к преступности, которую нужно уголовными законами поддерживать в обществе на уровне для минимизации криминальной активности. «Для того чтобы исчезли убийства, – писал мыслитель, – отвращение к пролитию крови должно стать большим в тех социальных слоях, из которых рекрутируются убийцы; однако прежде всего это отвращение должно с новой силой охватить все общество в целом» 33.
Несмотря на очевидную и банальную разнополярность права и преступления, теории обоих феноменов умудряются не замечать их диаметральную противоположность и длительное время продолжают выстраивать уголовное право на учениях о преступлении и о наказании как его основных постулатах. На таком подходе, надо полагать, сказалось стремление его авторов сделать теорию максимально реалистичной, в результате чего была утрачена связь с должным как с нечто отвлеченным. Вместе с тем должное и реальное (сущее) не есть нечто разнородное и несвязное. Они взаимообусловлены жизнью. В жизни должное рождается вместе с реальностью и для реальности. Сразу после появления должное противопоставляется реальности для того, чтобы она не превратилась в нереальность и не ушла в небытие.
Жизнь на основе печального опыта и с помощью неравнодушного мышления выделила в себе «должное», под которым подразумевается «мир без преступления». Затем жизнь вверила этот идеальный мир уголовному праву для сохранения жизни и производных от нее жизненных благ. По этой причине убийство низвергает не только жизнь в ее физиологическом эквиваленте. Оно также попирает право, которое жизнь утверждает вместе с собой в качестве своего нетленного символа. Она оставляет право вместо себя для провозглашения и закрепления первоценности жизни как элементарной и фундаментальной истины. В целях охраны зарождающейся и развивающейся жизни, а также в память о безвременно и невинно ушедшей жизни право остается в социальном бытии, где на символическо-практическом уровне заявляет о ее непоколебимости и метазначимости для всего мироздания.
* * *
Таким образом, только за счет введения в различные юридические концепции «должного» очевидное в праве становится действительно зримым. Начинает просматриваться, что криминальный акт, несмотря на обладание им «постоянной прописки», пока еще не добился повсеместного и общественного признания. Продукты его производства – убийство, изнасилование или терроризм – в цивилизованных обществах не считаются нормой жизнедеятельности. Но расслабляться нельзя. Преступное в человеке и преступность в социуме не оставляют стремлений расширить пределы влияния, продолжают борьбу за существование и за полное покорение своих носителей, их сознания. В этом плане жизнь последних представляет собой перманентную тяжбу за должное как нравственно-правовой идеал – ориентир для индивидуального и общественного сознания. То есть за то, каким этому должному быть и в каком направлении вслед за ним развиваться сознанию.
Все сказанное свидетельствует, что преступление – это не только и не столько статическая данность, зафиксированная законодателем. Оно есть прежде всего и всегда особенное состояние сознания, допускающее обращение к крайним формам поведения, которые, как правило, несовместимы с жизнью. Диапазон этих форм подвижен и зависим от социального мировоззрения. Преступное продолжит оставаться в нем «непрошеным гостем» до тех пор, пока индивид не перехочет посвящать свою жизнь становлению Человеком. Современный опыт, правда, показывает, что озвученное условие, традиционное по характеру и нравственно-правовое по природе, является не единственным. С позиции протекающих в западном обществе тенденций и экспериментов (в сферах, например, мультикультурализма, генетики и гендера) к названному условию можно добавить еще два. Преступление сохранит свой статус, если индивид не утратит способность рождаться человеком и не забудет о своей принадлежности к человеческому роду. При изменении названных обстоятельств преступление и его субъект вполне могут стать источником представлений о должном и норме поведения.
1 Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть. 2-е изд. М., 1912. С. 1.
2 См.: Нейман И. Начальные основания уголовного права. СПб., 1814.
3 Будзинский С. Начала уголовного права. Варшава, 1870. С. 5, 6.
4 См.: Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая. Тула, 2001. Т. 1. С. 27.
5 Наумов И. М. Разделение преступлений против права гражданского и против права уголовного. СПб., 1813. С. 7.
6 Богдановский А. Развитие понятий о преступлении и наказании в русском праве до Петра Великого. М., 1857. С. 2.
7 Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2000.
8 Жалинский А. Э. Современные проблемы развития учения о составе преступления // Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью. Первые Кудрявцевские чтения к 85-летию со дня рождения В. Н. Кудрявцева. М., 2009. С. 124.
9 См.: Сорокин П. А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали / вступ. ст., сост. и прим. В. В. Сапова. М., 2006. С. 128.
10 Dicristina B. The Epistemology of Theory Testing in Criminology // Philosophy, Crime, and Criminology / ed. by A. A. Bruce and R. W. Christopher. University of Illinois, 2006. Р. 134 (Critical Perspectives in Criminology. ).
11 Дубовик О. Л. Фундаментальное исследование преступления и наказания в истории и культуре России (Рецензия на книгу: Наумов А. В. Преступление и наказание в истории России. В 2 ч. М.: Юрлитинформ, 2014. Ч. I. 752 с., Ч. II. 656 с.) // Политика и общество. 2014. № 6. С. 651–658.
12 См.: Durkheim Émile. On the division of labor in society: being a translation of his De la division du travail social. 1933; Франк А. Д. Философия уголовного права в популярном изложении / пер. с франц. Д. Слонимского. СПб., 1868; Гессен С. И. Философия наказания // Логос. М., 1912–1913. Кн. 1, 2.
13 См.: Поздняков Э. А. Философия преступления. М., 2001; Кургузкина Е. Б. Понимание преступного // Философские нау ки. 2008. № 5. С. 77–92; Александров А. И. Философия зла и философия преступности. СПб., 2013; Рагимов И. М. Философия преступления и наказания. СПб., 2013; Философия уголовного права / сост., ред. и вступ. ст. Ю. В. Голика. СПб., 2004. С. 9–11.
14 См.: Günther L. Die Idee der Wiedervergeltung in der Geschichte und Philosophie des Strafrechts: ein Beitrag zur universal-historischen Entwicklung desselben; in 3 Abteilungen 1966, Scientia Verlag in German / Deutsch; Josef Popper-Lynkeus. Philosophie des Strafrechts. 1924, R. Löwit in German / Deutsch; Juljusz Makarewicz. Einführung in die Philosophie des Strafrechts auf entwicklungsgeschichtlicher Grundlage. 1906, F. Enke in German / Deutsch.
15 The Oxford Handbook of Philosophy of Criminal Law / J. Deigh and D. Dolinko (eds.). Oxford, 2011.
16 The Philosophy of Criminal Law // The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law / ed. by J. L. Coleman, K. E. Himma and S. J. Shapiro. 2004. Jan.
17 Duff A. Theories of Criminal Law // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2013 Ed.) / E. N. Zalta (ed.). URL: https://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/criminal-law/
18 Наумов А. В. Преступление и наказание в истории России: в 2 ч. М., 2014.
19 См.: Богородский С. О. Очерк истории уголовного законодательства в Европе с начала XVIII века. Киев, 1862. Т. 1. С. 13.
20 Коробеев А. И. Отзыв на книгу профессора И. М. Рагимова «О нравственности наказания» // Рагимов И. М. О нравственности наказания / пред. Х. Д. Аликперова. СПб., 2016. С. 214.
21 Розин В. М. Проблемы преступности на фоне кризиса права и социальности // Философские науки. 2008. № 8. С. 41.
22 Герцен А. И. Былое и думы. Часть шестая. Англия (1852– 1864). С. 43.
23 Лагутова А. С. Серая реальность. URL: https://stihi.ru/2021/10/12/6535 (дата обращения: 06.11.2022).
24 Дюркгейм Э. Норма и патология // Рубеж. Альманах социальных исследований. 1992. № 2. С. 82.
25 См., напр.: Поздняков Э. А. Указ. соч. С. 435.
26 Дюркгейм Э. Указ. соч. С. 83.
27 Шопенгауэр А. Изречения. Афоризмы житейкой мудрости / пер. с нем. Ф. Черниговец, Р. Кресин. Минск, 2011. С. 400.
28 Кудрявцев В. Н. Избр. труды по социальным наукам: в 3 т. М., 2002. Т. 1. С. 237.
29 Ферри Э. Уголовная социология. М., 1908. С. 296.
30 Мальцев Г. В. Социальные основания права. М., 2013. С. 203.
31 Керимов Д. А. Избр. произв.: в 3 т. М., 2007. Т. 2. С. 228.
32 Там же.
33 Дюркгейм Э. Норма и патология // Социология преступности (современные буржуазные теории). М., 1966. С. 39–44.
About the authors
Sergey A. Bochkarev
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: bo4karvs@yandex.ru
Doctor of Law, Chief Researcher
Russian Federation, 10 Znamenka str., 119019 MoscowReferences
- Aleksandrov A. I. Philosophy of evil and philosophy of crime. SPb., 2013 (in Russ.).
- Bogdanovsky A. The development of concepts of crime and punishment in Russian law before Peter the Great. M., 1857. P. 2 (in Russ.).
- Bogorodsky S. O. An essay on the history of Criminal Law in Europe since the beginning of the XVIII century. Kiev, 1862. Vol. 1. P. 13 (in Russ.).
- Budzinsky S. The beginning of Criminal Law. Warsaw, 1870. Pp. 5, 6 (in Russ.).
- Herzen A. I. The past and the Duma. Part six. England (1852–1864). P. 43 (in Russ.).
- Hessen S. I. Philosophy of punishment // Logos. M., 1912– 1913. Books 1, 2 (in Russ.).
- Dubovik O. L. Fundamental research of crime and punishment in the history and culture of Russia (Book review: Naumov A. V. Crime and punishment in the history of Russia. In 2 parts. M.: Yurlitinform, 2014. Part I. 752 pp., Part II. 656 pp.) // Politics and Society. 2014. No. 6. Pp. 651–658 (in Russ.).
- Durkheim E. Norm and pathology // The frontier. The Almanac of Social Research. 1992. No. 2. Pp. 82, 83 (in Russ.).
- Durkheim E. Norm and pathology // Sociology crime (modern bourgeois theories). M., 1966. Pp. 39–44 (in Russ.).
- Zhalinsky A. E. Modern problems of the development of the doctrine of the composition of crime // Modern problems of the theory and practice of combating crime. The first Kudryavtsev readings for the 85th anniversary of the birth of V. N. Kudryavtsev. M., 2009. P. 124 (in Russ.).
- Kerimov D. A. Selected works: in 3 vols. M., 2007. Vol. 2. P. 228 (in Russ.).
- Korobeev A. I. Review of the book by Professor I. M. Ragimov “On morality punishments” // Ragimov I. M. On the morality of punishment / preface H. D. Alikperov. SPb., 2016. P. 214 (in Russ.).
- Kudryavtsev V. N. Selected works on social sciences: in 3 vols. M., 2002. Vol. 1. P. 237 (in Russ.).
- Kurguzkina E. B. Understanding the criminal // Philosophical sciences. 2008. No. 5. Pp. 77–92 (in Russ.).
- Lagutova A. S. Gray reality. URL: https://stihi.ru/2021/ 10/12/6535 (accessed: 06.11.2022) (in Russ.).
- Maltsev G. V. Social foundations of law. M., 2013. P. 203 (in Russ.).
- Naumov A. V. Crime and punishment in the history of Russia: in 2 parts. M., 2014 (in Russ.).
- Naumov I. M. Separation of crimes against Civil Law and against Criminal Law. St. Petersburg, 1813. P. 7 (in Russ.).
- Neiman I. The initial foundations of Criminal Law. St. Petersburg, 1814 (in Russ.).
- Pozdnyakov E. A. Philosophy of crime. M., 2001. P. 435 (in Russ.).
- Poznyshev S. V. The basic principles of the science of Criminal Law. The General part. 2nd ed. M., 1912. P. 1 (in Russ.).
- Ragimov I. M. Philosophy of crime and punishment. SPb., 2013 (in Russ.).
- Rozin V. M. Problems of crime against the background of the crisis of law and sociality // Philosophical Sciences. 2008. No. 8. P. 41 (in Russ.).
- Sorokin P. A. Crime and punishment, feat and reward: a sociological study on the main forms of social behavior and morality / introductory article, comp. and note by V. V. Sapov. M., 2006. P. 128 (in Russ.).
- Tagantsev N. S. Russian Criminal Law. The part is common. Tula, 2001. Vol. 1. P. 27 (in Russ.).
- Ferry E. Criminal sociology. M., 1908. P. 296 (in Russ.).
- Philosophy of Criminal Law / comp., ed. and introduction by Yu. V. Golik. SPb., 2004. Pp. 9–11 (in Russ.).
- Foynitsky I. Ya. The doctrine of punishment in connection with prison studies. M., 2000 (in Russ.).
- Frank A. D. Philosophy of Criminal Law in a popular presentation / transl. from French by D. Slonimsky. St. Petersburg, 1868 (in Russ.).
- Schopenhauer A. Sayings. Aphorisms of everyday wisdom / transl. from German by F. Chernihiv, R. Kresin. Minsk, 2011. P. 400 (in Russ.).
- Dicristina B. The Epistemology of Theory Testing in Criminology // Philosophy, Crime, and Criminology / ed. by A. A. Bruce and R. W. Christopher. University of Illinois, 2006. Р. 134 (Critical Perspectives in Criminology).
- Duff A. Theories of Criminal Law // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2013 Ed.) / E. N. Zalta (ed.). URL: https://plato.stanford.edu/archives/sum2013/ entries/criminal-law/
- Durkheim Émile. On the division of labor in society: being a translation of his De la division du travail social. 1933.
- Günther L. Die Idee der Wiedervergeltung in der Geschichte und Philosophie des Strafrechts: ein Beitrag zur universalhistorischen Entwicklung desselben; in 3 Abteilungen 1966, Scientia Verlag in German / Deutsch.
- Popper-Lynkeus J. Philosophie des Strafrechts. 1924, R. Löwit in German / Deutsch.
- Makarewicz J. Einführung in die Philosophie des Strafrechts auf entwicklungsgeschichtlicher Grundlage. 1906, F. Enke in German / Deutsch.
- The Oxford Handbook of Philosophy of Criminal Law / J. Deigh and D. Dolinko (eds.). Oxford, 2011.
- The Philosophy of Criminal Law // The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law / ed. by J. L. Coleman, K. E. Himma and S. J. Shapiro. 2004. Jan.
Supplementary files