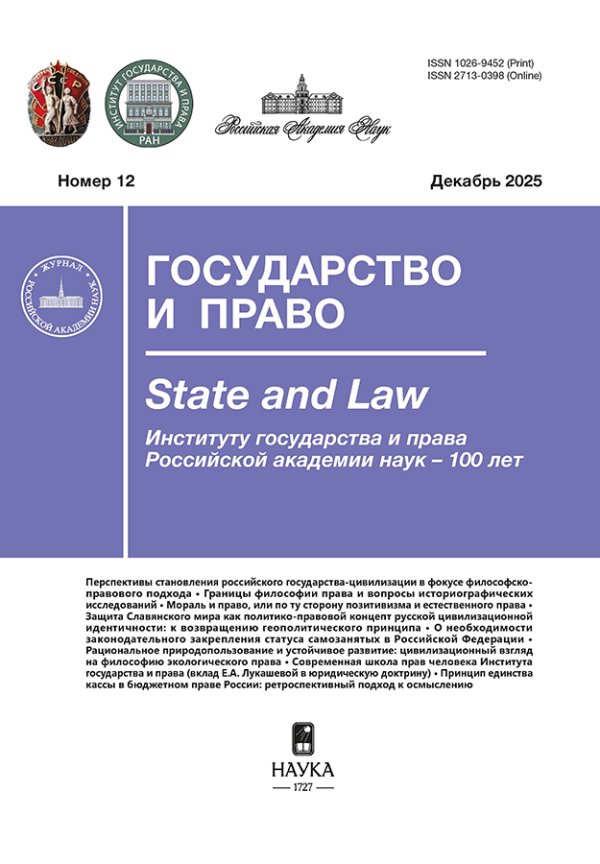The philosophy of criminal law to be
- Authors: Bochkarev S.A.1
-
Affiliations:
- Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences
- Issue: No 8 (2024)
- Pages: 94-103
- Section: Discussions and debates
- URL: https://bakhtiniada.ru/1026-9452/article/view/267596
- DOI: https://doi.org/10.31857/S1026945224080092
- ID: 267596
Cite item
Full Text
Abstract
The actualization of the stated issue is due to the widespread dissemination and recognition of judgments about the uselessness of philosophy for branch juris-prudence. The rooting of such reflections in criminal law has led to the need to verify their validity and the reasons for their appearance. The subject of clarification also be-came the consequences for science and practice as a result of the rejection of philosophy. According to the results of the study, it was revealed that the denial of philosophy is not associated with abstraction and abstraction as its inherent properties. Distancing oneself from it is a sure sign of the pathology of criminal law thought itself, based on the principles of positivism. Philosophy is often used by science to cover its own abstraction from reality and to conceal the presence of this anomaly in its ranks. The detachment from philosophy actually hides one of the forms of the departure of jurisprudence from reality and from man as its creator.
Full Text
Введение
Специалисты по-разному отвечают на поставленный вопрос. Разнообразие их мнений широко и порой диаметрально противоположно. Но несмотря на разброс позиций взгляды ученых тем не менее поддаются классификации. Их можно подразделить на три группы. Одна из них включает позиции тех, у кого философия не нужна и вредна для уголовного права. Другая представлена подавляющим большинством с его индифферентным отношением к философии. Она воспринимается им не более как дополнение к теории одноименной отрасли права. Для третьих философия нужна, но ее появление на горизонте научной мысли пока еще не просматривается.
Любопытны взаимоисключающие взгляды. Они, нужно отметить, появились не сегодня. Имеют давнюю историю, начало которой хронологически совпадает с периодом становления науки. Что стоит за этим совпадением – случайность или закономерность – предстоит выяснить для понимания генезиса критического отношения юридической науки к философии, которое к тому же от эпохи к эпохе не претерпевает существенного изменения. В качестве отправной точки трудно найти более содержательной дискуссии, которая состоялась по обозначенной теме два века назад между немецкими учеными-юристами – К. Труммером и К. Велькером. В рамках их диалога К. Велькер отстаивал позицию о том, что философия для уголовного права «не нужна и вредна», а К. Труммер – «нужна, но пока еще не видна»1. Их заочная беседа тем ценна, что позволяет оценить уровень эволюции взглядов, сформировавшихся два столетия назад, степень отличия от них современной научной мысли и ее прогресса.
«Не нужна и вредна»
О философии К. Велькер высказался при изучении института наказания, с которым специалист твердо связывал существо уголовного права. C точки зрения ученого, познанию цели наказания препятствует: 1) чрезмерный отрыв науки от опыта, 2) значительная зависимость всей теории права и государства от постоянно меняющихся философских систем, 3) и лишенность этих систем объективной достоверности, высшим и священным значением для человека. «Дело доходит, – писал ученый, – до сплющивания здоровой жизни посредством изобретения чистой теории закона и государства, или утверждения субъективных взглядов и чувств…»2.
По прошествии двухсот лет такого рода суждения не утратили свою востребованность. Они повсеместно звучат и сегодня. Почему это происходит и каковы у названной точки зрения предпосылки? Мы по каким-то причинам не задаемся такими вопросами. Не интересуемся и тем, был ли прав К. Велькер и оправдана ли его позиция сегодня? Чем измерил он отрыв науки от опыта и тем более как нащупал его чрезмерность? Какими средствами юристы измеряют эти «отрывы» и их «чрезмерности» в современных условиях? И какое отношение к этим процессам имеет философия? Или никакой оценки степени «отрывности» со стороны К. Велькера не производилось, а имело место субъективное восприятие, которое ученый выдал за данность, вольно или невольно оклеветав философию?
Все основания, считал И. Кант, для постановки и разрешения названных вопросов имелись. Он один из немногих мыслителей, кто обнаруживал не только частоту упреков, но и чрезмерность в деле обвинения философии «в туманности или даже намеренной неясности…». Данное обстоятельство побудило философа разобраться в причинах соответствующего обвинения. С его разбора он начал, когда приступил к изложению своей «Метафизики нравов». По итогам заключил, что замечания подобного рода сыплются в адрес философии в основном со стороны науки. Последняя не жалеет укоров, т. к. является одним из ключевых объектов философского осмысления. От этого пристального взора наука испытывает неудобство, т. к. теряет право на высокомерие и претензию на самодостаточность. Под влиянием критического осмысления философии науке необходимо «исправляться и развиваться»3, – отмечал И. Кант.
Сегодня специалисты не идут по пути мыслителя и не задаются поставленными им вопросами. Тем не менее они продолжают порицать философское знание, «высекая» тем самым себя. Через регулярные и рефлекторные упреки в непрактичности имеющихся или разрабатываемых учений они не подпускают себя к философскому опыту из-за опасения ухода в некую теоретическую пустоту. Одни, например, настолько давно касались философского наследия, что сегодня утратили с ним всякую связь. Позабыли его содержание, предназначение и потенциал, тем более в кризисные времена. В связи с этим относят к невероятным сценариям включение метафизического опыта, образующего собой крупнейший и ключевой раздел философии, в состав уголовно-правового знания4. Они «далеки от мнения о том, что метафизику следует всерьез принимать во внимание при изучении проблем уголовного права и нарочно “притягивать” ее к этому процессу»5. Аналогичные оценки у них заслуживают и герменевтика, и синергетика как новые философские учения. «Философская рефлексия, – убеждены они, – не способна проникнуть в глубинные проблемы уголовно-правовой материи. Поэтому “состояние” уголовного права так и остается тайной для философии». Для раскрытия искомой глубины, считают криминалисты, юридический позитивизм является более приемлемым базисом, поскольку «построен на понятных юридических конструкциях и принципах, позволяющих адекватно решать с помощью уголовно-правовых средств социальные конфликты»6.
Другие правоведы допускают существование философии права и ее аспектов, но отрицают возможность философии уголовного права или философии гражданского права7. Третьи – не отвергают необходимость в философии права, но констатируют наступление ее существенной девальвации как целостного знания о праве. На основе непопулярности этого знания в современной социогуманитарной парадигме задаются вопросом: «Зачем философия права сегодня?». Критически относятся к партикуляризации философии права «на множество отдельных отраслевых философий права – философия уголовного права, философия гражданского права и т. п., в которых философия ставится в подчиненное положение по отношению к догматической части соответствующей правовой науки»8.
Четвертые – на исследовательском уровне не отрицают полезность философии, но используют ее в весьма ограниченных объемах. В основном вспоминают о ней в справочном и историографическом плане. То есть заводят о ней речь тогда, когда обнаруживают, что та или иная тема исследовалась на безбрежных философских полях. Здесь скорее имеет место фрагментарное заимствование и упоминание9. До философско-правового сплава дело не доходит. Юристы, как верно подметила Т. В. Досюкова, «к философии прибегают в основном только когда нужно выяснить природу какого-либо понятия или, хуже, когда нужно указать диалектический метод в разделе “Методология и методика исследования” в качестве якобы использовавшегося в диссертационном исследовании»10. Пятые – на учебно-образовательном уровне отказались от примера предшественников, сопровождавших в дореволюционный период каждое пособие погружением читателя в философские основы дисциплины. По их мнению, достаточно, чтобы обучаемые для овладения уголовным правом умели пользоваться историческими, статистическими и социологическими данными.
Аргументы об изгнании философии из источников научного знания неотъемлемо сопровождаются упреками о нехватке в ней реализма. Здесь, правда, нужно оговориться о том, что в самом правоведении имеются значительные сложности во взаимодействии с реальностью и с пониманием сути реализма. С одной стороны, как отмечает В. С. Груздев, «реализм приобрел характер сознательной гносеологической стратегии, которая опирается на реалистические аргументы как на средства проблематизации, опредмечивания, оформления и разъяснения права». С другой стороны, современный правовой эмпиризм предлагает сегодня такой реализм, при котором проблема права как таковая отменяется. Он объявляет непригодными для «“новой” онтологии права любые традиционные понятия и структуры правопознания и правопонимания, такие как правопорядок, правовая система, юридическая сила, законность и т. д.»11.
Вышеприведенная картина в анналах самого права показывает, что проблема взаимообусловленности с реальностью, если таковая действительно существует, не имеет сугубо философской принадлежности. Она в равной степени относится к праву и не в меньшей мере касается всех дисциплин социально-гуманитарного направления. Затрагивает эта тема и естественные науки. Известна, например, разница между физиком-теоретиком и физиком-экспериментатором, на которую в свое время обратил внимание и объяснил А. Эйнштейн12.
Еще один аргумент, который выставляется против философского опыта, состоит в не функциональности философско-правового синтеза. На общетеоретическом и исследовательском уровнях отмечается, что мировая юридическая наука, несмотря на обладание совокупностью «разнообразных познавательных моделей и подходов философского, теоретического, социологического, психологического или политического характера, вынуждена сегодня в основном приспосабливаться к темпам и результатам трансформации многих жизненных процессов, технологическим новшествам и революционным сдвигам, брожениям социокультурной среды…»13. То есть обозначается, что неюридические методы и науки не слишком помогают правоведению поддерживать свою состоятельность и актуальность. Оно всякий раз отстает от жизни, не поспевает за ее ритмами, тенденциями и виражами.
Однако при выдвижении такого рода обвинений не учитывается, что дело может быть не в инородных подходах и в их бесполезности. Они выступают лишь безмолвными инструментами в руках юристов. Проблема может состоять в самой юриспруденции, в чувствительности и рефлективности ее субъектов, неумело применяющих на практике философские и иные методы. Упускается из виду и еще ряд риторических вопросов. Если наука пренебрегает подходами других отраслей знания так, как она относится к философскому опыту, то можно ли ожидать от нее прозорливости, практичности и оперативности? Можно ли ожидать от нее вовлеченности в жизнь и оживленного в ней поведения, если правоведение дистанцируется от иных сфер науки так, как от философии? Ответы кажутся очевидными, но, как показывает опыт конкретных отраслей права, далеко не явными.
Схожие оценки связи отраслей права с реальностью и с философским знанием даются в специализированных источниках. В. В. Лунеев, в частности, поднимал проблему низкого уровня взаимосвязи наук уголовно-правового цикла и реальных криминологических процессов, протекающих в обществе14. По его мнению, юридическое, нормативистское представление практически не имеет отношения к действительности. Оно развивается преимущественно по догматическому направлению, без статистической и социологической информации о повседневности. Еще более резкому осуждению подвергаются попытки философского осмысления соответствующих отраслей права. Философия и теория права, по убеждению ученого, «благодаря отраслевым наукам развиваются в плане абстрактных либертарных суждений, не опираясь на какие-либо реалии. При этом юрист вывел философию из состава фундаментальной науки. Последняя, по его мнению, изучает правоприменение и занимается толкованием норм. Но главной задачей является «изучение эффективности применения на основе исследования не столько самих норм, сколько фактических реалий, которые складываются на основе действующего законодательства»15.
Все эти суждения не оставляют сомнений в том, что мысль К. Велькера до сих пор жива и имеет своих последователей. Философия как в прошлом отрывалась от права, так и в настоящем целенаправленно изгоняется из знания о праве. Здесь, правда, нужно отметить, что отрыв философии от права всегда происходил либо эволюционным, либо революционным путем. Разница между этими процессами незначительная и весьма условная, поскольку и одна, и вторая траектория в конечном счете ведет к дистанцированию дисциплин друг от друга. Вместе с тем причины разобщения у них разные.
Если имеем в виду позицию К. Велькера и его современных сторонников, то причисляем их к революционерам. Они ничего не объясняют, а занимаются лишь отрицанием. Их справедливо отнести к приверженцам насильственного разрыва органических связей между философией и правом, поскольку необходимость в расколе у них не основана на онтологических предпосылках и не проистекает из устойчивой жизненной потребности. Свое отрицание каждый раз оправдывают лишь отвлеченностью философского знания и его непригодностью для правоприменительных процессов.
Если имеем ввиду позицию Г. Ф. Шершеневича, то относим его к эволюционерам, отмечавшим естественный характер размежевания философии и науки, в том числе правовой, которое имеет давнюю историю. Эволюционируя перманентно, их расхождение временами происходило по вине либо самой философии, либо права. По свидетельству юриста, в некоторые периоды философия настолько резво отрывалась от науки и самоуверенно пыталась достичь цели познания, что взбиралась на крайние высоты метафизической спекуляции и горделиво поглядывала на кропотливую деятельность ученых16. То есть процесс отрыва дисциплин носил не оголтелый характер, а был вызван их внутренними концептуальными построениями. При этом здесь отрицания не было, а происходило дистанцирование дисциплин друг от друга, порой на весьма удаленное расстояние.
С революционным подходом более или менее все понятно. Его ультимативность и безапелляционность не вызывает много вопросов. Сложнее дело состоит с эволюционным подходом. Познание его закономерностей требует выяснения факторов, изнутри влияющих как на философию, так и на право. С философией разобрался Г. Ф. Шершеневич. Он подметил в ней любовь к абстракции, умение работать с которой на самом деле является сильной стороной философии, а не ее слабостью, как принято считать. Философия нуждается в абстракции, поскольку призвана разумом работать с разными масштабами бытия. С целью полного охвата осмысливаемых процессов философия порой прибегает к такой силе фокуса, что право в нем размывается со всей социальной реальностью. Не исключается из нее, а лишь сливается с действительностью. Что же в праве побуждает его уходить от философии?
М. Хайдеггер о праве не думал. Но, размышляя о науке в целом, он дал искомый ответ. Предложил задуматься о том, как часто в уголовном правоведении задаются вопросом о том, что есть философия и философствование. Вместе с тем только неустанная рефлексия над этим вопросом, по убеждению мыслителя, может: 1) удержать науку от провала перед философией и непризнания ее глубочайшего существа; 2) избавить от иллюзии того, что метафизика есть предрассудок, а философия – суеверие; 3) помочь увидеть философию в лицо и не терять ее из виду, не увиливать перед ней, не ускользать от нее как таковой и не вставать на окольные пути17.
Ответ на актуализированный М. Хайдеггером вопрос дал С. В. Познышев, отметив, что последние дискуссии о метафизической данности он наблюдал в XVIII – первой четверти XIX в., когда было живо и актуально наследие И. Канта и Г. Гегеля18. С тех пор, по свидетельству П. Л. Лаврова, «философских школ у нас не было, а были философствующие единицы, и те приносили очень мало своего, развивая большей частью предмет по миросозерцанию того или другого германского философа». В этих обстоятельствах «не мудрено, что наше общество связывает со словом философия и философ часто очень невыгодные представления… о чем-то весьма темном, трудном, доступном лишь немногим специалистам». В общем «предмет, наполненный полупонятными или вовсе не понятными выражениями, представился обществу как нечто туманное, чуждое, как предмет, составляющий специальность нескольких человек, а остальным вовсе не нужный»19.
В обозначенных условиях российская наука из двух ключевых определений, если руководствоваться классификацией В. С. Соловьева, выбрала то, где философия раскрывается только как теория, не имеющая «никакой прямой внутренней связи с жизнью личной и общественной…». Понятие, в котором философия есть более чем теория и представлена как дело жизни, требующее для своей реализации особенного нравственного настроения, художественного чувства и силы воображения, осталось не познанным и не узнанным. Российское правоведение на пути своего становления даже не задалось вопросом какая из этих двух дефиниций есть истинная? Отсутствие подлинного вопрошания относительно философии и философствования привело уголовно-правовую науку к тому, что она стала руководствоваться, выражаясь словами В. С. Соловьева, мнением «большинства людей» и разговорным языком, в которых философия понимается согласно первому значению. В научном обороте за основу взято т.н. ходячее понятие, не отвечающее «требованиям более развитого мышления»20.
Слепое следование общеупотребимому понятию философии, в котором всякое философствование отрицается, не прошло бесследно. Избранный путь незримо сделал науку пленником определенного философского концепта. Она оказалась загнанной в узкий коридор воззрений первого типа, где полагают, что «основной предмет философии лежит во внешнем мире, в сфере материальной природы и соответственно этому настоящим источником познания считают внешний опыт, то есть тот, который мы имеем посредством нашего обыкновенного чувственного сознания. По предполагаемому им предмету философии этот тип может быть назван натурализмом, по признаваемому же им источнику познания – внешним эмпиризмом»21.
«Нужна, но пока еще не видна»
С позиции К. Труммера, на пути философского познания сущности уголовного права стоят другие барьеры. Наказание и его таинственные цели, на которых остановился К. Велькер, не являются препятствием, затрудняющим философско-правовой синтез. Сформулированные ученым преграды иного рода. Их можно объединить в единую триаду, включающую в себя онтологический, гносеологический и аксиологический аспекты. Так, по убеждению К. Труммера, философы много рассуждали об уголовном праве, но предварительно никак не обосновали само это право. То есть без познания его бытийных основ специалисты принялись рассуждать о его производных феноменах – преступлении и наказании. Далее, утверждает К. Труммер, они абсолютизировали метод частного права, безоговорочно экстраполировав его на публичное право. Допустили тем самым эпистемологический перекос, безосновательно и неоправданно изъяв из собственных теоретических соображений публичный фактор. Затем оставили в стороне государство как существенное условие права. Исключили, таким образом, ключевого субъекта из состава уголовного правоотношения, призванного наряду с его другими участниками сквозь призму свойственных им ценностей оценивать опасность и виновность, а в целом преступность и наказуемость содеянного.
Подобного рода суждения были в меньшинстве в давние времена ученого и почти не звучат сегодня. Наиболее взвешенные позиции, иными словами, продолжают пребывать в меньшинстве. Здравомыслие пока остается на уровне демонстрации своего скромного присутствия и выражения сожаления о недостойном отношении к философии. Причины сложившегося положения вскрыл А. Н. Савенков. Ученый, в частности, обратил внимание на существующий в науке крен, где с философских позиций проблемами отраслевого правоведения практически никто не занимается. Специализированное знание отдано на откуп отраслевикам, их взглядам на право с предметно-прикладных позиций. Референция полученных результатов на более высоких уровнях познания, в рамках мировоззренческих систем координат и непозитивистских научных парадигм не производится22.
Схожий диагноз правоведению дал В. Л. Шульц. Применительно к конкретным и ключевым отраслям права, отметил он, философская рефлексия в науке не получает должного развития по двум причинами. Во-первых, общая теория права не поддерживает продвижение философской рефлексии в анналы права. Во-вторых, «невысокое положение философии в науке уголовного права объяснил издержками того типа рациональности, который криминалисты однажды выбрали и бессменно эксплуатируют в качестве “путеводной нити”. Речь идет о позитивизме, в оковах которого оказалась теория права. По его настоянию она выдворила из своих источников философию и исчерпала сегодня возможность полноценно оценивать окружающую реальность»23.
А. А. Гусейнов согласился с мнением об уголовно-правовой науке, оказавшейся во власти юридического позитивизма. Ее принципиальная антифилософская установка привела к сужению уголовно-правового взгляда. Предмет последнего сузился до пределов, описываемых понятиями преступления и наказания, рассматриваемыми к тому же в качестве сугубо эмпирических феноменов. Вместе с тем, отметил ученый, «преступления и наказания, как и все другие сопряженные с ними явления, нельзя рассматривать просто как факты. Их надо рассматривать как “человеческие факты”», т. е. через аспект долженствования, который должен выступать «не как внешнее ограничение уголовного права, а как его внутреннее требование»24.
Озвучиваемое в узких научных кругах обвинение уголовно-правовой дисциплины в скатывании к позитивизму И. Ю. Козлихин не счел случайным и безосновательным. Ей сегодня, отмечает правовед, свойственны те ограничения, что присущи позитивизму. Во-первых, позитивизм исключил из «повестки дня» о праве значительный пласт вопросов. Например, не стал проводить различие между «сущим» и «должным», о чем справедливо упоминал А. А. Гусейнов. Отдал приоритет познанию реально существующих фактов над изучением спекуляций о должном. Во-вторых, в рамках позитивизма взятые как эмпирический факт нормы права изучаются как таковые и не подлежат оценке посредством какого-либо метаюридического (долженствующего) критерия25. Уровень должного в праве, таким образом, замещается оценкой его эффективности. Право из права, иными словами, вымывается. Пропозитивистский подход предсказуемо привел уголовно-правовое мировоззрение к игнорированию онтологии собственной отрасли права.
Как следствие, в рядах криминалистов сегодня найдется немного специалистов, убежденных в нужности философии для уголовного права. Хотя «наука уголовного права всегда опиралась на философские учения и концепции, используя их для развития основополагающих представлений о преступлении и наказании»26, – справедливо заметила О. Л. Дубовик. Аналогичной позиции придерживался А. Э. Жалинский. При этом он дополнил ее взгляд, когда отметил, что не только правоведение не обходится без философии, но и философия без уголовного права. «Именно уголовно-правовая материя является одной из основ как великих философских систем, так и философии модернизма и постмодернизма»27. Влияние дисциплин друг на друга взаимообоюдно. Подходя иначе к отношениям этих предметов, юристы изменяют, как отметил П. Н. Панченко, «той исторической традиции, в соответствии с которой юристы и философы, начиная еще с древнейших времен, всегда шли в своих исследованиях рядом, рука об руку, взаимно обогащаясь и глубоко вникая в суть изучаемых явлений»28.
К числу сведущих, безусловно, относится Ю. В. Голик, твердо осознающий, что «сегодня именно философская подготовка нужна при изучении права в целом и уголовного права в том числе»29. Вместе с тем, с сожалением отмечал юрист-отраслевик, современная наука уголовного права не разделяет дружбы с философией и в основном руководствуется прямо противоположными взглядами на полезность взаимодействия с ней. Проблема состоит в системе протонаучных установок, о которых говорил В. Л. Шульц как о типе рациональности. На их основе, часто неосознанно, специалисты конструируют уголовное право. Сегодня эту систему отличает локализованность и ситуативность, т. е. те качества, которые выступают показателям и доминирования в умах криминалистов позитивистских настроек. В лучших традициях позитивизма изменения в структуре и нормах уголовного права объясняют конкретно историческими событиями, волей и предпочтениями действующей власти. Этот подход позволяет без углубления в природу социальной материи оперативно отвечать на повседневные вопросы: кто виноват, что и кому делать. Позитивистский подход в итоге востребован в основном за счет своей наглядности и удобства, а не по причине познавательной полезности и полноценности30.
Последствия утраты связи права с философией
Лишь некоторые криминалисты услышали вышеизложенные сигналы тревоги и возникшую на общетеоретическом уровне обеспокоенность, придав им должное значение. Они не остановились на пороках уголовно-правовой мысли, а пошли с ней в жизнь для проверки выявленных рисков на предмет их состоятельности. Отважились вооружиться выдвинутыми наблюдениями и подвергнуть ревизии уголовный закон и практику его реализации. По итогам обнаружили, что «вычищение», «выдворение» и «исключение» философской мысли из состава отраслевого знания дало плоды. К одному из главных последствий относится утрата криминалистами способности понимать философскую идею, в чем нежеланно и в основном кулуарно признаются авторы большинства учебников. То есть проблема зашла настолько далеко, что уже коснулась не обучаемых, а обучающих. Последние избавили себя от обсуждения полезности философии и сомнений в ней. Не жалуясь на ее модификацию в сторону труднодоступности в самовыражении, они безмолвно и долгие десятилетия исключают параграфы с философией из состава учебной литературы. Тем самым показывают и доказывают утрату криминалистами навыков работы с философскими концепциями, дешифровки их замысла, адаптации к юридическим теориям и правовой жизни в целом.
Схожие последствия наступили в сферах правотворчества и правоприменения. По наблюдениям А. И. Рарога, например, положения уголовного кодекса на практике зачастую толкуются с позитивистских позиций, что приводит к искажению и даже к извращению их сущности. В качестве наглядного и убедительного примера ученый привел институт необходимой обороны. Доминирующее на практике утилитарно-позитивистское восприятие уголовно-правовой действительности открыло дорогу к трансформации «нормы о непреступности необходимой обороны в свою противоположность: защита из правомерной искусственно превращается в преступную»31.
В сферу практики также вышел Ю. В. Голик. Отмечая проблемы, первостепенно требующие философского осмысления, юрист вывел десистематизацию уголовного законодательства, обезнаучивание уголовного права, а также меняющуюся структуру и характер преступности. С криминалистом нельзя не согласиться. Однако его понимание хотелось бы дополнить рядом вопросов, которые объясняют не только текущую востребованность онтологического инструментария, но и раскрывают предпосылки возникновения десистематизации и обезнаучивания. Не наступили ли эти последствия по причине движения правовой мысли вне философского миропонимания? То есть из-за отсутствия в научно-практической орбите права метафизического взгляда, отвечающего за цельность и целостность, за междисциплинарность и связанность с иными отраслями знания? Не по этой ли причине сама наука перестала ощущать протекающие в ней процессы обезнаучивания? Криминалист напрямую не задался актуализированными вопросами, но по сути он на них ответил, когда по итогам исследования заключил о том, что «в современный период времени без использования основ философии невозможно ни создать современное законодательство, ни организовать должным образом борьбу с преступностью», «без философского осмысления стремительно меняющейся реальности нам просто не обойтись»32.
И. Ю. Козлихин пошел еще дальше и заявил об обесчеловечивании как о возможном последствии для уголовного права, разделяющего позитивистские принципы. На движение к такому исходу уже частично обратил внимание А. И. Рарог. Однако И. Ю. Козлихин добавил аргументов. Он указал на то, что при позитивизме человек противопоказан юридической системе. Его включение в систему, тем более в качестве ее «ядра», лишает последнюю качеств «системы». Индивид воспринимается как ее «разрушитель», поскольку он является носителем не только рационального, но и иррационального. Поэтому позитивизм целенаправленно вытесняет человека для обеспечения устойчивости и стабильности системы, сохранения ее целостности33.
Заключение
Позиции К. Велькера и К. Труммера, как показало исследование, отождествимы лишь настолько, чтобы констатировать свою несравнимость. Но на этом выводе польза от их сравнения не исчерпывается. Вскрыто еще то, что подходы ученых XIX в. живы и актуальны, поскольку имели своих последователей в XX в. и продолжают иметь сторонников в XXI в. Более того, с обозначенных пор в умах криминалистов не изменился баланс проанализированных направлений. Одно (позитивизм) – заполонило умы, а другое (идеализм) – не получило должного внимания и развития. Вместе с тем, последнее направление, видным предводителем которого в уголовном праве являлся К. Труммер, имеет не менее состоятельные и самодостаточные основания.
С их позиции К. Труммер дал предельно четкое и лаконичное определение уголовному праву как объекту философского познания. Оно, с его точки зрения, одно из «важнейших человеческих отношений». В этом отношении доминирует отношение, состоящее из прав и обязанностей его субъектов, а не трагическая пустота, исходящая от преступления. Формирование и обоснование этого отношения зависит не от действий властей, как об этом заявил К. Велькер, а от взаимного стремления государства и его членов к нравственному совершенствованию. Здесь же он не разделил обвинения, выдвинутые против философских систем, и тем более не поддержал их противопоставление опыту. Заметил, что опыт является лишь пробным камнем этих систем, а сами системы предназначены для поиска высоких и священных устремлений человечества, скрытых в пределах реальности.
Сравнение противоположных взглядов также показало, что отрицание философии и дистанцирование от нее есть патология уголовно-правовой науки, основанной на позитивизме. Дело не в абстрактности философии, а в настроенности науки уголовного права на самоустраненное отношение к действительности, в ориентированности на ее частичное восприятие. Не случайно О. Л. Дубовик к недостаткам уголовно-правового познания отнесла статичные мировоззренческие установки, неадаптивность субъектов познания и несовершенство используемой ими методологии34. Философия используется ими лишь для прикрытия того, что на самом деле право прячется от реальности и от человека как ее творца. Философия не может затруднять доступ к действительности, поскольку испокон веков ее знания помогали отраслям права преодолевать их узкометодологическую и предметную обособленность35. Философия не в силах ограничить взор на реальность, так как ее прямое предназначению состоит в охвате всей действительности и в ее концептуализации.
Более того, философия нужна для работы с уголовно-правовым мировоззрением, которое наука не выделяет в качестве объекта своего эпистемологического интереса. Она предназначена для обеспечения связи отрасли с человеком и решения проблемы с обесчеловечиванием уголовного права. Без философии уголовное право рискует утратить место в целостной картине мира и связь своих целей с конечными целями бытия.
Нельзя, правда, забывать, что сама философия также может быть подвергнута позитивизму. В этом случае она, как правило, теряет связь с метафизикой, которая из философии делает подлинную философию, и становится реально вредной для права. Утрачивая метафизический характер, как справедливо отмечает А. Н. Савенков, «философия права превращается в общую теорию права»36. Опыт и одной и другой дисциплины в конечном счете свидетельствует о недопустимости пренебрежения словами Б. Боуна о метафизике, лежащей в основе всего мышления и всей науки. Вольно или невольно мы все включены в метафизику. Мнимый отказ от нее влечет наступление механического или материалистического фатализма37.
1 Trummer Carl. Zur Philosophie des Rechts und insbesondere des Strafrechts. 1827.
2 Велькер К. Последние основы права, государства и наказания. Гессен, 1813. С. 8.
3 Кант И. Соч.: в 8 т. М., 1994. Т. 6. С. 226.
4 См., напр.: Кибальник А. Г. Традиции и новации в уголовном праве: очевидное и невероятное // Библиотека криминалиста. 2015. № 5 (22). С. 70–74.
5 См.: Хилюта В. В. Философия и уголовное право: постановка вопроса // Право и образование. 2019. № 5. С. 123.
6 Там же. С. 127.
7 Такого мнения, например, придерживался П. Д. Баренбойм (см.: Гусейнов А. А., Стёпин В. С., Смирнов А. В. и др. Пути развития философии права в России // Росс. журнал правовых исследований. 2017. Т. 3. № 1 (10). С. 41).
8 Горбань В. С. Зачем философия права сегодня // Теория и практика общественного развития. 2018. № 12 (130). С. 99–103.
9 См., напр.: Наумов А. В., Флетчер Д. Основные концепции современного уголовного права. М., 1998; Малинин В. Б. Причинная связь в уголовном праве. СПб., 2000.
10 Досюкова Т. В. Философский метод науки уголовного права: постановка проблемы // Правовая культура. 2009. № 1 (6). С. 6–12.
11 Груздев В. С. Реализм в юриспруденции: теоретико-методологический и исторический аспекты: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2021. С. 4.
12 См.: Эйнштейн А. Физика и реальность: сб. ст. М., 1965.
13 Груздев В. С. Указ. соч. С. 5.
14 См.: Лунеев В. В. Наука криминального цикла и криминологические реалии // Криминологический журнал Байкальского гос. ун-та экономики и права. 2007. № 1–2. С. 6–24.
15 Лунеев В. В. Теории права и их соотношение с реалиями жизни // Росс. журнал правовых исследований. 2015. Т. 2. № 1 (2). С. 19–23.
16 См.: Шершеневич Г. Ф. Философия права. Т. I. Часть теоретическая. Общая теория права. М., 1910. Вып. 1. С. 3.
17 См.: Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. Мир-конечность-одиночество. СПб., 2013. С. 26.
18 См.: Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть. 2-изд., испр. и доп. М., 1912. С. 13.
19 Лавров П. Л. Три беседы о современном значении философии, 1860. Беседа первая. Что такое философия в знании? // Философия и социология: избр. произв.: в 2 т. M., 1965. Т. 1.
20 Соловьев В. С. Философские начала цельного знания // Соловьев В. С. Соч.: в 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 23.
21 Соловьев В.С. Указ. соч. С. 26.
22 См.: Савенков А. Н. Предисловие // Бочкарев С. А. Гносеология уголовного права. М., 2021. С. 10.
23 Шульц В. Л. Философская рефлексия отраслей права // Росс. журнал правовых исследований. 2021. Т. 8. № 3. С. 121.
24 Гусейнов А. А. Слово рецензента // Бочкарев С. А. Философия уголовного права: постановка вопроса. М., 2019. С. 5.
25 См.: Козлихин И. Ю. Отзыв официального оппонента // Журнал прикладных исследований. 2020. № 4–2. С. 84–91.
26 Дубовик О. Л. Наука уголовного права и философские учения // Труды ИГП РАН. 2019. Т. 14. № 4. С. 181.
27 Жалинский А. Э. Наука современного уголовного права // Современное уголовное право и криминология / отв. ред. А. Э. Жалинский. М., 2007. С. 9.
28 Панченко П. Н. Уголовное право в философском понимании // Вестник Сибирского юридического ин-та МВД России. 2008. № 1. С. 19.
29 Голик Ю. В. Нужна ли философия уголовному праву // Юридическая орбита. 2021. № 1. С. 251.
30 См.: Голик Ю. В. Отзыв официального оппонента // Пенитенциарная наука. 2020. Т. 14. № 4. С. 534.
31 Рарог А. И. Возможность похорон уголовно-правовой науки под траурный марш позитивизма // Вестник Университета прокуратуры РФ. 2019. № 4 (72). С. 130.
32 Голик Ю. В. Философия, нравственность, борьба с преступностью // Журнал росс. права. 2021. Т. 25. № 12. С. 5.
33 См.: Козлихин И. Ю. Указ. соч. С. 84–91.
34 См.: Дубовик О. Л. Указ. соч. С. 179.
35 См.: Исаков В. Б. Отзыв официального оппонента // Журнал прикладных исследований. 2020. № 3. С. 63–69.
36 Савенков А. Н. Глобальный кризис современности как предмет философии права // Государство и право. 2019. № 4. С. 6.
37 См.: Bowne B. P. Metaphysics. NY; Cincinnati; Chicago, 1882. Pp. V–VI.
About the authors
Sergey A. Bochkarev
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: bo4karvs@yandex.ru
Doctor of Law, Chief Researcher, Institute of State and Law
Russian Federation, MoscowReferences
- Welker K. The latest foundations of law, state and punishment. Hessen, 1813. P. 8 (in Russ.).
- Golik Yu. V. Is philosophy necessary for Criminal Law // Legal orbit. 2021. No. 1. P. 251 (in Russ.).
- Golik Yu. V. Review of the official opponent // Penitentiary science. 2020. Vol. 14. No. 4. P. 534 (in Russ.).
- Golik Yu. V. Philosophy, morality, fight against crime // Journal of Russ. law. 2021. Vol. 25. No. 12. P. 5 (in Russ.).
- Gorban V. S. Why the Philosophy of Law today // Theory and practice of social development. 2018. No. 12 (130). Pp. 99–103 (in Russ.).
- Gruzdev V. S. Realism in jurisprudence: theoretical, methodological and historical aspects: abstract … Doctor of Law. M., 2021. Pp. 4, 5 (in Russ.).
- Guseinov A. A. The word of the reviewer // Bochkarev S. A. Philosophy of Criminal Law: posing a question. M., 2019. P. 5 (in Russ.).
- Guseinov A. A., Stepin V. S., Smirnov A. V. et al. Ways of developing the Philosophy of Law in Russia // Russ. Journal of Legal Studies. 2017. Vol. 3. No. 1 (10). P. 41 (in Russ.).
- Dosyukova T. V. Philosophical method of the science of Criminal Law: formulation of the problem // Legal culture. 2009. No. 1 (6). Pp. 6–12 (in Russ.).
- Dubovik O. L. The science of Criminal Law and philosophical teachings // Proceedings of the IGP RAS. 2019. Vol. 14. No. 4. Pp. 179, 181 (in Russ.).
- Zhalinsky A. E. The science of modern Criminal Law // Modern Criminal Law and Criminology / res. ed. A. E. Zhalinsky. M., 2007. P. 9 (in Russ.).
- Isakov V. B. Review of the official opponent // Journal of Applied Research. 2020. No. 3. Pp. 63–69 (in Russ.).
- Kant I. Essays: in 8 vols. M., 1994. Vol. 6. P. 226 (in Russ.).
- Kibalnik A. G. Traditions and innovations in Criminal Law: the obvious and the incredible // Library of criminalist. 2015. No. 5 (22). Pp. 70–74 (in Russ.).
- Kozlikhin I. Yu. Review of the official opponent // Journal of Applied Research. 2020. No. 4–2. Pp. 84–91 (in Russ.).
- Lavrov P. L. Three conversations on the modern meaning of philosophy, 1860. The first conversation. What is philosophia in knowledge? // Philosophy and Sociology: selected proc.: in 2 vols. M., 1965. Vol. 1 (in Russ.).
- Luneev V. V. Science of the criminal cycle and criminological realities // Criminological Journal of the Baikal State University of Economics and Law. 2007. No. 1–2. Pp. 6–24 (in Russ.).
- Luneev V. V. Theories of law and their correlation with the realities of life // Russ. Journal of Legal Research. 2015. Vol. 2. No. 1 (2). Pp. 19–23 (in Russ.).
- Malinin V. B. Causal relationship in Criminal Law. SPb., 2000 (in Russ.).
- Naumov A. V., Fletcher D. Basic concepts of modern Criminal Law. M., 1998 (in Russ.).
- Panchenko P. N. Criminal Law in philosophical understanding // Herald of the Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2008. No. 1. P. 19 (in Russ.).
- Poznyshev S. V. The basic principles of the science of Criminal Law. The General part. 2nd ed., rev. and add. M., 1912. P. 13 (in Russ.).
- Rarog A. I. The possibility of burying criminal law science under the funeral march of positivism // Herald of the University of the Prosecutor’s Office of the Russian Federation. 2019. No. 4 (72). P. 130 (in Russ.).
- Savenkov A. N. The global crisis of modernity as a subject of Philosophy of Law // State and Law. 2019. No. 4. P. 6 (in Russ.).
- Savenkov A. N. Preface // Bochkarev S. A. Gnoseology of Criminal Law. M., 2021. P. 10 (in Russ.).
- Solovyov V. S. Philosophical principles of integral knowledge // Solovyov V. S. Essays: in 2 vols. M., 1988. Vol. 2. Pp. 23, 26 (in Russ.).
- Heidegger M. The basic concepts of metaphysics. World-finiteness-loneliness. SPb., 2013. P. 26 (in Russ.).
- Khilyuta V. V. Philosophy and Criminal Law: posing a question // Law and education. 2019. No. 5. Pp. 123, 127 (in Russ.).
- Shershenevich G. F. Philosophy of Law. Vol. I. Theoretical part. General theory of law. M., 1910. Iss. 1. P. 3 (in Russ.).
- Shults V. L. Philosophical reflection of branches of law // Russ. journal of Legal Studies. 2021. Vol. 8. No. 3. P. 121 (in Russ.).
- Einstein A. Physics and reality: collection of arts. M., 1965 (in Russ.).
- Bowne B. P. Metaphysics. NY; Cincinnati; Chicago, 1882. Pp. V–VI.
- Trummer Carl. Zur Philosophie des Rechts und insbesondere des Strafrechts. 1827.
Supplementary files